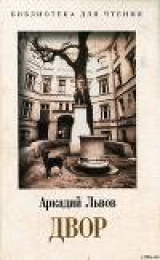
Текст книги "Двор. Книга 1"
Автор книги: Аркадий Львов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Лапидис побледнел, было впечатление, что человеку нехорошо, Аня Котляр подала ему стакан воды, он отказался, но она поднесла совсем близко к его губам и прошептала: «Я вас прошу, выпейте». Лапидис сделал глоток, Иосиф Котляр громко сказал ему спасибо, люди улыбнулись, а сама Аня покраснела и опустила голову.
– Лапидис, – весело обратился Дегтярь, – когда мужчина получает такую поддержку, он находит силы активничать целые сутки, как в турецком меджлисе!
– Овсеич, – ответил, наконец, Лапидис, – здесь не меджлис, и мы не турки. Мы советские люди, у нас есть Конституция, Основной Закон СССР. Так давайте уважать свою Конституцию. Никто не дал нам права превращать товарищеский суд в дворовый самосуд. А разбил мое стекло Чеперуха или не разбил – это наше личное с ним дело, и мы обойдемся без посредников.
– Самосуд! – воскликнул Иона Овсеич. – Какое слово ты выбрал: самосуд! Нет, гражданин Лапидис, твое стекло – это твое личное дело, но как ведет себя Чеперуха – это наше общее дело. Позавчера он разбил стекло у тебя, вчера он не захотел посещать кружок у нас, сегодня бросился с топором на жену и соседей, а завтра…
Иона Овсеич вдруг остановился, лицо у него сделалось белое, как мел, от полной неожиданности на всех нашел столбняк, но через минуту люди могли уже вздохнуть с облегчением: лицо немножко порозовело, Иона Овсеич вытер платком пот со лба и закончил свою мысль насчет завтра, когда будет наверняка поздно, если не принять меры сегодня.
– Товарищи жильцы и соседи, – Чеперуха ударил себя кулаками в грудь, – клянусь своей жизнью, клянусь своей покойной мамой и здоровьем своего родного сына: это был последний раз. Если когда-нибудь повторится, мне останется одна дорога – на Соловки.
– Та-та-та, – перебила его Клава Ивановна, – три года назад ты уже давал обещание, и тебе поверили, три года люди терпели твои штуки, а теперь пришел конец, и домком вносит предложение выселить Иону Чеперуху из Одессы.
– Покажите протокол домкома, – крикнул с места Лапидис.
Клава Ивановна махнула рукой и повторила, что вносится предложение выселить Иону Аврумовича Чеперуху из Одессы, а жена и сын пусть решают сами: хотят ехать тоже – пусть едут, хотят оставаться – пусть остаются.
– Товарищи, – обратился Иона Овсеич, – кто за это предложение? Голосуют только жильцы дома. Не обязательно голосовать «за» или «против», желающие могут воздержаться.
– Ни за, ни против, – вскочил Граник, – это получится, как у Троцкого в Бресте: ни мира, ни войны.
– Давайте не умничать, Ефим Граник, – одернул товарищ Дегтярь. – Не время.
Степа Хомицкий сказал, у него есть предложение провести тайное голосование, доктор Ланда поддержал его, но Иосиф Котляр категорически заявил, что он против: по такому вопросу не надо делать хвостом одно, а зубами – другое.
– Принимается предложение Котляра, – объявил председатель. – Повторяю: никто не заставляет говорить «да» или «нет», но пусть каждый выскажется открыто, играть в прятки не будем.
Оля Чеперуха, у которой от стыда и переживаний щеки горели, как будто обожгла на солнце, спросила: ей тоже надо голосовать или не обязательно? Иона Овсеич в третий раз повторил, каждый имеет право поступать по своему усмотрению, никто не навязывает, но общественность, в свою очередь, также вправе дать собственную оценку поведению каждого жильца в отдельности. Тем более, в случае Оли Чеперухи, когда коллектив встал на ее защиту.
Большинство было целиком согласно с председателем, и можно было приступить к голосованию, но Степа Хомицкий опять, причем в этот раз его поддержал доктор Ланда, влез со своим вопросом: решение товарищеского суда является окончательным или подлежит утверждению в горсовете?
– Хомицкий, – разозлился не на шутку Иона Овсеич, – ты меня ставишь в тупик своими вопросами: люди могут подумать, что сознательно организуется обструкция, а доктор Ланда входит с тобой в коалицию.
Доктор Ланда состроил удивленное лицо – откуда коалиция! – предложил подвести черту и приступить к голосованию.
Голосование прошло организованно. Поскольку подавляющее большинство было «за», персональный подсчет сделали только тем, кто поднял руку «против» или воздержался. Против были трое: Лапидис, Граник и Хомицкий; воздержались тоже трое: доктор Ланда, Аня Котляр и Оля Чеперуха. Иосиф Котляр смотрел на свою жену, как будто увидел ее в первый раз.
Когда председатель огласил, по итогам голосования, решение товарищеского суда о выселении гражданина Чеперухи из города Одессы, Иона вдруг подскочил к столу, обозвал присутствующих нецензурными словами, потом распалился еще больше, закричал своим биндюжническим голосом, что здесь блядь на бляди сидит и блядь погоняет, схватил графин и размахнулся, прицеливаясь в председателя суда товарища Дегтяря. От полной неожиданности люди остолбенели, один доктор Ланда вскочил, схватил Чеперуху за руку и потребовал, чтобы тот немедленно поставил графин на место, иначе он разобьет о его собственную голову.
Такого грубого обращения от доктора Ланды никто не ожидал, но самое удивительное, что Иона послушался, поставил графин на место, мало того, тут же бросился на колени, стукнулся, как припадочный, лбом об пол, раз, другой, третий, и запричитал тонким голосом, как плакальщицы на еврейских похоронах.
Дегтярь уже целиком пришел в себя, приказал Степе и Ефиму поднять этого человека с земли и удалить вон: больше он здесь не нужен. Чеперуха сопротивлялся, называл себя последними словами, кричал, что он хочет извиниться перед своими соседями, но Иона Овсеич лишь повторил свой приказ, причем нечаянно оговорился, так что вместо «удалить вон» послышалось «удалить вонь».
Оля сидела с пустыми глазами, люди старались не смотреть на нее, потому что от чужого взгляда человеку в ее состоянии делается еще хуже.
Клава Ивановна сказала, только врагу своему можно пожелать такого мужа, такого отца, но, с другой стороны, надо прямо записать в решении, что жильцы дома, и в первую очередь его актив, своим равнодушием и беспечностью позволили Чеперухе дойти до того положения, когда человек стал антиобщественным элементом. Ланда, Хомицкий и еще некоторые поддержали Клаву Ивановну, остальные сидели молча.
– Товарищи, – обратился Иона Овсеич, – я не согласен с формулировкой члена суда Малой как с фактической стороны, так с принципиальной. Почему с фактической, вы сами хорошо знаете, сколько с Чеперухой возились, и не будем повторяться, а с принципиальной, то есть политической, никто не давал нам права охаивать огульно целый коллектив из-за одной паршивой овцы! Больше того, мы обязаны заботиться, чтобы опасная зараза не перешла на других. Иосиф Котляр, когда во время гражданской войны вследствие ранения у него получилась гангрена левой ноги, сказал докторам, пусть отрежут ногу. В противном случае Иосиф Котляр не сидел бы сегодня среди нас.
Люди обернулись на Котляра, он медленно качал головой, в глазах была такая тоска, что без добавочных объяснений хорошо было видно: Дегтярь взял свой пример не с потолка, а из самой жизни.
– Овсеич, – Лапидис самовольно, без разрешения, поднялся и пошел прямо к дверям, – позволь сказать тебе и высокому собранию адье: в двадцать один час, ежедневно, я имею привычку принимать кефир. Рекомендую каждому. Адье!
– Лапидис, – крикнул вдогонку Ефим Граник, – а где ты достаешь каждый день кефир?
Где Лапидис достает каждый день кефир, Ефим спросил просто так: ни для кого не было секретом, что судоремонтный завод Марти и порт имеют на своей территории буфеты, которые снабжаются по линии торгмортранса, обслуживающего суда загранплавания.
На другое утро Колька Хомицкий сказал Зюнчику, что батьку вышлют куда-нибудь в район, пусть поработает в колхозе, а через три года, если он докажет честным трудом, можно будет вернуться в Одессу.
– А на что мы будем жить? – спросил Зюнчик.
– Чудак! – засмеялся Колька. – У него же всю зарплату будут забирать на алименты семье.
– А он на что будет жить? – удивился Зюнчик.
– Чудак! – опять засмеялся Колька. – Деревня не город, там в магазине покупают материю в крапочку и велосипеды, а яйца и сало каждый имеет у себя в хате.
Зюнчик сказал, что можно бы пожить и в деревне, но мама не хочет: в Одессе потерять квартиру – потом двадцать лет обратно проситься будешь. А батя шлепает себя ладонью по ширинке и клянется, что заведет другую жинку. А тебя, говорит, сукин сын мой Зюня, из пекла достану, из гроба, но сделаю человеком.
– Псих! – засмеялся Колька. – СССР от Черного моря до Тихого океана – пусть поищет!
– Не, – сказал Зюнчик, – я в Испанию уеду.
– В Испанию? – удивился Колька, – В Испанию теперь нельзя: там теперь мятежники и генерал Франко.
Зюнчик захохотал: плевать мы хотели на Франко – рабочие только ждут момента!
Насчет рабочих, которые только ждут момента, Колька не возражал, но загвоздка была в другом: раньше, когда в Испании была гражданская война, из Одессы ходили пароходы с оружием и продуктами для республиканцев, а теперь не ходят.
Нет, сказал Зюнчик, один пацан с Военного спуска сам лично видел, что теперь тоже ходят, только втихаря.
Решение товарищеского суда о выселении Ионы Чеперухи переслали в горисполком, копию – Сталинскому райсовету депутатов трудящихся. Райсовет через неделю дал свое добро, из горсовета ответа не было.
Иона каждый вечер возвращался домой трезвый, и Клава Ивановна сама признавала, что теперь он тише воды, ниже травы, дай бог всем нашим людям держать такую дисциплину. Перед выходным наметили занятие по краткому курсу для самостоятельно изучающих, Чеперуха переоделся в новый шерстяной костюм, вежливо поздоровался с соседями и занял свободное место в заднем ряду.
Дегтярь, когда открыл дверь и увидел Чеперуху, на секунду остановился, потом быстро прошел к столу, положил блокнот, объявил сегодняшнюю тему и вдруг, пока люди записывали, обратился к Малой: на каком основании она, как староста кружка, допустила к занятиям гражданина Чеперуху, который решением товарищеского суда выселяется из нашего дома и города Одессы? Клава Ивановна ответила тут же: если бы человека присудили к расстрелу – тогда другое дело, а так от занятия ему будет только польза.
– Значит, – сказал Иона Овсеич, – правая рука не знает, что делает левая: в огороде – бузина, в Киеве – дядька. И куда мы так дойдем, Малая?
Люди, и сам Чеперуха, молчали, потому что хорошо понимали: в словах Дегтяря есть резон. Одна Клава Ивановна упиралась и держалась за свое: если бы человека присудили к расстрелу – тогда другое дело, а так…
– Хватит, – перебил Дегтярь, – прекратим дискуссию. Гражданин Чеперуха, просим вас оставить помещение и впредь не заходить сюда.
Иона встал, оглянулся по сторонам, как будто ищет поддержки, и сказал плачущим голосом:
– Товарищ Дегтярь, клянусь своей жизнью, честное благородное слово…
– Гражданин Чеперуха, – повторил Иона Овсеич, – мы вторично просим оставить помещение и впредь не заходить!
– Ой-ой! – застонал Чеперуха, с трудом, как больной, поднялся со своего места и тихонько притворил дверь.
Иона Овсеич напомнил тему сегодняшнего занятия – работа Ленина «Шаг вперед, два шага назад» – и объявил, что позволяет себе начать прямо с цитаты, в которой Ленин разоблачает Мартова.
– Цитирую дословно: «Психология буржуазного интеллигента, который причисляет себя к „избранным душам“, стоящим выше массовой организации и массовой дисциплины, выступает здесь замечательно отчетливо… Интеллигентному индивидуализму… всякая пролетарская организация и дисциплина кажутся крепостным правом». Ленин, том VI, страница 282. В связи с этим, товарищи, вы уже сами, наверно, провели параллель, как иногда мы наблюдаем еще и сегодня, когда один выступает прямо и открыто против воли коллектива, а другой, по сути его единомышленник, воздерживается лишь по тактическим соображениям. Я хочу, чтобы вы поняли раз и навсегда, что марксизм не догма, а руководство к действию, и нет в жизни такого явления или такого факта, который бы не имел классового, политического содержания и значения. Мы не должны отворачиваться, не должны подмазывать и подкрашивать, но всегда, каждый день, каждый час, каждую секунду, мы обязаны помнить, что необдуманной критикой и самокритикой в свой адрес мы можем дать в руки врагу дополнительное оружие, и поэтому надо строго отличать критику от критиканства, самокритику от интеллигентского самобичевания и всякой достоевщины. Тося Хомицкая, ты записываешь в свою тетрадь или только притворяешься?
Тося сказала, что она не притворяется, и показала тетрадь. Иона Овсеич обратил внимание, что многие пользуются карандашом, хотя карандаш быстро стирается. Ляля Орлова подняла вверх свою автоматическую ручку, которая наполняется чернилами, Иона Овсеич одобрительно кивнул головой, но при этом добавил: ручка заграничная, не всякий может достать, и надо пользоваться обыкновенной с пером номер восемьдесят шесть, рондо, а лучше всего «ложечкой» – оно не так царапает бумагу и меньше скрипит. Соня Граник спросила, где достать «ложечку», если в магазине «Два слона», на Ленина, угол Жуковского, были только рондо, а восемьдесят шесть кончились, и ожидают не раньше следующего месяца.
– Ладно, – сказал Иона Овсеич, – тогда мы найдем другой выход: староста кружка товарищ Малая получит на руки отношение, с этим отношением она пойдет на базу культтоваров и получит партию ручек, перьев, резинок, тетрадей и хороших фарфоровых чернильниц-невыливаек. Можно взять немножко больше, чтобы нашим детям тоже хватило.
– Ой, Овсеич, – крикнула Дина Варгафтик, – чтоб ты нам жил двести лет!
Когда Клава Ивановна пришла с отношением на базу, заведующий встретил очень приветливо, оказалось, он лично знает товарища Дегтяря с февраля семнадцатого года, еще по первым совдепам, но в данном случае просил чуть потерпеть: со дня на день они ждут из Ленинграда вагон с канцтоварами.
Заведующий сказал правду, через две недели канцтовары поступили на базу, они поступили бы еще раньше, но события на Карельском перешейке заставили железные дороги, которые подходят к Ленинграду, перевозить другие грузы. Иона Овсеич предвидел эту задержку: еще до того как сообщили по радио, он дал понять, что финское правительство на все наши предложения отодвинуть границу от Ленинграда и передать в аренду полуостров Ханко за реальную компенсацию в любом пограничном районе нагло крутило носом, отвечая отказом. Тридцатого ноября финские войска, базируясь на «линии Маннергейма», которую совместно строили германские, французские и английские военспецы, совершили ряд провокаций на советской границе. Красная Армия перешла в наступление.
Аня Котляр, когда услышала про войну с Финляндией, первым делом испугалась за собственного Сашу и собственного Петю. Она была уверена, что Гитлер со своей Германией тоже нападет на СССР, но Иона Овсеич со всей ответственностью предупредил, чтобы она не наводила панику и прекратила провокационные разговоры, ибо СССР имеет с Германией пакт о ненападении, сроком на десять лет, подписанный товарищем Молотовым и Риббентропом. Что же касается Финляндии, то здесь вопрос дней: во всей Финляндии столько населения, сколько в одном Ленинграде, а в экономическом отношении это аграрно-индуст-риальная страна, с преобладанием лесного хозяйства и молочного животноводства.
На следующем занятии Иона Овсеич предупредил, что возможна некоторая оттяжка сроков: несмотря на очень сильные морозы, на границе с Финляндией имеются незамерзающие болота, которые мешают развернуться нашей коннице, танкам и броневикам.
В начале декабря значительные массы арктического воздуха достигли Одессы, на мостовых образовался плотный, с наледью, слой снега, и машины сильно буксовали. Чтобы не создавать очередей в магазинах, горсовет приказал отпускать по четыреста граммов хлеба на человека в день. Всем хозяйкам велели сшить мешочки, на лицевой стороне указать адрес, фамилию и полный состав семьи. Хлеб привозили на тачке прямо во двор, в течение дня кто-нибудь из семьи обязательно должен был оставаться дома, так как магазин не мог заранее предвидеть, когда именно прибудет хлеб из пекарни.
Одновременно каждому гражданину, в том числе неработающим и детям, выдавалось в месяц по четыреста граммов подсолнечного масла и полкило сахара, которые можно было получить по списку в магазине, когда кому удобно. Многие прямо говорили, что стало гораздо лучше, чем раньше: не надо терять времени у прилавка и дрожать, дойдет до тебя очередь или не дойдет. Лишь один Лапидис, как всегда, строил на своем лице всякие гримасы и довольно глупо острил, что Финляндия – это кусочек, на который двадцать лет назад России сделали обрезание, а теперь из-за этого кусочка лихорадит одну шестую часть всей суши.
Граник, когда привозили белый хлеб по два семьдесят кило, предлагал соседям, чтобы у него забрали полбуханки: во-первых, его семья любит по девяносто копеек, во-вторых, за два семьдесят они могут иметь три кило вместо одного, а в-третьих, дети так быстро кушают его, что надо сто пятьдесят рублей в месяц только на хлеб.
– Прямо коммунизм с доставкой на дом! – смеялся Лапидис и советовал Гранику лишний хлеб пустить на сухари, а сухари долго лежать не будут: пригодятся.
Первый раз Клава Ивановна смеялась вместе с другими, но шутка – только один раз шутка, и в следующий раз она предупредила:
– Лапидис, твое счастье, что не слышит наш Дегтярь. Иона Овсеич пригласил Клаву Ивановну к себе и спросил:
– Малая, почему до меня должно доходить окольными путями, какие разговоры ведет Лапидис?
– Дегтярь! – сказала Клава Ивановна, – у тебя и так голова забита, тебе не хватает только Лапидиса: мы сами закроем ему рот.
– Нет, – Иона Овсеич заложил левую руку за спину, правую – под борт тужурки, – вы сами не закроете ему рот. Наоборот, вы еще развесите свои уши, чтобы лишний раз послушать!
Накануне выходного Лапидису, Хомицкому и Чеперухе Сталинский райвоенкомат прислал повестки. Вещи сложили вечером, чтобы утром не надо было спешить. Договорились выйти вместе. Зоя, жена Лапидиса, тихонько плакала в передней, Адя весь вечер разучивал свои гаммы, потом немножко поиграл с папой в пионерский биллиард и лег спать.
В три часа ночи у Лапидиса зажгли свет. На кремовых гардинах беспорядочно сновали тени, иногда большие, умещалась только верхняя половина фигуры до пояса, иногда маленькие, черные, как из черной бумаги для фотопакетов. Потом тени ушли одна за другой вправо, хлопнула дверь и по железной лестнице застучали мужские ноги.
Четыре человека, трое в пальто и галифе, быстро прошли через подъезд к воротам. На улице, за углом, затарахтел мотор, сначала у него был свистящий, как будто терли жесть о жесть, с перебоями звук, потом вдруг мотор ударил круто, сразу почувствовалась сила, и машина поехала.
– Ой! – застонала Клава Ивановна, укрылась с головой, от окна тянуло холодным воздухом, и приказала себе спать.
Минуты через три в коридоре у Лапидиса опять хлопнула дверь, потом внизу, в подъезде, другая, с колокольчиком на дворницкой: тетя Настя вернулась к себе.
Утром, еще было темно, Аня Котляр зашла к мадам Малой и спросила: это правда, что ночью взяли Лапидиса? Клава Ивановна разозлилась, назвала Аню дурой, но тут же сама расплакалась и сказала: здесь какая-то ошибка, у Лапидиса длинный язык, это да, но откуда он может быть враг народа или вредитель! Аня вспомнила, как мадам Малая сто раз предупреждала его: советская власть – одна во всем мире, со всех сторон капиталистическое окружение, шпионы подхватывают каждое слово, а он – как горохом об стенку.
Аня тоже заплакала: только два дня назад у нее был разговор с Лапидисом, она прочитала в газете призыв магнитогорских женщин ко всем женщинам страны идти на производство, и он обещал устроить ее у себя на заводе.
– Ничего, – сказала Клава Ивановна, – мы тебе сами поможем, еще лучше.
– Ой, – Аня закрыла лицо руками, – спасибо, но я думала, люди живут в одном дворе и работают на одном заводе – иногда можно вместе пообедать, поболтать.
Клава Ивановна улыбнулась: глупенькая, она думает, что судоремонтный завод – это как магазин, где продавцы на обед все сходятся в одном месте. Нет, опять заплакала Аня, она так не думала, но теперь уже поздно говорить: человека забрали.
– Не болтай, – одернула Клава Ивановна, – если Лапидис не виноват, через неделю он вернется домой, а если виноват, тогда пусть будет, как должно быть.
Да, да, кивала Аня и сама объясняла, что ее же не взяли, Клаву Ивановну не взяли, доктора Ланду не взяли, а взяли почему-то одного Лапидиса: дай бог, конечно, чтобы здесь была просто ошибка.
Степа с Ионой встретились у ворот, Тося и Оля заявили, что они лягут здесь трупами, но без них мужья не уйдут. Во дворе военкомата Тосе показалось, что ее Колька забежал в уборную, хотя полчаса назад она сама завернула ему завтрак, он положил в портфель и отправился на уроки. Оля сказала, если бы уборная была не мужская, она могла бы зайти и проверить, а так люди подумают бог знает что. Тося ответила, что ей плевать, как подумают люди, и зашла в уборную. Мужчины подняли смех и запели своими похабными голосами на мотив кукарачи: нам не страшен серый волк, серый волк – у нашей мамы целый полк, целый полк! Потом они закричали: «Не бей меня, мама, мокрым полотенцем!» – Тося назвала их жеребцами и вышла из уборной, держа за уши сразу двоих, своего Кольку и Зюнчика.
– Сволочи, сволочи! – Оля колотила себя кулаками по голове. – У людей дети как дети, а здесь сволочи: папу забирают на войну, а им лишь бы не сидеть на уроках!
Зюнчик сказал, что он не сволочь, как раз на сегодня сделал все уроки, но они с Колькой решили идти на фронт. Тося, хотя ее Колька не говорил ни слова, схватила его сзади за чуб, послышался треск, и три раза ударила лбом об свой кулак. Колька смеялся и требовал еще, потому что ему не больно, даже наоборот, но в это время подошли Иона и Степа, сказали, что через двадцать минут отправка, кто хочет, можно поцеловаться, и пусть уходят домой. Тося и Оля заплакали в ладони, а Колька и Зюнчик повторили, что едут тоже на фронт.
Степа сказал женщинам, чтобы не морочили голову, пусть думают о детях, а о них беспокоиться нечего: пока переоденут и довезут до Ленинграда, от белофиннов останется одно мокрое место. Иона добавил, что мокрого места тоже не останется: финнам сделают так жарко, что все испарится, как в пустыне Кара-Кум и Кызыл-Кум.
Отправка, которую планировали через двадцать минут, затянулась до вечера – облавтотрест дал на тридцать процентов меньше грузовиков, чем намечалось по разнарядке: положение с резиной было тяжелое, как никогда. Военком пообещал автомобильному начальству, что в обкоме будет такой разговор о резине, после которого оно само полезет в постромки.
Через неделю от Ионы и Степы пришло общее письмо из Белостока. За два дня до этого горсовет прислал наконец ответ, что утверждает решение товарищеского суда о выселении гражданина Чеперухи из города Одессы. Оля открыто смеялась и говорила всем, что это решение теперь до одного места, а Клава Ивановна просила ее не чересчур распускать свой язычок и от имени Дегтяря интересовалась, какая помощь ей нужна со стороны домкома. Оля совсем обнаглела и потребовала сразу двадцать литров керосина, как будто керосин – вода, целую площадку дров и полплощадки антрацита.
– Чеперуха, – поразилась Клава Ивановна, – ты притворяешься или в самом деле? Тебе – двадцать, Хомицкой – двадцать, а в каждом дворе есть свои Хомицкие и Чеперухи, так давайте соберем керосин, уголь, дрова со всего СССР и отдадим вам!
Оля немножко смутилась и объяснила, что просит на всю зиму, до весны, и больше просить не будет. Когда Иона был дома, он привозил раз в неделю, а теперь некому: она сама каждый день ходит на Привоз, чтобы купить у спекулянтов, холера им в бок, ведро угля и вязанку дров.
– Да, – подтвердила Клава Ивановна, – теперь ты сама ходишь. Но не забывай, что товарищеский суд постановил выслать твоего Чеперуху из Одессы. Скажи еще спасибо, что государство ему доверяет и взяло на службу в Красную Армию, а так бы три года – хорошо, если только три года, – посидела, как миленькая, одна со своим шибеником Зюнчиком.
– Клава Ивановна, – Оля сложила перед собой ладони, как будто собиралась читать молитву, – вы спросили, какую помощь я хочу со стороны домкома, и я ответила, но, если нельзя, никто не требует: дадите – на здоровье, не дадите – тоже на здоровье.
– Не строй идиотские штуки, – возмутилась Клава Ивановна, – помощь мы тебе окажем, но надо иметь совесть, а не садиться людям на голову, когда о тебе заботятся.
По особому ходатайству домкома и лично товарища Дегтяря, Оле Чеперухе, семье красноармейца, выдали с топливного склада по твердой государственной цене десять литров керосина, полкубометра дров и пятнадцать ведер угля, то же получила семья красноармейца Хомицкого. Тетя Настя помогала сносить топливо в погреб, и за это хозяйки оставили для нее в подъезде почти целый мешок дров и хороших полтора ведра антрацита. Все говорили, что это не антрацит, а просто клад: такой уголь вынешь из печки и положишь еще два раза, и перегар даст больше тепла, чем новый уголь.
В январе морозы стали еще сильнее, чем в декабре, но на Карельском направлении, где командовал товарищ Тимошенко, Красная Армия наносила белофиннам один удар за другим. Иона Овсеич сообщил: имеются данные, что «линия Маннергейма» прорвана. По его личному мнению, Хомицкий и Чеперуха вряд ли понадобятся, чтобы окончательно отбить у финских вояк всякий аппетит на Ленинград и полезные ископаемые с Кольского полуострова. Несмотря на это, Оля и Тося каждый день допытывались у него, когда именно закончится война, и клялись жизнью своих детей держать секрет в полной тайне. Дегтярь в ответ закрывал глаза и убедительно просил не задавать лишних вопросов.
В середине февраля от Степы пришло письмо, что он сейчас далеко на севере, за Белым морем, а Иону месяц назад сделали ездовым и перевели в другую часть; где Иона сейчас, он не знает и просит сообщить его адрес.
Оля Чеперуха, когда Тося принесла письмо, крепко дернула себя за волосы и закричала, что ее мужа убили, Зюнчик теперь круглый сирота и больше никогда не увидит своего папу. Клава Ивановна требовала, чтобы она немедленно прекратила свою истерику, но Оля разошлась еще сильнее, на весь двор подняла крик, что все ненавидели ее мужа и, пока он был живой, выгнали его из Одессы, где он родился, где родился его папа, его дедушка и, начиная с царя до последних дней, всю жизнь тянули из них жилы.
Подошла Аня, она тоже уговаривала Олю успокоиться, но та ответила ей нецензурными словами и сказала, пусть идет к своему Иосифу, вонючему красному партизану, который больше всех кричал, чтобы Иону выслали из Одессы. Аня сказала, что за мужа не отвечает, она сама воздержалась при голосовании вместе с Олей, а в глубине души вообще была против.
– Стерва, – взвизгнула вдруг Оля, – ты хотела отбить Ванечку Лапидиса у его жены, а она несчастная, больная! Уходи, блядь, чтоб мои глаза тебя не видели!
Аня побледнела, закрыла лицо руками и прижалась плечом к стене.
Через три дня прибыло письмо из военного госпиталя в городе Петрозаводске: Иона Чеперуха писал, что в полевых условиях обморозил себе левую ногу, но майор Криштал – такой доктор, такой специалист, каких на свете мало, и теперь уже главная опасность миновала, ногу не надо отрезать, наоборот, она останется целая, как была, и он сможет бегать со своей тачкой еще шибче, чем раньше. Кроме того, майор Криштал посылает Оле и Зюнчику большой красноармейский привет и обещает на лето приехать в Одессу.
С этим письмом Оля прибежала к мадам Малой и умоляла, чтобы та сию секунду извинилась за нее перед Аней Котляр, а то со стыда она убьет себя и своего Зюнчика.
– Оля, – покачала головой Клава Ивановна, – мне с вами горе, как с маленькими детьми, а у ваших детей уже скоро будут свои дети.
Оля заплакала сладкими слезами и сказала, а куда еще она пойдет, если не к мадам Малой, которая после мужа и сына – самый близкий человек.
– Ой, Чеперуха, – Клава Ивановна крепко ущипнула Олю ниже талии, – ой, подхалимница!
Двадцать девятого февраля, в этом году февраль имел на день больше, магазин предупредил, что, начиная с первого марта, тачка перестанет приезжать во двор, хлеб поступает в свободную продажу и норма отпуска отменяется. На масло, крупу и сахар пока сохраняется установленный порядок, но тоже надо быть готовым, что не сегодня-завтра сделают по-старому, как было до войны с Финляндией.
На всех участках маннергеймовцы откатывались под сокрушительными ударами Красной Армии, и перед ними возникла реальная угроза, что советские войска могут подойти вплотную к столице – городу Хельсинки. В этих условиях они срочно запросили мира. СССР, который еще три с половиной месяца назад предлагал дипломатическим путем решить вопрос, сразу откликнулся, и двенадцатого марта был подписан мирный договор. Новая граница включала весь Карельский перешеек с городом Выборгом – раньше Вии-пури, а еще раньше тоже Выборг, – все северное и западное побережье Ладожского озера, а также некоторые пограничные районы Финляндии, западнее Мурманской железной дороги и часть полуострова Рыбачьего. В целях защиты прохода в Финской залив Советский Союз на арендных началах получал полуостров Ханко. Одновременно с этим область Петсамо и незамерзающий порт Петсамо, добровольно уступленные Советской Россией Финляндии в 1918 году и теперь занятые Красной Армией, СССР вновь передал Финляндии.
Клава Ивановна, Ефим Граник, Тося Хомицкая, Аня Котляр и все остальные, когда Иона Овсеич, на очередном занятии по краткому курсу истории партии, нарисовал, какую мы имеем картину на сегодняшний день, не могли согласиться, что финнам не только оставили всю власть в Финляндии, но еще вернули незамерзающий порт Петсамо. Спрашивается, зачем мы положили столько людей? Чтобы эти чухонцы, при помощи Англии, Франции и Америки, построили новую линию Маннергейма и опять напали на нас? Когда мы по-хорошему просили у них кусочек территории за Лениградом, они нагло повернулись к нам задом и даже слышать не хотели, пока им хорошо не всыпали, а теперь, вместо того, чтобы забрать всю Финляндию, им еще добавили Петсамо! Нет, наша советская власть таки самая честная, самая благородная в мире, но это уже чересчур: слишком большая доброта – это тоже плохо.
– Стоп! – сказал Иона Овсеич. – Если послушать вас, получается, мы, советские люди, против политики мира без аннексий и контрибуций? И еще одно: получается, наше правительство и лично товарищ Сталин не понимают, что в интересах СССР и что не в его интересах?








