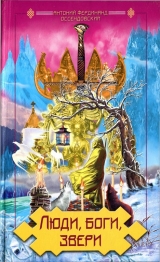
Текст книги "Люди, боги, звери"
Автор книги: Антоний Фердинанд Оссендовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
Трудно представить другого польского писателя, творчество которого так быстро пробудило бы интерес читателей во всем мире. Оссендовский умел использовать полосу удач. Он работал не покладая рук. Заканчивал одну книгу и сразу же начинал другую. Материал он черпал из памяти: о пережитых приключениях, наблюдениях, сделанных во время путешествия по далеким землям Азии. Иностранные издатели моментально приняли решение переводить дальнейшие сочинения автора, уже известного во всем мире. «Тень печального Востока» появилась в варшавских книжных магазинах в 1923 году. В том же году Ренард перевел ее на французский язык, а годом позднее Троппер – на немецкий, в 1925 году она была переведена на английский, датский и испанский языки.
Подобный успех имело изданное в 1925 году собрание воспоминаний и очерков «От вершин до бездны». В него также вошли большие фрагменты из повести «В людской пыли». Даже безвкусный роман «За Китайской стеной» и подобное ему «Чудо богини Квань-Нон» находят желающих рискнуть сделать перевод. Названия разделов книг «Азиатской серии» говорят сами за себя: «Отравители», «Ведьмы», «Поиски сокровищ», «Черные тени», «Во мраке дворцов», «Фабрики аморальности», «Там дьявол проводит свой бал», «Тюремное Эльдорадо», «Большое сердце маленькой гейши», «Князь тюрьмы», «Страшная ночь»… В первую очередь они были рассчитаны на массового покупателя, который не позволял им залеживаться на прилавках магазинов. Но отзывы рецензентов были далеко не лестными. Не обошли они и драмы «Живой Будда», поставленной на сцене варшавского театра в 1924 году. Роль барона Унгерна сыграл Людвиг Сольский, но даже великий актер не спас пьесу от провала. После нескольких спектаклей она была вычеркнута из репертуара. В 1924 году в одном из номеров «Утреннего курьера» («Kurier Рогаппу»), который стоил тогда 250 000 марок, была помещена рецензия Тадеуша Бой-Же-леньского Он предложил перевести сочинение, на основе которого была написана пьеса, на кашубский язык, так как по-кашубски «писатель» это «лжец», а «написал» – значит «солгал». Желеньский читал книгу Оссендовского «По землям людей, зверей и богов». Книга понравилась ему и напомнила сочинения Карла Мэя[56]56
Карл Мэй (1842–1912) – немецкий писатель. В юношеском возрасте попал в тюрьму, где и начал писать свои произведения. Прославился авантюрно-приключенческими рассказами о Диком Западе и об арабском Востоке. Северную Америку посетил лишь за четыре года до смерти.
[Закрыть]. Автор рецензии не собирался спорить с писателем из-за какой-нибудь речки или из-за «какого-нибудь тигра», он отдавал себе отчет в сложности написания «исторической пьесы о фигуре, еще не признанной историей». Его поразили излишние упрощения и алогичность. Например, польский перстень XI в. (!), представленный Унгер-ну в качестве доказательства, что один из героев пьесы не красный шпион. После такого подтверждения «буддийский барон вложил в его руки завещание о возрождении человечества через веру, религию и семью».
Год спустя автор сценария оказался в составе комиссии, занимающейся подготовкой к празднованию 50-летней работы Людвига Сольского на сцене, с которым у Оссендовского сложились очень теплые дружественные отношения. В особой книге памяти, посвященной (Польскому, записано высказывание Антония Оссендовского об артисте:
«Не титулы, заслуги, слава, изменчивые любовь толпы и блеск успеха образуют содержание человека-артиста. Его образует Правда. То, что заложено в душе и исходит через каждое слово, каждую мысль и движение. Я помню Черный пруд в Татрах, крутые склоны гор, нисходящие к неподвижной, мертвой поверхности воды, ленивые потоки никогда не тающего снега, мертвые осыпи и тишину, такую, что даже эхо тонет в ней и робко исчезает. Там, на берегах Черного пруда, а позднее в солнечной долине Явожины, в опасной теснине Пенин, великий артист, мастер сцены, жених Муз и сын Истории, говорил о своей жизни, бурной жизни, тернистой, полной полета, поисков правды и красоты, о минутах тяжелых сомнений, трудов, иногда сверхчеловеческих, горечи, разочарований, радости, блаженства и счастья, рожденных в лоне Искусства. Я смотрел на этого человека, которого назвали бы в другой стране Великим за такую жизнь, и со страхом ждал диссонанса. Напрасно я боялся! Ни единого лишнего слова или слишком громкого, ни одной жалобы, нежелания, взрыва ненависти, ни одной мелкой мысли, хвастливой или пустой, ни единой фразы без смысла, ни одного пошлого движения, никакого диссонанса, крика и искусственного пафоса. Сама Правда! Слова соответствуют мыслям, словам – звучание голоса, голосу – движения. В этом красота, благородство и правда. Только таким может быть великий артист. Только такой артист имеет право обнажать перед живыми людьми трепещущую душу».
Красивые, мудрые слова, которые заслуживают памяти.
«Литературные известия» («Wiadomokn Literackie») считались серьезным и уважаемым изданием. Немалую сенсацию и волнение принесла в начале июня 1924 года статья «Научная работа проф. д-ра Оссендовского». Рецензируя «В людской и лесной чаще», Януш Доманевский использовал целый арсенал эпитетов, иронии и насмешек. «Нельзя удивляться проф. д-ру Оссендовскому, чьи книги быстро находят публикаторов среди крупнейших издательских фирм. Встает, однако, вопрос: почему он пишет их таким образом? Профессор прекрасно отдает себе отчет в том, для кого он пишет свои книги, хорошо изучив психику нашей читающей интеллигенции, и отлично знает, что угодно ее душе. А критика? Я не говорю о театральных критиках, которые жильем раздирают каждого автора <…>. А о литературных критиках, которые здесь, в Варшаве, писали о книгах проф. д-ра Оссендовского чуть ли не с восторгом. Но их лучше не трогать. Если же мы тронем этого божка, то что же останется бедному читателю? Он погибнет в потоке новых книг, которыми издатели засыпают наш выносливый рынок. Он погибнет, не узнав, что, как и когда прочитать, и, что самое главное, – не узнав, что о прочитанных книгах говорить».
Почти в то же время на страницах «Голоса правды» («Gtos Prawdy») Войцех Стпичиньский, скрывающийся под инициалами «В.С.», поспешил с «разъяснением по делу так называемого проф. Оссендовского». Нужно признать, что темперамент занес его значительно дальше.
«Доктор и профессор» уже давно напрашивается со своими дерзкими и тупыми псевдонаучными бреднями о странах, которых никогда не видел, науках, которые он не знает, и театральными пьесками, в которых нет ничего выразительного, чтобы его хорошенько ударить по карману. <…> Если о нем до сих пор не написали и пары слов, то только из нежелания делать рекламу таким шарлатанам и из убеждения, что рассудительные и серьезные люди быстро отделят зерна от плевел, названия от содержания, знания и талант от дерзкой саморекламы… Первой отважилась на критику «Сочинений» «профессора, доктора» Антония Фердинанда газета «Литературные известия». Это заслуга и за это можно похвалить, несмотря на их издателя, спекулянта Антона Бормана, на которого нельзя смотреть без отвращения. В 22-м номере журнала г-н Тадеуш Доманевский, предавая критике научные сочинения невезучего Карла Мэя (Мэй в то время уже сидел в тюрьме. – Авт.), поставил неразрешимый вопрос: «Не знаю, в какой области науки и где Оссендовский получил степень доктора, не знаю также, где и как он стал профессором». А кто знает? Может, один или двое, но, как сказал один шутник, они еще не родились. «Доктор и профессор», «литератор», «писатель», о котором никто ничего не Ьнает, «где он стал доктором и профессором»! Его биограф должен был бы обратиться за информацией в полицию, если бы Оссендовский не провел столько лет в Азии, но совсем не в пустынной и дикой, откуда тщетно было бы ожидать свидетелей подвижного образа жизни «профессора».
В ноябре 1909 года в Петербурге появилось общество молодых журналистов и наборщиков и основало «Петербургский журнал». Во главе общества встал некий Вацлав Чихоцкий, приятель какого-то Антона Оссендовского, без научных титулов, русского журналиста, работавшего в бульварном журнале Скобелева «Ст. – Петербургский листок». Чихоцкий, ловкий малый, в январе 1910 года растратил капитал общества и, оставив в качестве своего заместителя по редакции «Петербургского журнала» своего приятеля Оссендовского, сбежал в Москву. На этой должности благодаря снисходительности и голубиной доброте издателей журнала Оссендовский продержался 9 месяцев, после чего, возненавидев польский язык и служение «привисленцам»[57]57
Имеется в виду Польша.
[Закрыть], снова превратился в русского журналиста и ушел в редакцию «Биржевых ведомостей». «Профессор и доктор», конечно, сейчас же заявит, что он по меньшей мере играл тогда роль Валленрода[58]58
Валленрод – герой поэмы Адама Мицкевича «Конрад Валленрод».
[Закрыть] и что, работая в российском либеральном органе, содействовал свержению царизма, быстрому признанию правительством Керенского независимости Польши и что он являлся одним из создателей Версальского договора, который, как известно, «привез» в Варшаву из Версаля через Париж, Брюссель, Кельн, Берлин и Познань в спальном вагоне сам Роман Дмовский[59]59
Роман Дмовский (1864–1939) – лидер польских националистов, организатор так называемого «Лагеря Великой Польши» (1926–1933).
[Закрыть]. Нужно предупредить все его увертки и до конца разоблачить Антона Оссендовского. После короткого «либеральничанья» уважаемый «ученый» осел в редакции черносотенного органа Бориса Суворина «Вечернее время» и там под псевдонимом А. Мзура с 1914 года или, может, немного раньше до самой революции пописывал статейки в шовинистском тоне. Революция загнала Антона к Колчаку, и оттуда он приехал в Польшу уже как «доктор и профессор», «польский писатель» и Фердинанд. Где он получил степень доктора, где стал профессором – неизвестно. Для получения докторской степени оказалось достаточно бурной жизни. Сам для себя был профессором морального растления и доктором искусства наниматься за деньги. <..> Может, эти биографические данные «знаменитого путешественника и ученого» заинтересуют господ издателей его бредней и постановщиков его пьесок, и, может, в конце концов установится обычай собирать информацию о разных бродягах, заброшенных военным водоворотом на польские пески, затем их под ручку и с апломбом проводят на арену интеллектуальной жизни, и так обильно пропитанную самыми настоящими моральными апашами.
Первые годы Второй Речи Посполитой были трудными. Страна была разорена продолжительными военными действиями, возросло общественное напряжение. Объединение в один государственный организм земель, которые еще недавно были раздроблены и принадлежали другим государствам, шло с трудом. Неустанно давали о себе знать антагонизмы между бывшими жителями Австрии, Пруссии и царской России.
Королевское географическое общество в Лондоне вежливо, но категорически отказало Антонию Фердинанду Оссендовскому в публикации его статьи, содержащей полемику со Свеном Гедином. «Я считаю, что было бы нежелательно публиковать в журнале какие-либо утверждения и даже намеки на то, будто некоторые особы находились на советском жалованье. Нам не нужны лишние проблемы», – писал представитель географического общества.
Экспедиция на черный континентВ 1923–1924 годах Оссендовский читал лекции в одном из варшавских вузов, но уже в следующем академическом году он был вынужден оставить преподавательскую деятельность. Руководство института не могло быть равнодушным к содержанию газетных сенсаций, касающихся преподавателя. В Варшаве он чувствовал себя отчужденно. Большая часть его знакомых и друзей из Петербурга в двадцатых годах рассеялась по всему свету. Он мог рассчитывать только на помощь мужа своей сестры Марии, но и тот вскоре скончался.
Оссендовский, который еще в июле 1922 года так ждал возвращения своей жены Анны из России, 10 июня следующего года женится повторно. Его избранницей стала Зофья Ивановская-Плошко. Чтобы вступить в брак во второй раз, ему пришлось даже сменить вероисповедание на евангелическо-аугсбургское.
Зофья (1887–1943), родилась в г. Серадзь. Она происходила из необычайно талантливой семьи. Ее брат Зигмунт Ивановский был известным художни-ком-портретистом, работавшим в основном в Америке. Сестра была пианисткой. Сама Зофья обучалась игре на скрипке в Париже и Брюсселе. Уже будучи вдовой (ее первым мужем был врач Адам Плошко), в 1908 году она основала в Варшаве музыкальную школу, была ее директором и преподавателем. В 1920 году она потеряла своего младшего сына, который погиб в бою с большевиками под Оссо-вом. Зофья находилась там как представительница Красного Креста. Старший сын Станислав, демобилизованный после окончания советско-польской войны, вступил добровольцем в Иностранный легион. Таким образом, Зофья осталась одна. Решение связать свою судьбу с человеком, который еще с петербургских времен был ее поклонником, она приняла быстро. Может быть, определенную роль здесь сыграл тот факт, что они вместе собирались отправиться в Северную Африку. Она очень переживала за своего сына, который воевал с повстанцами на границе с Марокко. В письмах он сообщал, что получает медали, кресты, но мать не хотела его потерять. Так как он не спешил возвращаться, она решила навестить его сама. Новоиспеченный муж мог ей в этом помочь. Поговаривали, что в основном финансами. Станислава Плошко нужно было выкупить из Иностранного легиона, а также выплатить его многочисленные долги. Имя популярного писателя и путешественника сделало свое дело. Семья Оссен-довских вскоре отправляется в Северную Африку. Министерство иностранных дел, где оба имели довольно крепкие связи, оказало им в этом свое содействие. Средства на поездку нашлись у Оссендовского благодаря гонорарам за книги.
Свадебное турне длилось около полугода. После посещения Испании Оссендовские попрощались с Европой в середине августа 1924 года.
Они побывали на побережье Атлантики, в Марокко, Алжире и Тунисе. Они слышали удары пушек и щелканье карабинов во время сражений войск Абдель-Карима с испанцами. Они видели ночные мусульманские мистерии. Танцы прекрасных женщин из племени улед-наил напомнили Оссендовскому персидские и кавказские мотивы. Он подолгу беседовал с живыми «святыми» марабутами, ведущими свой род от Фатимы, дочери Магомета. Он прислушивался к монотонным звукам, исходящим от минаретов на восходе солнца, – «Lu Ilia Allah и Mahomed Rassul Allah, Allah Akbar», – и был одним из первых, кто заметил пробуждающуюся и угрожающую силу в африканском исламе.
Наконец они навещают Станислава Плошко, и с пасынком у Оссендовского складываются теплые отношения. С тех пор они обращаются в письмах к друг другу «Стасик» и «Антоша», несмотря на разницу в возрасте.
В Касабланке Оссендовский встречает своего знакомого редактора «La Presse Marocaine» Жана Ронода, бывшего корреспондента французской прессы, освещавшего события, польско-русской войны. Однако Оссендовский не производил впечатления обычного пожилого путешественника с дамой сердца не первой молодости. Вернувшись под Рождество в Варшаву, Оссендовский вспоминал только что окончившееся путешествие, «проведенное в ус ловиях чрезвычайно приятных».
Путешествие по Северной Африке резко отличалось от скитаний по Центральной Азии. Везде их встречали с улыбкой и открытыми дверьми. Все были готовы им помочь с проводниками и переводчиками.
«Французы носили нас на руках, везде давали военные автомобили, бесплатный проезд по железной дороге и на пароходах, военный конвой. Мы видели все, я был даже свидетелем сражения на границе Риффа.
Польские критики, немного удивленные отзывами обо мне французской и английской критики и даже немецкой, внезапно меняют свое мнение в отношении меня и стараются со мной подружиться.
У меня есть все аргументы против этих „критиков“, я разобью все их позиции и утру им нос. Я теперь злой, как волк, а волчьи клыки у меня уже давно. Я, правда, не хотел их показывать на родине, однако, к сожалению, вынужден был сделать это. Такая уж у нас свободная отчизна. В марте я еду с отчетами об Азии (психология азиатов), об исламе (впечатления от Африки) и о поляках в Стокгольме, Копенгагене, Роттердаме, Лондоне, Будапеште и чешской Праге. В августе мы поедем в Центральную Африку».
Для французских колонизаторов, реализующих свои политические планы с жестокостью по отношению к местному населению, польский писатель был прежде всего автором мировых бестселлеров. Они ожидали и наверняка сам автор им обещал, что в своей очередной книге он в особом свете представит «миссию» Франции в Африке.
Описывая Северную Африку, Оссендовский решил отдать в руки читателей не просто интересные книги, но и отвечающие более высоким требованиям. В сумме их получилось около двадцати: «Орлица», «По широкому свету», «Рассказы, зарисовки и очерки путешественника», «Пламенный север», «Черный чародей», «Рабы солнца», «Среди черных», «На пересечении дорог», «Сокол пустыни», «Жизнь и приключения обезьянки», «Сын Белиры», «Приключения Юрка в Африке», «Африка: страна и люди», «Миллионер Y» и другие.
Двухтомный, насчитывающий около 800 страниц, сборник литературных репортажей с африканских земель добросовестно и богато документирован с точки зрения истории, этнографии и природоведения. Художественные описания горизонтов, городов, античных руин и портреты местных жителей. Интереснейшие отступления на разнообразные темы не наскучивают, хотя порой они длинноваты и их достаточно много. Автор постоянно держит читателя в напряжении, опытно направляя его внимание на самые существенные вещи. Не очень удались только те фрагменты, в которых он пытается исполнить ожидания тогдашних хозяев. Временами он пересиливает себя и возносит искусственно звучащие похвалы в адрес французских колонизаторов.
На самом же деле польский писатель сочувствует угнетаемому народу, достаточно критически оценивая деятельность белых колонизаторов, отнимающих у местных жителей плодородные земли и оттесняющих их на бесплодные земли или в пустыню. Он один из немногих авторов, который смог в то время бросить в лицо людям белой расы слова: «В нашей моральной цивилизации ислам, буддизм, сионизм, конфуцианство и даже язычество не нуждаются».
Записанная Оссендовским речь одного муллы звучит как грозное предупреждение за 80 лет. Сегодня ее мог бы произнести сам Усама бен Ладен или кто-либо еще из предводителей талибов:
«Не знаю, найдется ли человек или организация, которая сможет выдержать натиск народов, исповедующих учение Магомета. Вы являетесь нам чужими по духу, поскольку ваш дух стал невольником тела. Чув ство божественной справедливости сменилось у вас спекуляцией на оправдании преступлений. Обогащение стало целью вашей жизни, вашим богом является золото, добываемое руками невольников, которые вынуждены молчать, покоряться и работать только на вас.
Ваши споры, обманы и войны сбросили маску с христиан. Ваши уста говорят фальшивые слова любви, а руки посылают смертельные стрелы и куют кандалы. Вы не хотите понять, что пришел час, когда великий дух свободы охватил всю землю, заглядывает в каждый дом, в самый маленький шатер и зовет за собой. Когда будет освобожден мир угнетенных, тогда божья воля рассудит, что мы должны взять от вашей цивилизации и что мы должны ей дать от нашего духа».
Испанский перевод обоих томов и французский первой части сборника под названием «Пламенный север» появляются одновременно в 1925 году. После возвращения Оссендовского из Африки он получил приглашение от приятеля, гнезненского старосты Т. Лысковского. В Гнезно Оссендовский делает отчет о своем последнем путешествии, совмещенном с концертом жены, на котором она представила свою новую композицию по мотивам испанского фольклора. Значительную сумму, собранную на вечере, Оссендовские пожертвовали на памятник Болеслава Храброго.
«Литературные известия» («Wiadomosci Literackie») сообщают, что в анкете «Neues Wiener Journal» на вопрос о лучшей книге 1924 г. критики назвали «По землям людей, зверей и богов» Оссендовского. Три месяца спустя в берлинской «Nazional Zeitung» была помещена заметка А.Ф. Оссендовского о культурном значении экспедиции Амундсена на полюс в ответ на «телеграфную анкету, которую газета проводила среди известнейших путешественников, ученых и писателей».
В начале июня 1925 года редакция «Берлинской газеты» («Gazeta Berlicska») просит разрешение на публикацию «По землям людей, зверей и богов». Газета выходит на польском языке. Она не так богата, чтобы оплатить гонорар. Автор отказывается от денег.
17 июня 1925 года Оссендовского принимают в ПЕН-клуб и выбирают в члены правления Польского литературного клуба. «Географический журнал», официальный орган Королевского географического общества в Лондоне, не был склонен одаривать похвалами иностранных авторов и особенно тех, которые симпатизировали Франции. Поэтому рецензию на «Пламенный север» следует рассматривать как наиболее объективную:
«Это ценный комментарий к контрверсии, которая появилась вокруг его азиатских путешествий. Однако он проливает много света на его способность быстро собирать информацию и делать заметки. Оссендовский никогда не забывает – независимо от того, что он пишет, – о глубоких общественных проблемах, заданных европейской администрации в восточных странах, обладающих своей собственной философией. Можно его обвинить – если это можно назвать виной – что он дает слишком много описаний и художественных картин. Тем не менее он никогда не забывает о насущных делах, которые он умеет должным образом обосновать. За политическими проблемами автор имел возможность глубоко задуматься над общепринятым расовым единством берберов. Его сомнения в этом отношении – вопреки избитым понятиям – делают честь новому пришельцу в Северной Африке; они являются доказательством – если требуются доказательства – компетенции Оссендовского как ученого путешественника».
В исследовании Черного континента наряду с представителями других национальностей поляки также принимали участие. В начале XX века картографические работы и геологические исследования речной системы Нигера проводили Шиманьский, Зубер и Дыбовский.
На рубеже 1925–1926 годов от Курусы до Бамако плывет экспедиция Оссендовского. Неизвестно, когда у Оссендовского возник замысел поехать в Западную Африку. Может быть, на эту идею натолкнул писателя его старый знакомый – доктор Винцент? Известный специалист в области экзотических болезней и любитель ботаники так же, как и Оссендовский, был увлеченным охотником. Правда, сам Винцент в западноафриканском путешествии участия не принял.
Жена Оссендовского Зофья изучала музыкальный фольклор различных племен и помогала мужу в организационных делах. На этот раз польские посольства в Париже, Брюсселе, Мадриде и Лондоне получили распоряжение выделить ему помощь в случае необходимости.
Секретарь губернатора британского правления в г. Лагос в письме от 23 января 1926 года, выражая благодарность за книгу «From President to Prison», предложил любую необходимую помощь. Французское колониальное военное министерство дало соответствующие инструкции губернаторам африканских колоний. Ради обычного путешествия? На самом деле целью экспедиции было собирание образцов фауны и флоры для научных исследований. Так, после возвращения экспедиции на родину африканских пресмыкающихся передали Зоологическому институту Ягеллонского университета. Профессор Михаил Щедлецкий особенно интересовался древесными жабами. Авторитетный польский зоолог, 93-летний профессор Бенедикт Дыбовский, известный исследователь. Байкала, предложил провести эксперимент по искусственному оплодотворению обезьян. Он вспоминал якобы известные ему успешные эксперименты профессора Яракова из Петербурга.
Еще в начале 20-х годов XIX века одним из самых больших «белых пятен» на карте Африки была территория между бассейном Нигера, реками, впадающими в озеро Чад, а также Конго и Огове. Первым европейцем, который пересек часть этого бассейна, был руководитель французской экспедиции Ян Дыбовский. Он доставлял первые сведения об этих краях. Оссендовский, скорее всего, читал фрагменты из его воспоминаний в журнале «Путешественник» («Widrowiec») и, недолго думая, сообщил журналисту о запланированной поездке, стремясь, может быть, повторить путешествие соотечественника. Он упустил из виду тот факт, что она была бы значительно длиннее и труднее, чем трасса Генри Стэнли[60]60
Генри Мортон Стэнли (наст, имя и фамилия Джон Роуленде) (1841–1904) – журналист, исследователь Африки. Исследовал озеро Танганьика. Дважды пересек Африку: в 1874–1877 гг. с востока на запад, проследил все течение р. Конго, в 1887–1889 гг. – с запада на восток.
[Закрыть]. То же самое касалось остальных вариантов. Лишь в 1923 году Сахару в первый раз преодолели гусеничные транспортные средства. Они выехали с алжирского оазиса Тугурт, и им потребовалось три недели, чтобы преодолеть 2000 км до Тимбукту.
Польская экспедиция не располагала гусеничным транспортом. На всем пути от берегов океана до Великого озера заранее доставленный бензин находился в определенных пунктах. Пустынные, известные с давних пор и протоптанные караванами верблюдов дороги, по которым двигались покорители Сахары, были совсем не похожи на извилистые тропинки джунглей, доступные только пешим. Как можно было предвидеть, Оссендовский и его компания не достигли берегов озера Чад.
Из Африки Оссендовский пересылал в Европу свои впечатления от охоты на экзотических животных, впечатления от посещения женской тюрьмы, путешествия на плотах по реке Нигер. Он описывал пантер, которые по приказу шаманов поедали своих детенышей, и визиты негритянского короля в местечке Мосси.
Писателю хватало впечатлений, а следовательно, и сюжетов для книг и статей. Этот почтенный пятидесятилетний господин с обозначившимся животом носился с ружьем и камерой за слонами, крокодилами и гиппопотамами. Сам он был очень доволен тем, что его репортажи печатаются в английских, американских, итальянских, испанских и шведских журналах. Из них получился достаточно беспорядочный сборник статей, отчетов и репортажей. В томе «Среди черных» есть частые повторы, стилистические недочеты и мелкие ошибки. Видно, что все это было написано в спешке, «по горячим следам», чтобы успеть отдать «гонцу».
Упорядоченные впечатления от африканской экспедиции собраны в томе «Рабы солнца». Белые люди, особенно с севера, всегда любили солнце. В Африке солнце подчиняет себе всех и все. Оно уничтожает, изматывает, отнимает энергию. Оно делает человека невольником природы. Рабами солнца на Африканском континенте являются все, независимо от цвета кожи, расы, религии и обычаев. Совсем недавно было время, когда вся Западная Африка носила название «Гроб для белого человека». Находящиеся там европейцы, нафаршированные разнообразными медикаментами, должны были следить за тем, чтобы не напиться сырой воды, не пропущенной через простейший аппарат – фильтр, так как большинство амеб не погибает даже при температуре кипения.
В списке снаряжения экспедиции Оссендовского не было фильтра. Это было большим упущением. Участники заплатили за него тяжелыми заболеваниями, требующими длительного лечения, а некоторые – даже жизнью.
«Рабы солнца» – это одна из лучших книг и наиболее зрелое творение автора, по мнению многих критиков. Она появилась в Лондоне осенью 1927 года. Отзывы критиков в основном были благосклонными. Один французский критик писал: «Если Оссендовский пережил или видел все то, что он описывает, он заслуживает награды всех географических обществ, если же эти сочинения выдуманы, он заслуживает Нобелевской премии».
Оссендовский сам финансировал путешествие на Черный континент. Ему удалось снискать благосклонность и помощь французских колониальных властей. Это повлияло на значительное снижение расходов. Несмотря на оказанную поддержку, Оссендовский не принес доброй славы колонизаторам. После возвращения на родину в эфире польской радиостанции (23 сентября 1927 года) он рассказывал:
«Первый польский экзотический фильм был снят в моей экспедиции по субтропической Западной Африке в 1925–1926 гг. Я хотел запечатлеть некоторые моменты экспедиции для будущих отчетов о ней. Нас не останавливали ни мрачные и опасные дни, когда вихрь нес с Сахары тучи красного песка, ни затмевающий солнце дым от горящих джунглей, ни ослепительный блеск солнечных лучей, которые отражались в колышущейся поверхности рек.
<..> Мы снимали наши кадры среди живущих традициями, предписаниями древних культов, суе верных и зачастую настроенных против белых людей, племен: диких рыбаков малинке, потомков египетских „королей-пастухов“ – сусу, краснокожих фулаков, мосси, управляемых могущественным королем Моро-Наба, недоверчивых лоби, охотно стреляющих из засады отравленными стрелами, колдунов бобо, умеющих с помощью отравы проверять супружескую верность жен своих родственников, и, наконец, лесных племен – гагуа, гуро и ашанти, среди которых до сих пор распространено людоедство и кровавые человеческие жертвоприношения. <…> Одной из главных трудностей была недоверчивость аборигенов к объективу и вспышке камеры, издающей подозрительные звуки при вращении ручки аппарата.
Лишь некоторые негры, скитающиеся по всему свету, как корабельные кочегары или строители дорог во Франции, Бельгии и английских колониях, старые солдаты, участвовавшие в войне, достаточно спокойно смотрели на аппарат и оператора. Некоторые, правда, быстро отходили, делая руками заклинательные знаки и бормоча магические слова от сглаза. Сложнее всего было со съемками женщин. <..> Однако был же выход! Он основывался на наблюдении, что женщины, независимо от цвета лица, очень любопытны. Мы действительно не раз боролись с влиянием могущественных „гри-гри“, или негритянских божков, еще более могущественными… франками и шиллингами».
Охотничьи трофеи, вывезенные из Западной Африки, были более интересными, нежели те, которые он привозил ранее. Однако сам Оссендовский тогда больше ценил хороший кинематографический снимок, нежели выстрел из ружья. За новаторство в области кинематографа ему пришлось дорого заплатить. Киностудия «Аргус» заявила, что материалы, отснятые в Африке, не представляют ничего интересного и непригодны к эксплуатации. В круг критиков входил известный в то время авторитет в области киноискусства Юзеф Акстон. Эта тема становится предметом полемики в прессе. В «Польском курьере» («Kurier Polski») появились обвинения в адрес оператора и режиссера в непрофессионализме. Оказалось, что 90 % отснятого материала было абсолютно непригодным. Вся вина ложилась на оператора, Ежи Гижицкого, который проявил незнание элементарнейших основ пользования камерой.
Самой интересной является часть отснятого материала со сценами охоты, а также съемки животных и птиц на воле. Тот, кто когда-либо увлекался фотосъемкой явлений природы, флоры и фауны, особенно дикой, знает, какого огромного труда, времени и искусства это требует, не говоря уже о затратах на это дорогостоящее увлечение. «Оператор прятался в каких-нибудь зарослях с камерой, направленной на дорогу, где перед этим он рассыпал горсть кукурузы или проса. Дикие куры разного вида вскоре туда прибегали и клевали зерна, почти не обращая внимания на звуки работающей камеры. Если же поблизости была река, как это было, например, на Нигере, Бандами и Вольте, по которым мы плыли 12 дней, <..> оператор бросал рыбу на песчаную отмель, возле которой он сидел с камерой под прикрытием. Иногда он не успевал спрятаться в своей засаде, как со всех сторон слетались дальнозоркие стервятники, орлы-рыбаки, сенегальские аисты, венценосные журавли, цапли и другие хищные и нехищные, но сильные птицы. Тут же начиналась война за каждый кусочек неожиданного угощения, крик, щебет, шипение обжорливых птиц, и в этом гомоне тонули все звуки, издаваемые камерой, а порой и сочная досадная ругань оператора, у которого что-то там не получалось».
Объектами съемок были редкие виды страусов, обитающие в Северном Судане, стервятники, черно-белый орел-рыбак, орел-шалун, куропатки, фараоновы куры, дикие цесарки, дрофы и задорные горные куры, встречающиеся повсюду в большом количестве. Илистые берега реки Нигер всегда покрыты следами обитателей африканских джунглей. «Наши опытные следопыты читали эти следы как по открытой книге. <…> Затаившись в кустах над крутым берегом или за скалами, которые здесь повсюду, оператор замечает и тут же снимает стадо гиппопотамов, вынырнувших из воды или даже выходящих на берег в поисках свежих побегов деревьев и сочных корней. На камни выползают крокодилы греться на солнце, но, заслышав звуки камеры, они разевают отвратительные зубастые пасти и, злобно шипя, исчезают под водой. <…>.








