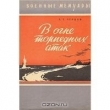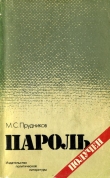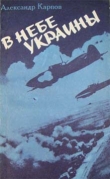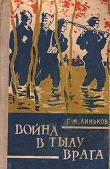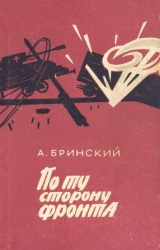
Текст книги "По ту сторону фронта"
Автор книги: Антон Бринский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 35 страниц)
Во время войны эвакуировался, но оказался в окружении и в ноябре 1941 года вернулся домой. С тех пор и началась его работа по организации подпольной антифашистской группы, составлявшей одно из звеньев «Пидпильной спилки».
Мы идем «по цепочке»
Наш путь проходил по той дороге, по которой доставлялись боеприпасы и взрывчатка от Центральной базы, от партизанского аэродрома боевым отрядам Сазонова, Картухина, Насекина. Дорога длинная, и наши транспорты должны были проходить ее как можно скорее, не ввязываясь ни в какие стычки и по возможности не попадаясь на глаза врагу, чтобы сохранить в тайне саму линию связи. Для этого необходимо не только сочувствие, но и активное содействие населения, и мы для этого создали в некоторых деревнях группы содействия партизанам. Первая была организована в Вильче. Она обеспечивала переход через железнодорожную линию Пинск – Калинковичи и переправу через Припять. Дальше находился отряд Сазонова, потом – новый отряд Сидельникова, а еще дальше – там, куда мы вышли сейчас, – надо было организовать новую группу, которая бы помогла переправляться через реку Горынь.
Село Вилюнь оказалось подходящим для этого. Оно раскинулось у самой реки, на восточном ее берегу. Население сочувствовало партизанам, и подпольная группа, руководителем которой являлся наш проводник Бовгира, работала неплохо.
Поэтому мы и задержались в Вилюни. Времени не потеряли: уничтожили находившийся здесь маслозавод, а после ужина провели собрание подпольного актива. Перед тем как уходить, я побеседовал с местным священником, который имел связь с подпольщиками и немало помогал им.
В лесу, возле селения Пузня, мы распрощались с Бовгирой. Я его благодарил, а он нерешительно сказал:
– Вы бы лучше гранату подарили по дружбе.
– Гранату? Это ты заслужил. Ну-ка, хлопцы, дайте ему три штуки.
Теперь он начал благодарить: он не ожидал такой щедрости. Еще бы! Самое дорогое – оружие!..
Новым нашим проводником стал Хома Гаврилович Хомич, член пузнинской подпольной организации. Рядом с Бовгирой он показался мне стариком: давно не бритая борода усиливала худобу ввалившиеся щек с неровным чахоточным румянцем. На самом деле он был не так уж стар – сорок два года. Это жизнь его состарила и наградила туберкулезом. С 14 лет – еще в царской России – начал он работать на лесозаготовках. Принимал активное участие в революции 1917 года, а потом в Красной Армии дрался с белополяками, Петлюрой и атаманкой Марусей. Борьбу с угнетателями он продолжал и в панской Польше. В 1931 году вступил в подпольную компартию Западной Белоруссии, а в 1935 году за революционную деятельность его посадили в тюрьму. Освобождение ему принесла в 1939 году Красная Армия. Затем он работал объездчиком в Золотинском лесничестве, эвакуировался в начале войны, но под Смоленском война нагнала его – он оказался в окружении. Вернулся домой, и вот теперь член «Пидпильной спилки». Вместе с ним участвует в работе подпольщиков и его сын Николай – семнадцатилетний хлопец. Но им этой работы мало: они уже достали оружие и вместе собираются идти в партизаны, в отряд Мисюры, который располагается недалеко, у деревни Озерск.
Услыхав о партизанском отряде, я заинтересовался:
– Мисюра? Здешний?
– Здешний. Он участковым милиционером был.
– А нельзя ли с ним встретиться? Сюда бы его вызвать.
– Можно. Посылайте человека – наши укажут дорогу.
Я отправил связного. А из Пузни тем временем доставили нам продукты. Полная подвода скрипела по узкой лесной дороге, а в ней и картошка, и мясо, и, сало, и даже пара живых гусей – наглядное доказательство авторитета подпольной группы и сочувствия крестьян партизанам. Запылал костер. Крывышко возглавил стряпню.
А погода стояла совсем не зимняя. Снег сошел, иногда моросил дождичек, проглядывало солнце.
Пообедали. Дело шло к вечеру, но смеркаться еще не начинало. Я взялся составлять листовку на украинском языке. Надо было практиковаться, снова привыкать к родной речи. Но на этот раз работа продвигалась не особенно успешно. Устал, что ли?..
В этот момент сообщили, что возвращается наш связной и с ним двое вооруженных.
– Пропустите!
Они подошли, и старший представился:
– Командир партизанского отряда Мисюра… А это адъютант Моисей Бромберг.
Адъютанту – красивому черноглазому парню – было не больше 18 лет, а Мисюре, пожалуй, за 30. Он показался мне очень худым и немного сутуловатым. Двигался Мисюра как-то по-особому уверенно, и такая же уверенность, спокойная, не кричащая о себе смелость читалась в его упрямых глазах, в продолговатом, чисто выбритом лице. Одет он был в обыкновенный крестьянский пиджак, туго стянутый офицерским ремнем со звездой на пряжке. За спиной – СВТ, у пояса – пистолет и пара гранат.
Я пригласил гостей садиться, и Мисюра немногословно, но обстоятельно рассказал о себе и об отряде. Работают они активно: не дают увозить людей в немецкую кабалу, всеми мерами мешают фашистам выколачивать налоги, борются с полицией, рвут телеграфные провода… Хорошо налажены связи с населением. Крестьяне их знают, видят их работу и сами помогают им. Но бойцов у них немного, всего восемнадцать человек. Кроме того, есть невооруженные, небоеспособные: женщины, дети, старики – человек сорок. Что-то вроде «цивильного лагеря» при партизанском отряде. Это до известной степени затрудняет действия отряда, делает его не таким подвижным, но бросить беспомощных людей на произвол судьбы нельзя.
У меня сложилось определенное впечатление, что и отряд неплох, и командир неплох. Да и пузнинские крестьяне отзывались о них хорошо. Надо им помочь. И связи их надо использовать. К тому же сам Мисюра, говоря о дальнейшей работе, выразил желание присоединиться к нам. Мы решили на базе его отряда создать более крупный, а вокруг него – между Горынью и Стырью – организовать уже не «Пидпильну спилку» и не группы народного ополчения, а более широкое народное движение, установив связи с Сарнами и Пинском. Руководство этим делом я поручил Корчеву, который и остался тут же, в Озерске, в качестве уполномоченного.
Командование отрядом по-прежнему лежало на Мисюре, но в помощь ему я выделил двенадцать партизан из нашей группы во главе со старшим сержантом Зубковым, чтобы показывали пример, учили подрывному делу, делились опытом. Для начала я дал им три рапиды и поручил выйти к Здолбуновскому железнодорожному узлу, где они, помимо диверсий, должны будут разведать обстановку: нельзя ли и там создать партизанскую группу.
* * *
Так же «по цепочке» двигались мы и дальше: от Пузни до Золотого, от Золотого до Сварицевичей. Ехали на подводах, порой даже пренебрегая осторожностью, среди бела дня. В Золотом ликвидировали гитлеровский «маенток» – имение. Инвентарь и продовольствие тут же были розданы крестьянам, а охранников мы не нашли: они успели заблаговременно улизнуть.
До Сварицевичей добрались на рассвете четвертого декабря. Погода была ясная. Большое село широко раскинулось перед нами, взбегая на невысокий холм десятками бревенчатых домиков. Там, на вершине, в самом центре, высилась каменная церковь и несколько строений городского типа. Многочисленные садики были сейчас обнажены, но летом, вероятно, все село утопает в зелени. Немного в стороне – имение: красивые белые дома, острые, голые сейчас метелки пирамидальных тополей, обширный парк, светлые зеркала прудов, соединенных протоками, дальше – луга и зубчатая черно-синяя полоса леса на самом горизонте.
Райский уголок! И фашисты действительно чувствовали себя здесь некоторое время, как в раю, в рабовладельческом гитлеровском раю. Отдыхали и грабили. Всего вдоволь, и все бесплатно. Но в октябре 1942 года налетел на этот «рай» партизанский отряд Попова и Корчева, и кончилось беспечальное житье захватчиков. Народные мстители разогнали полицаев, расправились с самозванными «хозяевами», собранный для них урожай частью сожгли, частью отдали крестьянам, уничтожили всю грабительскую фашистскую «бухгалтерию».
Все это рассказали нам сварицевичские активисты. От них же мы узнали и о группе так называемых «женихов». Четверо здоровых парней жили в лесу, женившись на еврейских девушках из беженок, ничего не делали, но считали себя партизанами и на этом основании питались и пили за счет населения. А рядом с ними, в этих же лесах, скрывалось очень много евреев, бежавших от фашистской расправы из гетто ближайших городов и местечек. Оборванные, голодные, грязные, они боялись попадаться на глаза людям. Гитлеровский «новый порядок» из всех прав признавал за ними, кажется, только одно право – умирать. Их преследовали, как диких зверей: за убитого еврея начальство выдавало, в качестве премии, пачку сигарет.
Я распорядился разыскать и привести ко мне «женихов». К полудню они явились. В самом деле: ребята здоровые, сытые, не заморенные работой. Теперь они, конечно, не партизаны, но когда-то состояли в отряде Попова и Корчева. Я уже упоминал, что отряд этот пережил тяжелое время: распадался, таял. Тогда вот и эти четверо ушли из него, считая, что гораздо проще и легче жить в лесу самостоятельно в роли никому не подчиненных «женихов». Никаких оправданий этому дезертирству не было, да и поведение их после дезертирства – жизнь мародеров и паразитов – не заслуживало никакого оправдания. Я сначала хотел просто обезоружить их и наказать как дезертиров. Но после долгой и серьезной беседы мнение мое несколько изменилось. Ребята были не вконец испорчены – просто разболтались. В каждом сохранилась живая искорка советского человека. И мне, кажется, удалось нащупать ее.
– По законам военного времени, – сказал я им, – все вы заслуживаете расстрела как дезертиры. Но я дам вам возможность исправиться, вернуться в партизанскую семью.
Одного из них – старшего сержанта Курочкина – я назначил командиром и приказал ему организовать в лесу «цивильный лагерь» для евреев-беженцев. Надо выбрать местечко поглуше, построить там землянки человек на двести, добыть и доставить продовольствие, пригнать несколько коров, чтобы было молоко для детей. Все работы должны производиться руками самих этих беженцев, но руководить ими, организовать, научить их обязаны бывшие «женихи». Продукты и скот надо взять в фашистских имениях, на фашистских складах, а не у крестьян. И подчиняться отныне они будут своему бывшему комиссару Корчеву.
Все четверо беспрекословно согласились: должно быть, не такой уж сладкой казалась им их жизнь, и совесть у них была неспокойна.
И они не обманули: позднее Курочкин явился ко мне с докладом о своей работе. А потом сам я был в организованном ими лагере.
В беседе со сварицевичскими активистами я убедился, что люди тут хорошие. Надо только помочь им, руководить ими. Я рассказал им о праздновании 25-й годовщины Октября в Москве, о положении на фронтах, о Большой земле, о втором фронте. Один из слушателей завел разговор об Америке: вот-де, когда Америка по-настоящему начнет воевать, в один месяц война кончится. У Америки – техника, у Америки – сила. Другие зашумели. Молчавший до сих пор пожилой крестьянин протиснулся вперед:
– Разрешите мне сказать. Грицук моя фамилия… Вот тут Данило говорит про Америку, ерунду говорит. Мы сами знаем, что у нее техника и что она богатая. Но только, добрые люди, уж вы мне поверьте: Америке не интересно открывать второй фронт. У американских хозяев война с Германией только для виду.
Он говорил долго и убедительно, и чувствовалось, что он большим влиянием пользуется среди односельчан, что настоящим руководителем села является именно он, а не староста. А староста, как мы потом узнали, к нему же обращается за советами.
После собрания я беседовал с Грицуком отдельно, указал, что делать и как делать, дал пароль, чтобы связаться с Корчевым.
Двигаясь дальше, мы переправились около Млынка через Стырь. Здесь проходит узкоколейка на Перекалье, и реку пересекает хороший железнодорожный мост с настилом для пешеходов. Я обратил внимание на этот мост и предупредил своих товарищей:
– Мы его взрывать не будем, сохраним, чтобы самим пользоваться. А фашистам он все равно не поможет: другие мосты мы взорвем.
Недолго пришлось нам пользоваться мостом у Млынка, но об этом после…
…Здесь, на Волыни, многие крестьяне живут на хуторах, разбросанных в глубине леса. Идешь глухой чащей, даже не подозреваешь, что рядом жилье, и вдруг – крик петуха, собачий лай, а ночью совсем неожиданно замерцает огонек. Хутор – несколько домиков, а за ними опять стена леса. Обычно хутора группируются неподалеку от той деревни, откуда выселились хуторяне, и называются по ее имени. Я уже упоминал о Жаденьских и Хочинских хуторах, мимо которых мы проходили. А вот теперь, после Сварицевичей, совершив длинный и утомительный переход и переправившись через Стырь, добрались мы до Мульчицких хуторов. Между стволами деревьев мелькнули белые хатки, открылась поляна, пахнуло дымком. Это было кстати: нам давно уже не мешало перекусить и отдохнуть.
Зашли в крайнюю хату. Изо всех углов в ней выглядывала нужда. Старуха возилась у печи, а старик в другом углу что-то делал у примитивного ткацкого станка. Он был худ и лохмат, щеки ввалились, глаза глубоко спрятались под густыми бровями, и седины его казались зеленоватыми в полутьме. В ответ на наше приветствие он пробормотал что-то неопределенное и продолжал работать, привычно перебрасывая челнок из стороны в сторону. Была еще в хате невестка и трое маленьких ребятишек. Она аккуратно вытерла тряпкой стол, когда мы попросили разрешения поужинать у них в хате, а дети таращили на нас глазенки, пересмеивались и прятались то за мать, то за деда.
Дмитриев достал наши партизанские запасы, а старуха, у которой мы попросили кипятку, принялась мыть мочалкой большой чугун (самовара в доме не было).
Отогреваясь (на улице был дождь и ветер), мы присматривались к хозяевам, пытались заговорить со стариком. Сначала он отнесся к нам недоверчиво – разные люди ходят теперь по Волыни! – и отговаривался самыми общими фразами:
– Живем, як горох при дорози, хто идэ, той и скубнэ.
Но потом по нашему виду, по нашим словам догадался, кто мы такие, и сам разговорился. Его, должно быть, обидело замечание Есенкова о здешней бедности.
– А ты откуда такой богатый взялся?
– Из Сибири, – отвечал Тимофей. – У нас так не живут. Чего уж тут: самовара нет!.. Я знаешь в сороковом году сколько на трудодни получил?..
– Ну… сел на своего конька! – усмехнулся Дмитриев.
Но на старика слова Есенкова и особенно сообщение о стоимости колхозного трудодня произвели сильное впечатление.
– А ведь мы жили при панах. Паны из нас рабочую скотину сделали. Работай и отдавай, работай и отдавай. Все ихнее. Как в тумане темном ходили. Просветлело было в тридцать девятом году, а теперь опять темнота. Землю то опять отняли, опять ничего своего. Хуже чем при панах стало.
– Хлеб-то есть?
– Хлеб?.. Да разве это хлеб? – Старик встал из-за станка и, вытащив откуда-то, подал нам ломоть странного неправдоподобно серого цвета.
– С лебедой?..
– С лебедой… Это бы еще не беда, что в куске лебеда, а вот Гитлер хуже лебеды, он у нас и этот кусок отнять хочет. Как люди говорят: така жизнь теперь настала – все Германия забрала: ни коровы, ни свиньи, один Гитлер на спини…
Видя, что старик разошелся, мы пригласили его закусить с нами. Посадили за стол и старуху, и даже ребятишек, которые, отведав нашего меду (по дороге в лесу мы опять «разбомбили аэродром»), перестали дичиться.
Старик повеселел:
– Так, значит – партизаны? Значит – русские? А слышно, будто бы колотят немца на Волге.
– Колотят. Здорово! И не так еще будут колотить.
– А как в Москве?
Я прилег отдохнуть, а мои молодые спутники все еще продолжали беседу с хозяином. Он шутил, сверкая глазами из-под лохматых бровей, рассказывал анекдоты и сказки, сопровождая их такими ужимками, что наши ребята покатывались со смеху.
– …Вот как у нас рассказывают. Решил Гитлер жениться, ну и думает: как у меня теперь положение высокое, возьму самую красивую дивчину на свете. Искали, искали… У нас на Украине нашли. Самую красивую. Лучше всех. Привезли к Гитлеру. Он к ней вышел при всем параде и спрашивает: «Пойдешь за меня замуж? Я весь мир завоюю». Она посмотрела и говорит: «Гроб ты себе завоюешь, а замуж я за тебя не пойду – глядеть противно». А уж ему больно девка понравилась – ну так ведь красавица! Он и спрашивает: «Почему противно?» – «Потому что у тебя никакого виду нет: волосы прилизаны, глаза провалились. Мне такого не надо». Гитлер хотел прическу поправить, хотел глаза вытаращить, а не получается. Давай со всеми советоваться: как быть? А ему и говорят солдаты из госпиталя (с русского фронта приехали): «Поезжай под Сталинград: там у тебя и глаза на лоб вылезут, и волосы дыбом встанут». Ну, Гитлер все-таки не решился – нет, не решился! Так и до сих пор холостой ходит. Вот до чего ему Сталинград страшен!..
Этот же старик и повел нас дальше – от Мульчицких хуторов на Езерцы. Погода к ночи прояснилась, и опять было не по-зимнему тепло. Болота все еще не замерзли. Старая гать времен первой мировой войны вся прогнила и проваливалась под ногой. Осторожно ступая по ней, наш проводник почти без умолку рассказывал:
– Эту ведь гать – вы что думаете? Я своими руками строил в царскую войну. В пятнадцатом – нет, должно быть, в шестнадцатом году, летом… Сначала-то фронт по Стыри проходил, а тут австрийцы были. Ну, и немцы были. Ох, вредные! Тоже хозяевами себя почувствовали, на крестьян и глядеть не хотели… Потом наши их погнали, и они покатились до самого Стохода. И еще дальше покатились. А уж здесь – русские… Я помню…
Во время первого нашего привала слева и немного сзади выплыл над лесом тоненький серпик луны. Старик, только что присевший отдохнуть вместе с нами, вскочил:
– Ну, хлопцы, вон какое у вас счастье! Теперь дело пойдет! видите: луна-то через левое плечо. На счастливой стороне луна-то!
На этом переходе мы встретили старых своих товарищей, о которых давно-уже не было никаких вестей. Еще в сентябре 1942 года на Выгоновском озере лейтенант Сергеев предложил организовать экспедицию в эти места, чтобы уничтожить спиртозавод в Перекалье. С ним согласились и послали его самого во главе небольшой группы. Вот с этой-то группой – случайно и неожиданно – и столкнулись мы на лесной дороге. Не сразу узнали друг друга, а узнавши, долго не могли успокоиться – такая оказия! Сергеева с ними уже не было. Соколов, заменивший его, доложил, что задание они выполнили: завод сожжен. А Сергеев погиб в схватке с фашистами.
Вся эта группа (в ней осталось восемь человек) присоединилась к нам. К слову сказать, хотя мы многих товарищей оставляли по дороге (у Сазонова, у Бужинского, у Мисюры), группа наша не убавлялась, а даже росла за счет таких вот присоединившихся к нам людей.
Встреча с Насекиным была у нас назначена на озере Радич, но от крестьян мы узнали приблизительное место насекинского лагеря, и оказалось, что это в другую сторону. Надо было сделать верст двенадцать крюку да еще от озера к лагерю идти целый день. Решили, не заходя в условное место, сами отыскивать партизан. В Гирниках, где, по словам крестьян, они часто бывают, мы никого не застали. Пошли дальше. Переночевали (с пятого на шестое декабря) в стогу сена. Ранним солнечным утром с вершины холма, поднявшегося над окрестными лесами, оглядывали горизонт: где-то наши друзья? И вот над лесом, в чистом прозрачном воздухе, всплыло тонкое облачко дыма.
– Вон!
Сомнений не было. Кто же, кроме партизан, разложит костер в этих дебрях! Засекли направление и по компасу двинулись дальше. Вскоре напали на неширокую, поросшую травой лесную дорогу. Это, наверно, и есть партизанская дорога. Через несколько шагов – лошадиный след. Конечно, это кто-нибудь из насекинских бойцов ехал. А вот солому пораструсили. Ну, ясно! Некому больше везти по лесу солому. А дальше – опять следы копыт… Так и шли, пока не увидели партизанского часового… Это было около одиннадцати часов шестого декабря 1942 года.
Отряд Насекина
Одно то, что мы по следам и по рассыпанной соломе без труда нашли лагерь, показывает, как неконспиративно вели себя насекинские бойцы. Чем ближе к лагерю, тем больше попадалось нам признаков этой неконспиративности. В том месте, где от лесной дороги ответвляется партизанская тропа, навалены были недавно срубленные сучья березы – грубая маскировка. Мы ее разглядели метров за сто. Она не скрывала, а, наоборот, показывала любому, где сворачивать к партизанам.
Караульные увидели нас издали. Их было трое, и один оказался нашим соратником по Гурецкому отряду. Он сразу узнал нас, послал одного товарища в лагерь сообщить о нашем приходе, другого оставил на месте, а сам бросился навстречу:
– Здравствуйте, товарищ комиссар!
Обрадовался.
А когда мы подошли к посту, из лагеря уже бежали к нам целой толпой. Встретились. Рукопожатия и объятия, сбивчивый, торопливый говор. Много знакомых лиц: друзья по Витебщине, по Выгоновскому озеру.
В лагере встретили меня Яковлев и Рыбалко – заместители Насекина. Яковлев доложил как полагается:
– В отряде все в порядке. Происшествий нет. Люди – на базе. Некоторые – на заданиях.
– За Насекиным послали?
– Послали.
– Ну, добре. Продолжайте работу.
Я не сделал ему никакого замечания, хотя знал, что отряд их вовсе не в порядке. Я ждал, когда он заговорит сам. А он начал рассказ горькой фразой:
– Невозможно дальше так существовать!..
Да, до Центральной базы доходили тревожные вести, поэтому Батя и послал меня на Украину. По дороге и от крестьян я услыхал нехорошее. Яковлев же подтвердил все. Отряд бездеятелен. Бойцы недовольны, старые еще крепятся, но среди новичков дисциплина расшаталась. Один даже дезертировал из отряда – Билык по фамилии. Бывали случаи мародерства и вымогательства. Сам Насекин пьет и в пьяном виде ведет себя безобразно, размахивает пистолетом: «Расстреляю!» А в деревне Езерцы как-то на самом деле начал стрельбу – прямо при народе, на улице. Можно представить себе, какое впечатление производит это на крестьян. Ведь здесь, в Западной Украине, кулачество сильно, и националисты ведут свою подлую работу. Да, дальше так действовать невозможно.
Рассказывая все это, Яковлев водил меня по лагерю, показывал его, знакомил с людьми. Расположен был лагерь неплохо. Густой сосновый лес подступал со всех сторон к небольшому островку среди болота, заросшему кустами лозняка и ольхи, березками и осинками. Лесная дорога, по которой мы пришли, не особенно далеко, но дорога ненаезженная (поэтому и удалось различить на ней следы). В царскую войну здесь, в этой глуши, проходил фронт: в окрестностях лагеря сохранились остатки землянок, окопов, обозных стоянок, проложенных через болото дорог. Но просеки заросли, окопы осыпались, гати сгнили, бурьян затянул обломки брошенных телег и зарядных ящиков. Пустынные позабытые места. Разве только лесник или случайный охотник забредет сюда. Это, должно быть, и спасло отряд Насекина от карателей, хотя, повторяю, необходимой для партизан постоянной и напряженной бдительности я в отряде не заметил.
Очень не понравились мне порядки, заведенные Насекиным, и устройство лагеря. Охрана выставлена метров на триста – не больше, на это я обратил внимание, как только пришел. Людей много (132 человека), и почти все они в лагере. Это лишний раз подчеркивает пассивность отряда. Живут они вместе – в одной большой и очень неприглядной землянке. А для начальства – особая маленькая землянка, конечно, более комфортабельная. Согласен, что можно, а иногда даже и нужно партизанским командирам жить отдельно от своих бойцов. Я не люблю этого, но иногда это необходимо, хотя бы в целях более строгого сохранения военной тайны, и для дисциплины это иногда бывает полезно. Но у Насекина отделение руководства отряда от бойцов принимало иной, нехороший оттенок, словно командир хотел отгородиться от своих подчиненных. Начальство здесь и столовалось отдельно, и специально для командирского стола в лагере держали двух коров. Неприглядна была и кухня. Кое-как сколоченный навес на кривых подпорках протекал – капало прямо в котлы. Повар Ордуханов – обросший и засаленный, похожий на масленщика, полмесяца не выходившего из машинного отделения, – управлял этим царством грязной посуды и неубранного мусора. От этой грязи, наверное, и пшенная каша мне показалась невкусной. Недалеко от кухни топтались как попало привязанные лошади, тут же брошено было несколько телег – весь партизанский обоз.
Около лошадей встретили мы старого нашего знакомого Гришу Бурханова. Он был ординарцем Насекина. По простоте своей он прямо так и сказал мне:
– Хорошо, что приехал, товарищ командир, а то уж мне надоело за самогоном ездить.
Оказывается, только вчера его посылали к леснику за самогоном, и те следы, по которым мы пришли в лагерь, оставила его лошадь.
– А кто солому растряс по дороге?
– Это у Рыбалко спрашивайте. Его группа солому возила.
Рыбалко был тут же, и, немногословный по-прежнему, он только буркнул:
– Недосмотрел.
– Партизану нельзя недосматривать. Недосмотрел оком – заплатишь боком.
– Исправимся.
– А почему Рыбалко отвечает за солому? Кто старшина?
– Востриков, – кивнул Бурханов на партизана, знакомого мне еще по Белому озеру.
– Вот не ждал! – упрекнул я его. – Старый хозяйственник – и такое безобразие в хозяйстве. Вон и Ордуханов у вас черный весь. Не разберешь – то ли он брюнет, то ли потемнел от грязи.
– Ордуханов – повар.
– А если повар, значит, можно грязью обрасти?.. И почему он в поварах ходит? Молодой. Здоровый. Женщин у вас достаточно – вот и приспособили бы женщину. Она лучше справится, и порядку у нее больше будет. А у вас окажется лишний боец…
Появился Насекин. По его опухшим, мутноватым глазам и нетвердой походке видно было, что он с похмелья. И хотя он отрапортовал по всем правилам, я сказал:
– Вот этого я не ожидал – встретить тебя пьяным. Придется разобраться… Ну, а пока показывай и объясняй… Прежде всего, много ли у тебя осталось взрывчатки?
– Килограммов семьдесят.
– Ого! Да ты экономишь!.. И еще я принес около сотни килограммов. Можно работать. Давай отправлять людей на задания.
Насекин поежился, словно от холода:
– Надо бы… Но ведь теперь охрана наехала: трудно работать. Тут все французы охраняют.
Мне стало ясно, откуда у него эта экономия и почему большинство бойцов сидит в лагере.
– Ну что же, – сказал я, – мы и французов видали. Готовь, подбирай людей. Кстати, и мне с ними надо познакомиться.
А люди в отряде были хорошие. Тех, которые пришли из Белоруссии, я знал по прежней работе. У них имелись и опыт и закалка. Но и местные оказались не хуже. Тут я впервые встретился с Самчуком (в отряде его звали Бондаренко), Шафарчуком, Цыпко и с другими товарищами. Первые организаторы партизанского движения в этих местах, до войны они были советскими и партийными работниками, а еще до прихода сюда советской власти – подпольными борцами против панской Польши, членами Коммунистической партии Западной Украины. У них был подпольный опыт и большие связи с населением. С такими людьми чудеса можно творить!
По моему указанию Анищенко подготовил несколько диверсионных групп, включив в них наших знающих свое дело подрывников и здешних партизан, хорошо знакомых с местностью и с населением. Часа в четыре они отправились выполнять задания.
Остальные бойцы, под руководством того же Анищенко, взялись за переустройство лагеря. Надо было расширить имеющуюся землянку, построить, новые, построить баню, привести в порядок кухню.
Насекин рассказывал мне о делах отряда, и, хотя он старался не особенно сгущать темные краски, впечатление получилось безотрадное. За три месяца борьбы они взорвали только шесть эшелонов и один мост, разогнали маленький полицейский участок. Взаимоотношения с населением сложились ненормальные: не было дружбы, братства, скорее было что-то вроде запугивания со стороны партизан. Да и в самом отряде была та же система: Насекин пытался руководить при помощи маузера, люди его побаивались, но, кажется, не уважали.

Командир отряда В. И. Бовгира

Командир отряда Юзеф Собысяк (Макс)

Командир отряда Н. П. Канищук (Крук)

Командир отряда П. X. Самчук (Бондаренко)
Неподалеку располагались еще две партизанские группы под командой Макса и Крука (это не настоящие фамилии, а партизанские клички). Известное влияние на них Насекин имел, но настоящего руководства этими группами с его стороны не было. Между прочим, говоря о Максе, он обронил даже такую фразу:
– Не знаю, как с ним держаться: ведь он польский офицер. Да и у меня в отряде есть поляки. Как с ними быть?
Хорошо, что сам Макс случайно появился в лагере в этот день часов в шесть вечера. Рослый и хорошо сложенный красивый блондин с открытым веселым лицом, он как-то сразу располагал к себе. Помнится, когда мы знакомились, он, салютуя по-польски, поднес пальцы к козырьку своей черной поношенной, но аккуратной кепки. Военная привычка. А под ватным гражданским пиджаком на нем была надета польская военная форма. Я первым назвал себя:
– Бринский, командир отряда, – и протянул руку.
– Собысяк, – ответил он.
Мы разговорились. Как уже повелось в нашей партизанской практике, я расспросил его обо всем: кто он, где был, как ушел от немцев. Сначала он ограничился коротким «убежал», но потом рассказал подробно.
Иосиф Матвеевич Собысяк происходил из крестьян Люблинского воеводства, был членом Польской коммунистической партии и за революционную деятельность сидел в тюрьме. В 1939 году, будучи сержантом польской армии, активно сражался с гитлеровцами, а когда советские войска освободили Западную Украину, остался на Волыни, не желая возвращаться на родину, захваченную фашистами. Работал механиком, потом стал директором Ковельской машинно-тракторной мастерской. Во время войны, отходя вместе с частями Красной Армии на восток, попал в окружение и вынужден, был скрываться. Осенью 1941 года прибыл в Маневичи и, работая там подмастерьем у кустаря, начал устанавливать связи с революционно настроенными поляками. Организовалась подпольная группа, добыли радиоприемник, слушали сводки Совинформбюро и распространяли их. Затем Собысяку удалось поступить наборщиком в типографию. Он и в ней организовал подпольную группу и наладил печатанье листовок, которые распространялись не только в Маневичах, но и в Ковеле, Луцке, Рафаловке. А в Маневичах в то время комендантом полиции был Слипчук – националист и старый немецкий шпион. Он заподозрил Собысяка, и тринадцатого марта 1942 года Иосиф Матвеевич был арестован. После предварительного допроса, на котором Собысяк ни в чем не сознался, Слипчук решил отправить его в ковельское гестапо. Семеро полицаев сели на три подводы, усадили на одну из них связанного Собысяка и поехали. Можно себе представить, как чувствовал себя пленник. Дорога неблизкая, но положение безнадежное: одному, безоружному и связанному, нечего и думать убежать от семерых вооруженных. А в Ковеле его, конечно, опознают, как директора МТМ и коммуниста, и тогда – не жди пощады! А ведь там у него семья: жена, пятилетний сынишка и полуторагодовалая дочь – белокурые, кучерявые, веселые. С какой болью он вспоминает о них! Ведь фашисты и их не пощадят. Он это прекрасно понимает… Но надо выдержать, не показывать полицейским своей боли. Надо сохранять уверенный, спокойный и даже веселый вид. И вот он заводит разговоры с конвоирами, запевает украинские песни, а голос у него хороший, и петь он умеет. Конвоирам нравится. Они сочувствуют веселому арестанту, дают покурить, не развязывая, впрочем, рук. На сочувственные слова Собысяк беззаботно отвечает: