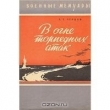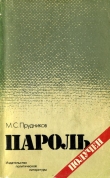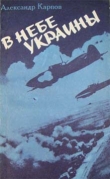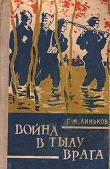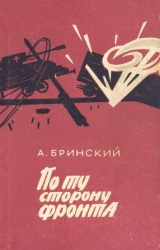
Текст книги "По ту сторону фронта"
Автор книги: Антон Бринский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц)
…Через четыре года
Здесь
будет
город-сад…
Почти все, кто были в лагере, собрались на его голос: его декламацию любили послушать. И стихотворение о трудностях и о стройке, которая уже давно завершена там, в далекой Сибири, какими-то непонятными нитями связывалось с окружающей нас действительностью. И когда Сашка на полный голос кончил:
Я знаю —
город будет,
Я знаю —
саду цвесть,
Когда
такие люди в стране
в Советской
есть!
казалось, что это пророчество относится и к окружающим нас лесам, и к городам, разрушенным фашистами, и к той жизни, которую мы будем восстанавливать, когда выгоним захватчиков с нашей земли.
* * *
Хорошо запомнился мне один из апрельских вечеров, когда я опять проводил совещание с группой народного ополчения. Человек двадцать собралось в хате с занавешенными окнами, керосиновая лампа бросала желтые отсветы на лица, и густые черные тени ложились на потолок и стены.
Скрипнула дверь. Небольшая девочка – желтый платочек, черная потрепанная кофтенка, красное с белыми горошками платьице и аккуратные лапоточки – направилась прямо ко мне, на ходу вынимая из-под какой-то заплатки на плече сложенную вчетверо бумажку. Я и сам не сразу узнал курносое Ванино личико под девичьим платком, и тем более изумились ополченцы, видя, что я беру бумажку у этой девочки, целую девочку, как родную, и сажаю на лавку рядом с собой.
А бумажка была от подпольной организации из Чашников. Короткие и торопливые строки сообщали нам, что фашисты готовят очередную облаву против отрядов Бати. В Чашниках появились новые части, дороги патрулируются немцами, строгости усилились. Нашему маленькому связному, чтобы не вызвать подозрений, пришлось нарядиться девочкой. Сильно помогла нам тогда принесенная им помятая бумажка.
К Первому мая 1942 года мы готовили красные флаги с надписями: «Смерть немецким оккупантам!» Их надо было развесить в крупных населенных пунктах, где стоят немецкие гарнизоны, и заминировать. Самое активное участие в подготовке принимал Ваня. Где могли, разыскивали мы красную материю, и все-таки ее было мало. Терешков сказал в шутку:
– Ведь не хватает материалу-то. Хоть бы ты, что ли, Ваня, галстук свой принес. Все равно он у тебя пропадает спрятанный.
Ваня обиделся:
– Нет уж, галстук не отдам! Он у меня в хорошем месте и не пропадет, не найдут его. Я с ним буду встречать Красную Армию.
Развешивать заготовленные флаги отправились Сыско, переодетый старухой, Терешков, наряженный молодой женщиной, и с ними Ваня. Они опоясались флагами под одеждой, а мины положили в мешок и в корзину, замаскировав их картошкой.
Развесили благополучно. И Первого мая немцы и их приспешники взлетали на воздух, пытаясь сорвать эти флаги. Подорвался на флаге, вывешенном над его собственным крыльцом, и один из злейших немецких сподвижников бургомистр Чашников Сорока.
Семнадцатого мая наш отряд уходил из «Военкомата». Я знал, что нам предстоит большой поход – вероятно, сотни километров по лесам и болотам, по тылам врага. Двенадцатилетнему мальчику пройти такой путь наравне со взрослыми вообще невозможно, а Ваня к тому же захворал: схватил грипп, сильно простудился, выполняя задание. Как ни грустно было нам расставаться с ним, все же пришлось оставить его в отряде капитана Бутенко. Во время прощанья у многих слезы навертывались на глаза, и я с трудом сдерживался. В горле першило, и говорить было тяжело.
– Ну, прощай, сынок!
И верно: он был мне вместо сына и теперь, обнимая меня, плакал и не стеснялся слез.
– Прощайте, товарищ комиссар!.. – прерывисто проговорил он. – Прощайте!..
Не оглядываясь, я пошел впереди отряда, а когда на опушке обернулся, маленькая фигурка махала мне издали пестрой клетчатой кепкой. Признаюсь, я тогда почти не надеялся, что мы еще услышим о нашем маленьком партизане.
Подготовка к переходу
Утром восемнадцатого мая пришли на Бычачью базу. Свое странное название этот лагерь получил вот при каких обстоятельствах. Когда мы строили его, то думали, что сюда, через болота и чащи, не ступала еще ни одна человеческая нога. Но вскоре колхозники из Домжерицы, отправившись за «смолячками» (смолистым сосновым сушняком), выехали на быках на нашу партизанскую дорогу. Правда, до лагеря они не добрались, но ехали на быках! Так и прозвали эту базу «Бычачьей». Центральная база находилась километра за четыре, и в четырех же километрах от нее проходил большая Лепель – Бегомль.
Конечно, болота и лес – хорошая защита, но не слишком ли близко идет большая дорога? Там, на мосту, стоит постоянный немецкий караул, а в пяти километрах севернее, в деревне – крупный гарнизон. Не слишком ли беспечен Батя? Мне снова пришло это в голову, когда, явившись по вызову на Центральную базу, мы встретили часовых всего в полутораста метрах от лагеря. Ведь тут и наш штаб, и радиостанция, и прием самолетов. Вдруг нагрянут немцы?.. Так я и сказал Григорию Матвеевичу:
– Вы очень беспечно живете. Тут и самолеты принимаете, тут и рация, а вы почти без охраны.
– Почему без охраны? – ответил Батя. – Видишь, вон журавлиное болото, оно нас и охраняет… Гляди!..
А мне и глядеть было незачем: я и так знал эту широкую и непроходимую прогалину, где среди тощих кустарников и корявых кочек, укрытая осокой и мхами, зацветала стоячая вода. И журавлей я видел сколько раз! Громадными серо-бело-черными стаями, по сотне и больше птиц, дремали они, поджав одну ногу и спрятав клюв под крыло. Около каждой стаи неторопливо, с расстановкой, внимательно оглядываясь вокруг, прогуливался длинноногий часовой.
Батя понял, что я принимаю его слова за шутку, подозвал одного из бойцов.
– А ну-ка, подойди к журавлям.
– Так они же на болоте – к ним не подберешься.
– А ты сколько сумеешь.
И боец пошел.
– Вот глядите, – сказал нам Батя.
Едва только посланный вышел на открытое место, караульный журавль из ближайшей стаи остановился, вытянул шею, курлыкнул что-то, и вся стая зашевелилась, заговорила на своем непонятном языке. Птицы поднимали головы, опускали поджатые ноги и переминались с ноги на ногу, словно собирались убежать или улететь. А вот и в самом деле с недовольным курлыканьем, с тяжелым шумом крыльев вся стая снялась с места. И соседняя с ней тоже насторожилась, и по всей болотине пошел журавлиный говор.
– Ну как? – спросил Батя.
– Да, – признался я, – охрана надежная.
* * *
Батя решил увести отряд на запад. Он считал, что нам, хорошо снабженным взрывчаткой, тесно становится в Березинских лесах. Здесь только две важные железнодорожные магистрали, а остальные объекты не имеют серьезного значения. Новые отряды, появившиеся в наших местах (Заслонова, Кузина, Воронова), и мелкие группы, организованные за последнее время, с успехом выполняют всю необходимую работу. А мы должны более активно содействовать развертывающемуся наступлению Красной Армии, должны расстроить или совсем парализовать основные коммуникации врага. Вот они протянулись через дремучее болотистое Полесье. Там такие же непроходимые места, как и здесь, но зато сколько там железных дорог!.. Объясняя мне это, Батя развернул обычную школьную карту, где на пространстве, равном примерно половине газетного листа, уместилась вся Белоруссия, и показал на крохотное голубое пятнышко – Выгоновское озеро в Пинской области.
– Здесь мы будем базироваться. Озеро – ориентир для самолетов… Жалко только, что настоящей карты нет, – прибавил он. – А на этой разве разберешься!
– Ничего, Григорий Матвеевич, за картой дело не станет. Мы с Перевышко достали в Красавщине пятикилометровку. Устроит вас это? – Я вытащил свои карты.
И рад же он был этому подарку!
Все в отряде уже знали о предстоящем переходе, но маршрут его из осторожности мы сохраняли в тайне. В день нашего прихода Батя на лесной поляне, недалеко от лагеря, собрал коммунистов и, проводя беседу с ними, тоже не указал направления, но зато подробно остановился на предстоящих трудностях. Сотни километров лежат перед нами. Пойдем мы лесами, болотами, стараясь не попадаться никому на глаза, избегая по возможности населенных пунктов. Груза будет много, килограммов по двенадцати-шестнадцати на человека: ведь мы и взрывчатку понесем на себе, и продовольствия постараемся захватить как можно больше. Подготовка к походу уже начата. Отряд разбивается на боевые группы, приводится в порядок одежда, подгоняется обувь, вооружение, вещевые мешки, распределяется груз. Возьмем с собой только самых выносливых, они уже тренируются, ежедневно делая небольшие переходы с грузом по труднопроходимой местности. Но всего этого, конечно, недостаточно: на деле придется еще тяжелее. И каждому коммунисту надо будет много поработать со своими товарищами. Отставших не должно быть. Пусть все запомнят: лучше умереть, чем отстать.
Мысль о переходе захватила бойцов, и даже Иван Крывышко, работавший в то время поваром, по-своему готовился. Он раз по пятнадцати в день примеривал свой вещевой мешок, прилаживал, перетягивал лямки и суп варил с мешком за спиной. Этот странный человек, уже немолодой, с макушкой голой, как у ксендза, много видевший и много переживший, по-детски увлекался героикой нашей борьбы. Он еще не участвовал ни в одной диверсии на железной дороге, но со слов товарищей знал, как это делается, и любил поговорить, объяснить. На всякий случай у него были примеры, во всяком деле он старался показать себя знатоком. А говорить он действительно умел – с выражением, с жестикуляцией, убедительно и просто. И когда, бывало, собравши вокруг своего очага компанию любителей поболтать, он размахивал перед ними поварским черпаком, надо было следить и за ним, и за котлом, чтобы не пригорел наш партизанский суп.
* * *
Коптилка на кривоногом столике не столько светит, сколько чадит. Стены землянки кажутся еще теснее и потолок еще ниже, потому что на воле прекрасная весенняя ночь, птичий гомон, вздохи ветра, крупные голубые звезды… Мы с Батей изрядно устали за день, но ложиться нельзя. Согнувшись над картой, отсчитываем километры, намечаем маршрут – переход за переходом, отыскиваем места для дневок. Надо разобраться, где пройти, какая будет дорога, какие могут встретиться препятствия. А ведь пройти нам предстояло более 600 километров. Кропотливая, нудная работа. Хоть бы в лагере поскорее заснули, в тишине было бы легче сосредоточиться. Но шум не умолкает, «Дан приказ ему на запад…», – запевают в соседней землянке. И Батя в досаде так нажимает на карандаш, что обломанный кончик графита отскакивает в сторону.
– Началось! – говорит он. – Опять встретились Чим-Чилим со Шлыковым. Покоя от него нет, от вашего Чим-Чилима.
Я с трудом удерживаю улыбку. Бас Перевышко (Батя его голоса терпеть не может и зовет парня почему-то этим странным прозвищем Чим-Чилим) и мягкий тенор Шлыкова ясно слышны на фоне других голосов. Хорошо поют ребята! И действительно: стоит им только встретиться – не обойдутся без песни… Я говорю:
– Молодежь. Пускай поют.
– Я думаю, вы тоже не прочь быть у них запевалой, – раздраженно отвечает Григорий Матвеевич и ожесточенно принимается чинить карандаш.
– Давайте дальше!
А, кроме маршрута, надо снова перебрать всех людей, подумать о командирах групп и взводов. До сих пор наши отряды делились на взводы и полуотряды (по нескольку взводов). Это было целесообразно и необходимо в бою, в сторожевой службе, в налетах, но для подрывного дела, как показал опыт, нужна небольшая группа, лучше всего пять-семь человек. Батя приказал мне разбить всех уходящих на такие группы и к 10 часам утра представить список командиров… Заснуть в эту ночь так и не удалось.
* * *
Еще с осени 1941 года все вновь вступившие в отряд после испытательного срока принимали нашу партизанскую присягу. Среди подготовленных к походу было немного новичков, и все-таки двадцатого мая, накануне выступления, выстроившись с оружием и в полном походном снаряжении, отряд снова повторял слова нашей присяги:
«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, находясь на временно оккупированной немецкими захватчиками территории, вступаю в ряды народных мстителей, чтобы мстить за честь моей Родины, за разрушенные города, за сожженные села, за слезы матерей, детей и жен.
Я клянусь быть честным, храбрым, бдительным, дисциплинированным воином, строго хранить военную тайну, беспрекословно выполнять приказы моих командиров и начальников.
Я клянусь быть бесстрашным и мужественным в борьбе против гитлеровских захватчиков и их пособников. За свою Социалистическую Родину не пожалею не только своей крови, но и самой жизни для достижения полной победы над врагом.
Я клянусь ни при каких обстоятельствах не бросать из рук оружия и живым не сдаваться врагу.
Если же по злому умыслу я нарушу эту клятву, то пусть, накажет меня суровая кара советского Закона и всеобщая ненависть и презрение».
В последние дни к нам зачастил Заслонов. Он очень подружился с Батей, любил поговорить с ним, посоветоваться. Один раз, возвратившись в лагерь, я спросил у Сураева, который выполнял тогда обязанности начальника штаба:
– Где Батя?
– В землянке. У них с Заслоновым опять железнодорожная дискуссия.
Я вошел. И верно: склонившись над картой, одной из тех пятикилометровок, которые я ему принес, Григорий Матвеевич обсуждал с Заслоновым предстоящую операцию.
– Я и говорю… Вот если здесь… примерно километра за два до станции. Самое уязвимое место. Видите: прямо у полотна лес, подход обеспечен… Да я без карты помню. Там насыпь высокая: весь состав под откосом будет.
– Ну и что же?.. А на другой день пути исправят, и опять как ни в чем не бывало. Нет, это только на словах хорошо под откос пускать, а по-настоящему лучше в выемке… Ну, например, здесь… Я ведь тоже знаю место: глубиной метров пять эта выемка. И всю ее завалит железным ломом. Разбирать, так до рельсов и добраться трудно! Для железной дороги хуже всего, когда крушение происходит в выемке. Поверьте опыту…
– Хорошо. Но здесь – открытая местность. А вот тут – и выемка, и лес близко.
– Можно. Но здесь он дает тихий ход, не получится такого эффекта, а там разгонится.
– Да-а… Ну что же. Значит, там и надо. Подумать только, сколько тонкостей приходится учитывать при организации всякого дела!.. Значит, решено, тут… – И, указывая на другое место карты, Батя добавляет: – Но меня интересуют больше всего вот эти пауки.
Речь шла о железнодорожных узлах.
– Да вы становитесь настоящим железнодорожником, – улыбнулся Заслонов. – Хотите регулировать движение фашистских поездов. Многого они не досчитываются от такого регулирования!
– Ну уж вы совсем разошлись. Что это за комплименты на прощанье!
– Да нет, Григорий Матвеевич, вы вообще серьезно взялись за железнодорожное дело.
Через несколько дней, когда Заслонов пришел провожать нас, Батя, широко махнув рукой, сказал:
– Вот вам все наше имение. И Бычачья база, и Центральная, и все остающиеся запасы, и все болота. Командуйте!
Заслонов оставался на нашем месте, в его подчинение переходили и отряд Ермаковича, и отряд Бутенко, и группа Сутужко.
Дорога на юго-запад
Одной из трудностей предстоящего рейда являлось то, что никто из нас не имел еще опыта таких больших переходов. По намеченному маршруту нам предстояло пройти до шестисот километров в тылу врага.
Двинулись строго на юг, к Березине, через моховые болота, широко раскинувшиеся впереди. Деревца и кустики были здесь редки и уродливы, словно сосны и березы вырождались на этой зыбкой почве. Кочки, напоминающие большие муравейники, краснели от прошлогодней подснежной клюквы. А пышные зеленые и красноватые мхи, пропитанные, как губка, холодной весенней водой, мягко оседали под ногами. Партизаны вязли в них по щиколотку, по колено, спотыкались, но упрямо шли за Батей, который, кажется, не знал, что такое усталость.
Отдыхали на другой день на сухом островке, где стоял когда-то хутор Лубники, а теперь чернело пожарище да торчали покосившийся сарайчик и убогий тесовый навес.
Сбрасывая с плеч тяжелый вещевой мешок, Тамуров невесело пошутил:
– Хорошо еще, что Ванюшку не взяли, а то бы пришлось и его на себе нести по такой-то дороге.
– Не страшно нести, с этим бы мы справились, но ведь опять расхворался бы мальчишка. Тут и взрослый-то не всякий выдержит!
– А ведь как он просился!
– Хм! Разнюнились. Не о чем вам говорить больше! – сердито оборвал Перевышко, но под его напускной суровостью скрывалось такое же теплое чувство к Ване и грусть оттого, что пришлось расстаться. И сам Перевышко часто потом вспоминал мальчика в клетчатой кепке. В разведку ли надо послать, на связь ли, куда взрослому нельзя проникнуть, все, бывало, скажет:
– Вот бы Ваню!.. Товарищ комиссар! Он бы прошел лучше всякого!..
…Ближе к Березине идти стало еще хуже. Река разлилась, затопив луга. Берега исчезли. Мы уж не видели дороги, а только догадывались, что это она лежит перед нами, извиваясь среди кустов. Вооружившись длинными шестами, мы ощупывали ее перед каждым шагом. И Батя с таким же шестом шагал впереди. Вода достигала пояса, иногда поднималась и выше, мы промокли, а свежий ветерок пронизывал нас насквозь.
Перевышко, шаря шестом в воде, ворчал:
– Все равно как в «Разгроме». Помните, картина была? Отряд Левинсона выходит из окружения… Вот и мы…
– Ничего! – откликнулся Тамуров. – Когда-нибудь и наш переход в кино покажут. Ты же сам будешь ругаться, что тебя не в такой пиджак одели.
Перевышко не улыбнулся.
– Тебе все неймется. Смешно. Вот когда угодишь в яму да начнешь пузыри пускать, будет тебе смех. Я тебя вытаскивать не полезу.
– Вынырну… А ты, Сашка, сценарий про нас напишешь. На первом плане Крывышко: лысина блестит, в одной руке – шапка, в другой – ведро, идет и позвякивает.
Ребята кругом смеялись:
– Крывышко, слышишь?.. Иван, слышишь?.. Бросил бы ты свою побрякушку!
– В ней пять кило мяса, – не смущаясь и не обижаясь, ответил Крывышко, – сами же есть будете.
– Некуда тебе положить было?
– А и ведро пригодится. Увидите…
Готовясь к переходу, Батя запросил, чтобы ему выслали из Москвы водные лыжи, рассчитывая, что на них можно будет и по болотам ходить, и через реки переправляться. По этому поводу было много сомнений. До сих пор водные лыжи употреблялись чрезвычайно редко. В некоторых клубах в спортинвентаре видели мы одну-другую пару таких лыж, знали, что есть любители этого вида спорта, но они считались единицами и больших успехов не имели. Массового распространения и какого-нибудь практического применения водные лыжи не имели. Вероятно, и сам изобретатель и специалисты-спортсмены даже не предполагали, что мы будем пользоваться их лыжами в боевых условиях. Да и нам самим испытания лыж на Домжерицком озере и на реке Эссе принесли немало разочарований. Человек становился на лыжи, прикреплял их к ногам и., перевертывался вниз головой в воду, а лыжи, легкие, надутые воздухом, плавали на поверхности. Устойчивости не хватало, «лыжник» не мог сохранить равновесие. Очевидно, большая тренировка и какое-то особое умение, искусство нужны были для того, чтобы ходить по воде. А может быть, требовалось какое-то незначительное усовершенствование, какая-то деталь? Партизаны спасали злополучных испытателей и заводили горячие споры.
– К ним нужно груз прикрепить снизу.
– Тогда они плавать не будут.
– Их связать надо.
– Все равно перевернутся.
– Чтобы ему самому, кто их выдумал, так вот ходить!..
– Да что вы спорите? Уж если Батя взялся… Придумает.
И действительно, для переправы через Березину Григорий Матвеевич выдумав свой собственный способ пользования этими лыжами. Палками скрепляли их по трое, получалось нечто вроде плотика, достаточно устойчивого и способного выдержать тяжесть любого человека. Спереди и сзади к этому плотику привязывали крепкие парашютные стропы, плот превращался в небольшой паром; оставалось только переправиться на нем на ту сторону реки, а потом перетягивать плотик взад и вперед столько раз, сколько потребуется. И все это оборудование – три лыжины и стропы – легко укладывалось в обычную сумку от противогаза.
Трудность представлял первый рейс, и его Григорий Матвеевич решил сделать сам. Отдал Соломонову конец стропа – держи! – сел на плот, а потом, для большего удобства, улегся, на нем и, гребя руками, медленно поплыл через реку. Основной фарватер Березины не особенно широк в этом месте, но беспокойная весенняя вода сильно затрудняла переправу. Течение сносило плотик, поворачивало его, а у пловца не было ни весел, ни руля. Бойцы, не отрываясь, следили за каждым движением Бати, за легким покачиванием удаляющегося плота, за стропом, плескавшимся на воде.
– Доплыл!.. Вылезает!.. Готово!..
Все облегченно вздохнули.
И так всегда Батя старался взять на себя самое ответственное, самое опасное, самое трудное дело. И бойцы безоговорочно верили ему и беззаветно любили его. Такое отношение к командиру типично вообще для всякого партизанского отряда, а Батя своей опытностью, деловитостью и скромностью особенно привязывал к себе подчиненных.
После первого рейса дело пошло быстро. Едва очередной боец успеет примоститься на плотике, как строп натягивается, и плотик несется поперек реки, вспенивая воду.
– Здорово! Даже вода свистит! – восторженно сказал один из партизан, выходя на противоположный берег.
Вслед за первым паромом мы сумели наладить и другой такой же, а потом и третий – насколько хватило наших водных лыж.
Все они работали исправно, но без неприятности переправа все-таки не обошлась, и, как назло, неприятность произошла с-единственной девушкой, участвовавшей в нашем походе, радисткой Лидой Мельниковой. Садовский тянул строп, паром подплыл к самому берегу. Здесь надо было натянуть строп потуже, а Садовский, должно быть, зазевался и, наоборот, ослабил его. Лида встала, чтобы сойти на берег, но едва она двинулась, зыбкий плотик потерял равновесие, и передняя часть его под тяжестью Лиды погрузилась в воду. Радистка начала тонуть.
– Стой!.. Держи крепче!.. Что ты делаешь!..
Строп опять натянули, несколько рук подхватили Лиду, но она по самые плечи окунулась в ледяную весеннюю воду.
Мокрая, сразу озябшая до того, что зуб на зуб не попадал, испуганная и возмущенная, она слов не могла найти, чтобы выразить свое негодование и обиду. Виновник несчастья совсем растерялся. А ребята (сначала они тоже испугались, а потом обрадовались благополучному исходу) старались успокоить девушку:
– Ну, подумаешь!.. Да ты не расстраивайся. Мы ведь тоже все мокрые. Тебе еще лучше: ты хоть от болотной грязи чистой водой ополоснулась, а у нас кости размокли.
И верно: наши ноги, не просыхавшие как следует несколько дней подряд, разбухли, словно до самых костей пропитались водой. Ржавая болотная жижа разъедала их, а тяжелые, тоже намокшие, сапоги растирали их до крови, до ссадин…
Западный берег Березины оказался не лучше восточного. Остаток ночи мы шли по таким же мокрым лугам, по оттаявшим болотам. И на привал поутру расположились в мокрой рощице, кое-как примостившись на кочках, у корней деревьев, на грудах валежника. Как умели разводили костерки, чтобы обсушиться. Если бы не усталость, останавливаться в таком месте, конечно, не стали бы.
Здесь опять произошел интересный случай. Закуковала кукушка, но мы не обратили бы на нее внимания, а ее негромкий голос ничего бы нам не сказал, если бы не Батя.
– Слышите? – заметил он. – Значит, деревня недалеко. Кукушка живет поблизости от людей и на сухом месте. Надо узнать…
Григорий Матвеевич решил идти сам.
– Возьмите с собой кого-нибудь, – предложил я. – В одиночку не годится.
– Нет, пускай отдыхают.
И, поглядывая на компас, пошел к западу. Я не стал с ним спорить, но поступил по-своему. Вызвал двух молодых лейтенантов комсомольцев Казакова и Сазонова – людей надежных и выносливых.
– Видали, куда пошел Батя? Вот в этом направлении. Так и вы пойдете, за ним следом. На всякий случай, если он наткнется на немцев. Но на глаза ему не показывайтесь. Поняли?..
Ребята поняли, но выполнить как, следует не сумели; помешали им, должно быть, усталость и бездорожье: человек не лягушка, в воду не спрячется. Батя заметил их в кустах, возвращаясь с разведки, понял, что я послал, обиделся и рассердился.
– Что вы сомневаетесь во мне? Думаете, что я один не справлюсь?
– Это – мой долг, Григорий Матвеич, – ответил я. – Плохой бы я был заместитель, если бы не заботился о безопасности своего командира.
– Но ведь люди устали, или как вы думаете?
– Война… И командир устал не меньше. А это – ребята молодые.
Результат разведки Бати был неутешительным. В деревне немцы, надо обходить ее мокрыми лесами и болотами. И мы пошли…
Хороши весной эти пустынные места. По лесам доцветают черемуха и подснежник, белеют ландыши, начинает цвести шиповник. И еще какие-то желтенькие и беленькие цветы прячутся в молодой весенней траве. В густых кустах звенят соловьи. Всякого зверя, всякой птицы видимо-невидимо в этих чащах. Славная должна быть охота!..
А реки и речки все еще не вошли в берега, болота набухли водой, трудно пробираться по весеннему бездорожью. Избегая ненужных столкновений с немцами, мы почти не заходили в населенные пункты и почти не пользовались торными дорогами. Снова палками прощупывали путь по залитым лугам, снова на водных лыжах переправлялись через буйные речки. В конце концов набрели на заброшенную гать, сохранившуюся еще от первой мировой войны, но и ее больше чем наполовину засосали трясины и разрушило время.
Всем было нелегко, порой оставалось только удивляться, как еще людей ноги носят. Особенно трудно приходилось радистке. Подготавливая бойцов к переходу, мы не хотели брать с собой женщин и только для этой девушки, рослой, выносливой, не по-женски сильной, сделали исключение. Но дорога оказалась слишком утомительной, рация, питание к ней и оружие слишком тяжелыми, сил у Лиды не хватало.
Вместе с радисткой постоянно держался Шлыков, хорошая молодая дружба завязалась у них. Бывало, приходим на привал, Лида смотреть ни на что не хочет, ей впору только до места добраться. А Шлыков собирает хворост, разжигает для нее костерок, заботится об ужине и о ночлеге. И она тоже как-то по-своему, по-женски, помогала ему: портянки выстирает на дневке, починит что-нибудь.
Но однажды, на случайной остановке мне сказали, что Лида плачет. Я подошел:
– Что с тобой?
– Устала я, товарищ комиссар. Ноги стерла. Что мне делать? Стреляться, что ли?
Она великолепно знала, что лучше застрелиться, чем отстать от отряда. И такое отчаяние было в ее голосе, что я понял: это не пустые слова. Позвал Шлыкова и строго сказал ему:
– Помогай. Что же ты сам-то не догадаешься?
Шлыков покраснел. И, несмотря на то что и он был тяжело нагружен и тоже очень уставал, взвалил на себя большую часть Лидиной поклажи.
…Весна была в полном разгаре. Крестьяне начинали сев. Как-то по-иному, недружно и несмело, выходили они в этот год на поля, словно уже не родной сделалась земля… Нет, конечно, земля-то была родной, и даже роднее, чем прежде, но фашисты придавили и людей, и землю своим «новым порядком». Тяжело стало крестьянам, и, как ни больно было отрываться от налаженного хозяйства, некоторые из них бросали все и уходили в лес, присоединялись к партизанам. А партизанских отрядов и групп, и даже партизан-одиночек, мы очень много встречали на своем пути.
В лесу севернее Логойска набрели на маленькую неумело построенную землянку, приютившуюся в кустах орешника. Рядом ручеек, остатки недавнего костра. Дальше – стена белоствольного березняка.
– Эй, кто тут есть? – и, не дождавшись ответа, один из бойцов откинул дверку землянки, сплетенную из хвороста и обтянутую ветхой холстиной.
Внутри никого не оказалось, но стояли ведро, пара кастрюль, плохонький черпачок и лежали две еще не ощипанные курицы.
– Как святой Сергий, в пустыне живут, – пошутил кто-то.
– Запасливые пустыннички, – заметил Крывышко, – курочки-то свеженькие.
– Тоже, наверное, от немцев спасаются. Интересно бы познакомиться.
Обшарили кусты, поискали в березняке, громко кричали, вызывая хозяев:
– О-го-го-го!.. Давай сюд-а-а!
Но только эхо разносилось в ответ нам по лесу:
– O-o-o-o! A-a-a!
– Спрятались где-нибудь.
– Да, уж теперь не выйдут. Спугнули мы их своим криком.
Мы двинулись дальше и километра за полтора от этого убежища расположились на ночлег. Но едва начало темнеть, из караула сообщили, что наши часовые задержали каких-то.
Я пошел на пост. Задержанными оказались трое здоровенных плечистых ребят. Одеты они были в военное, но уже сильно потрепанное обмундирование. По их обросшим и совсем темным от мороза и дыма лицам можно было догадаться, что живут они в лесу. У одного торчал из-за пояса пистолет, у другого – штык от СВТ, у третьего – какой-то самодельный ножище чуть ли не в полметра длиной.
– Кто такие?
Один ответил за всех:
– Лейтенант Сивуха, старший сержант Есенков и сержант Бурханов.
Оказалось, что это и есть те самые «пустынники», которых мы не застали сегодня в их убогой землянке. Они действительно скрывались от немцев, но вовсе не собирались вести мирную жизнь отшельников. И от нас они не прятались. Пока мы их искали и звали, они были в первой своей экспедиции: пошли добывать оружие. А теперь просились к нам в отряд.
Как правило, мы не принимали новичков во время перехода: некогда было проверять, надежны ли они и выдержат ли дорогу. Но эти трое так настаивали и были такие крепкие на вид, что я решил изменить правилу. Хорошие ребята. А сколько груза возьмут они на свои широкие плечи у наших усталых бойцов!
Расспросив их как следует, я доложил Бате, и Батя согласился со мной. Так вступили в наш отряд украинец Сивуха, сибиряк Есенков и татарин Бурханов. И мы не ошиблись в них.
* * *
Остановились на несколько дней где-то между Плещеницей и Логойском. Неудачное попалось место, а может быть, время выдалось такое: некуда было деваться от комаров. Ни костры, ни куренье не помогали. Неисчислимые стаи, полчища, тучи этих маленьких хищников звенели над нами и ночью, и днем. Лезли в рот, в глаза, в нос, попадали в кружку с чаем, в ложку с супом. Закутаешься с головой – дышать нечем, а они пробираются где-то между складками шинели и вот уж опять пищат около уха. Ловишь их, бьешь, руки отхлопаешь, а они все звенят и звенят. Некоторые из наших ребят распухали от их укусов и в кровь расчесывали тело.
Отсюда Батя отправился под Молодечно, где у него была назначена встреча с Щербиной. Мы должны были его дожидаться. Пользуясь этим, я разослал бойцов на диверсии.
При выполнении одной из этих диверсий погиб хороший боец и верный наш товарищ ненец Иван Демин. Группа Перевышко, в которую он входил, должна была взорвать эшелон около станции Красное на железной дороге Молодечно – Минск. Местность там открытая: днем к полотну не подберешься, а ночью поезда почти не шли. Наши товарищи вышли к месту затемно и, спрятавшись в яме (вероятно, воронка от взрыва), долго лежали, дожидаясь, не пройдет ли поезд. Наконец увидели, что на станции Красное открыт семафор. Демин бросился с миной к полотну. А с другой стороны вдоль насыпи показались немецкие охранники. Они заметили партизана и побежали наперерез, стреляя на ходу. Не задумываясь, не жалея себя, Демин вставил запал в мину и бросил ее почти под колеса приближающегося паровоза. В ту же минуту раздался взрыв. Паровоз запнулся в развороченных рельсах, опрокинулся набок, вагоны полезли друг на друга. Грохот, лязг, треск… Задание было выполнено, но Иван Демин остался под обломками разбитого эшелона.