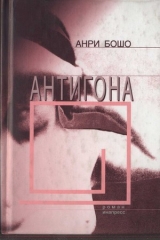
Текст книги "Антигона"
Автор книги: Анри Бошо
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Кончались драки всегда одинаково: Полиник прижимал Этеокла к земле, а сам хохотал. После этого он слегка ударял его по члену, чтобы напомнить, что могло быть и хуже. А если драка была уж слишком жестокой и бесстыдной, Полиник – в ту минуту, когда окончательно лишал брата возможности шевельнуться, – еще и кусал его за нос. Для Этеокла это было знаком полнейшего поражения, и, пока его брат, смеясь, вставал на ноги, вслед ему неслось: «Наступит день, когда я отомщу тебе!»
И такой день наступил – ты его помнишь, как и я, и нет необходимости тебе о нем рассказывать.
Ты в этот момент с редкостным терпением обрабатывала поверхность дерева, будто и не слышала, что я говорю. Тем не менее до меня донесся твой голосок, так напоминающий тот, что звучал в детстве, и ты потребовала: «Нет, мне нужно, чтобы ты об этом рассказала. Для меня одной, твоими словами».
«Однажды, когда мы играли вчетвером, – снова заговорила я, раз так надо, – Полиник неожиданно обрушился на брата с кулаками и, сбив его с ног, повалил на землю. С обычной своей ловкостью Этеокл вскочил, но после падения он еще плохо соображал. Чувствуя, что теперь он защищаться не может, он стал пятиться и, наткнувшись на груду булыжника, схватил камень и запустил Полинику в голову. Маневр Этеокла был так стремителен, что застал Полиника врасплох, – тот не успел присесть, посторониться, камень угодил ему прямо в лоб, и он рухнул на землю.
Испугавшись, что он наделал, – Этеокл решил, что убил брата, – он, рыдая, бросился к Полинику. Я тоже ревела. Ты единственная, Антигона, сохраняла хладнокровие. Ты заставила меня подержать голову Полиника, а сама стерла кровь с его лица. Ты подозвала Этеокла и попросила помочь поднять Полиника, потому что он уже мог открыть глаза. Еще неуверенно держась на ногах, Полиник тем не менее заорал: „Этеокл хотел убить меня… Но ему недостало сил…“ – и кровь из раны на лбу текла по его щекам.
„Это неправда, – возразила ты, – ты начал первым, как всегда“.
Мы еще приводили Полиника в порядок, когда, предупрежденная служанками, прибежала обезумевшая Иокаста. При виде крови на лице Полиника она вскрикнула и, рыдая, бросилась к нему. Она прижала его к себе и долго не выпускала из своих объятий. Полиник был очень доволен: он снова в центре мира, источающем сияние, а его брат рыдает, мучимый угрызениями совести. Оставив мать заниматься Полиником, ты подозвала меня, и мы попытались успокоить Этеокла. Мы обнимали его, говорили, что начал не он. Выкричавшись от страха и гнева, Иокаста поняла, что виноват был не только Этеокл. Она подозвала его, и все помирились.
Вот такими были наши братья, такими они и остались – по правде говоря, они и не выросли. Вот такой была ты, Антигона, всегда готовая утешить слабого. Но все-таки сила тебе нравилась, не правда ли? Победная и хохочущая Полиникова сила?»
Ты вздохнула: «Мне она нравится и сейчас». Потом снова прозвучало настойчивое: «Дальше!» – и ты посмотрела на свои неустанно движущиеся руки, как будто это были не твои руки, а кого-то другого.
Я пересела, и мне стали видны твои глаза – благодаря мне ты не плачешь, но в них, кажется, появился страх: ты побаиваешься того, что начало проступать под твоими пальцами.
Тогда я решилась:
Жестокость, с которой дрались близнецы, и их все возрастающая сила напугали родителей. Их очень удивило твое дикое упрямство, с которым ты защищала Этеокла, а твоя любовь к Полинику была ведь им известна, особенно когда в присутствии Иокасты ты бросила в лицо Эдипу: «На месте Этеокла я сделала бы то же самое!»
Этеокла они не наказали, и, кроме тех упреков, которые обрушила Иокаста на его голову сразу после случившегося, других не последовало. Они решили, что пора близнецам расстаться, и братья, почувствовав, что решение справедливо, не протестовали. Этеокл был отправлен в Коринф учиться мореходному искусству и торговле, как некогда Эдип. Полиник последовал в Аргос, к царскому наследнику, который был известен многими военными успехами, совершенствоваться во владении оружием.
В эту минуту я почувствовала, что ты слушаешь меня вполуха: все твое внимание было приковано к выступающим из дерева фигурам, и, казалось, ты начинаешь видеть то, что уже открыли твои руки. Ты была настолько поглощена работой, что даже не заметила, как я отошла и присела на скамейку у стены. Я так устала, что заснула. Когда же я открыла глаза, ты все еще продолжала работать.
«Темнеет, – сказал К., входя. – Хватит, ты почти ничего не видишь».
«Мне для этого не нужно видеть», – ответила ты.
«Знаю, – произнес он, – но, если ты перетрудишься сегодня, завтра работать не сможешь. Исмена тоже устала, сегодня она останется здесь. Гемон и Железная Рука приготовили отличный обед. Идем».
Он взял нас обеих за руки и потащил к дому.
Все очень проголодались и ели, обсуждая, что с кем произошло. Гемон был счастлив, он стал другом К. и Железной Руки, и то и дело поглядывал на тебя. И, хотя на твоем лице лежали следы усталости, волосы торчали в разные стороны, на платье проступали пятна от пота, тебе нравилось, что на тебя так смотрят. Тебя клонило ко сну. К. встал: «Идем, я помогу тебе лечь». Антигона сразу возразила: «Я сама», но через несколько секунд согласилась: «Нет, неправда, я больше не могу, помоги нам. Сегодня утром я приготовила для Исмены красивую, совершенно белую постель».
К. помог нам, голубые простыни, что я принесла для тебя, привели тебя в восторг. К. укрыл нас, поцеловал, мы повернули головы так, чтобы видеть друг друга, – мы делали так и когда были маленькими, чтобы не слишком бояться темноты. Мне хотелось видеть, как ты засыпаешь, но не удалось, потому что, наверное, я сама уже спала.
Сегодня, когда я снова пришла к тебе после полудня, ты ничего не делала, хотя твои руки лежали на будущем барельефе. «Ты ждешь меня?» – и обе мы по моему голосу поняли, что я не в духе. Тебя это не смутило. «Как тебе идет этот синий цвет, – сказала ты, – ты еще красивее, чем думаешь».
Твои слова выбили у меня почву из-под ног, но я еще пыталась сердиться: «Тяжело мне сюда приходить, ты хотя бы что-то делаешь руками, я же только – в который раз! – повторяю то, что тебе известно».
«Мне больше ничего не известно, Исмена, Эдип требовал так много, что он затмил собой все прошлое. Ты оживляешь прошлое, когда рассказываешь».
Я хотела еще поупираться, но напрасно, – я снова начала говорить, и слова лились и лились в то время, как ты долбила свое дерево или, чтобы почувствовать будущую скульптуру, прижимала ладони к его поверхности.
Эйдоксия рассказывала, что, после того как близнецы расстались, их больше всего интересовали новости друг о друге. Этеокл, который в Фивах смеялся над нами, когда мы учились писать, узнал, насколько это важно. Писать и читать он научился с присущей ему быстротой. Этеокл занимался мореходством и из путешествий отправлял брату коротенькие послания в виде поэм. Полиник гордился этим, учил послания наизусть, читал их вслух на празднествах при дворе или своим друзьям на стадионе.
Царь Аргоса умер, на трон взошел его сын, Полиник стал его другом, командующим конницей и находился при нем неотступно. У нового царя не было сына, и он сделал Полиника своим наследником. В награду за победу, одержанную благодаря храбрости Полиника, царь подарил ему серебряные копи, и Полиник разбогател. Он сообщил об этом Этеоклу, который в то время был в Азии, затем навестил брата и привез с собой лидийцев, которые славились прекрасным знанием горного дела. Они обследовали копи, обнаружили новые серебряные жилы, годные для разработки. Этеокл предложил Полинику привлечь к работе в копях не рабов, а настоящих мастеров горного дела.
Этеокловы советы оказались справедливы – добыча серебра увеличилась в четыре раза, и Полиник еще больше разбогател. Это не удивило Полиника: по его мнению, это была лишь часть золотого века, для которого она, был рожден, и небо пока давало ему то, что должно.
Этеокл бороздил Средиземное море, все больше углубляясь в Азию, и то, что там увидел и понял, изменило его. Ни путешествия, ни мореходство Полиника не интересовали, но когда Этеокл написал ему, что нашел в Азии несравненных коней и всадников, он тут же отправился туда. Его отвага, смех, великолепие понравились владыкам и кочевому народу. Полиник вступил с ними в дружбу и долгосрочное сотрудничество, нанял на службу всадников, и Аргос стал одерживать победы, прославившие Полиника.
Когда после долгих лет разлуки близнецы вновь – на короткое время – встречались в Фивах, для нас и для них это было праздником. Братья не прекращали соперничества, каждый для другого был несравненным, единственным и вечным соперником. Этеокл напрасно закалял свое тело и во время путешествий совершенствовал свой разум, – в Полинике было больше сияния, и он затмевал брата, увлекая и нас в свою орбиту.
Иокаста была счастлива, что близнецы вернулись, и до того, как свершилась трагедия, сияла последними всполохами своей несравненной красоты и радости. Мы были ослеплены обоими, но Этеокл прекрасно понимал разницу между взглядами и улыбками, которые предназначались брату, и теми, что были обращены к нему. Мы тогда были слишком увлечены Полиником великолепным, чтобы восстановить равенство между близнецами; Эдипа же настолько занимали первые проявления чумы, что он и не видел, что происходит у него дома.
Голос мой сорвался, потекли слезы, мои вместо Антигониных, и я заплакала, как ты и хотела, Антигона, за нас двоих. Глаза твои сухи и внимательны, руки не дрожат, – вот твой закон, тот, что ты навязала мне, и я подчинилась, продолжая говорить.
Когда случилось несчастье, близнецов сразила гибель Иокасты, извечное соперничество настолько завладело ими, что для Эдипа они ничего не могли сделать. Слепой, униженный, упрямо замкнувшийся в собственном молчании, он, казалось, перестал для них существовать, будто умер он, а Иокаста была жива. И вожделели они ее короны, мятежной короны земель и адских областей, а не сломанного Эдипова скипетра. Неистовое же соперничество и взаимное подзадоривание помогло им соблюдать траур и поддерживало их при людях. Полиник был уверен, что он единственный царь по праву рождения, а Этеокл решил никогда и ни в чем не уступать ему.
Какие спокойные, мягкие у тебя пальцы, как они свободно лежат и как крепки инструменты, которыми можно обрабатывать твердую, темную поверхность дерева, но слова, из которых я слагаю для тебя картины, еще тверже. В этих жестких словах и нахожу я ту Полиникову Иокасту, которую ты от меня ждешь. Между ним и нею происходил постоянный обмен, по этой тропе, по этому проходу шел свет, по этой дороге шла слава, и они неустанно обменивались ею, и нам туда не было доступа. Да, Полиник был ее славой, и он мог бесконечно обретать в ее взгляде свою верховную власть ребенка, которым он был, и царственный образ мужчины, которым ему предстояло стать просто потому, что он величественно пребывал на этой земле. Можно было подумать, что для Полиника всегда было лето, и если его хорошо тренированное тело было приспособлено к любому времени года, дух его жил лишь под пламенеющим солнцем. Все в нем, как и во всей нашей семье, казалось, было предназначено для счастья. Все, кроме Этеокла, которого не ждали и не хотели. Этеокла, который неуемной материнской любовью к Полинику, казалось, был приговорен к не-жизни, точно так же как некогда новорожденный Эдип ее согласием – стать жертвой убийства. А Эдипова слепота? Не была ли она прежде всего его отцовской слепотой, когда он проглядел Этеокла?
Полиникова Иокаста – это солнечный, сияющий лик нашей матери, который долго заслонял другой – земной, ночной, неустанно находивший себе пищу в смерти и жизни. Полиникова Иокаста и любима, и любяща, она царственна, но это царственность цветка. Цветка, который создан для того, чтобы расцвести, для того, чтобы был мед, – наверное, именно этого ты и не знаешь, Антигона, и тайным образом знаешь лучше всего. Лучше меня. Это-то меня и бесит, это-то и дает мне повод ненавидеть тебя, побить тебя, как я и намеревалась, но тут, естественно, появился Железная Рука. Нельзя наносить вред моими кулаками многотрудному, драгоценному дерзновению твоих рук. И появился Железная Рука, сила его несравненна, и он готов подставить под мои кулаки свою спину. Он смеялся, он готов выносить мои побои, мне же было совсем не до шуток. Он смеялся, но тоже испытывал боль, и я радовалась этому, потому что видела, как сжались твои губы, когда я изо всех сил ударила Железную Руку. А тебе теперь не дозволено поджимать губы, не дозволено и каменеть твоему сердцу, – ты должна быть целиком поглощена работой, той работой, результата которой мы ждем с таким нетерпением, будто ты из этих мертвых деревяшек можешь создать новую маму, царицу, способную спасти нас от нелепой войны.
Ребенок Полиник пережил Иокасту в переизбытке материнской любви, в нескончаемом море цветов, медом которых он бесконечно насыщался. Как мог вынести он, что Этеокл отнимает у него Фивы и достоинство материнской земли. На лице, что ты вызываешь к жизни, под улыбкой и царственностью будет лежать легкая тень, которая благодаря твоему мастерству принесет Полинику и причитающую ему часть беды. Ваяло в твоей руке – это Этеокл и его несчастье.
А теперь – довольно. Не трудись без меня, Антигона. Поздно, меня ждут, а из-за тебя и близнецов я ухожу почти в бреду и вовсе не готова ни к счастью, ни к наслаждению. Я приду завтра, нам вместе предстоит увидеть Этеоклову Иокасту. Она – другая, она принадлежит тьме, пропастям Земли, самоубийству. В ней тоже есть волшебное сияние, оно проникает в душу и тело, но не греет.
Был вечер, ночь мечтаний в лабиринте, – печальная, огненная. Ты снова передо мной, я видела твои руки, инструменты, вгрызающиеся в материю наших желаний. Ты же вслушивалась в мой резкий, задыхающийся голос – так старалась я скрыть обуревающие меня страхи. Этеокл не был тем, кого не любили, он был тем, кого любили недостаточно, – всегда меньше, чем его брата.
Этеоклова любовь к Иокасте хранилась в тайне, она была неуверенной, потерянной. Между существованием любимой Иокасты и крошечным Этеокловым личиком неустанно внедрялось другое, и притягательность того лица была сильнее. Этеокл мог бы стать ребенком тьмы, теневой стороны Иокасты, но этого не произошло, потому что между матерью и им постоянно возникал образ и недосягаемый смех ребенка света, и образ этот касался его, Этеоклова лица. Он не мог стать сыном бунта или иного, теневого, желания Иокасты, – он не дитя тьмы. Ночной лик его матери, ее крепко спящее тело и завороженный луной взгляд отрывались от темного небосвода, чтобы увидеть сияющего Полиника.
Этеокл не знает и, видимо, никогда не узнает, любит он саму Иокасту или же отсвет на ее лице Полиниковых светил, которые его сокровеннейшая тьма изо всех сил стремится погасить. Ты больше не работаешь, Антигона, ты плачешь, как и я. Не значит ли это, что ты теперь сможешь работать одна?
– Наверное, Исмена, благодаря тебе я увидела теперь всю глубину раны, нанесенной Этеоклу и нам. Я любила Этеокла, но, как и наша мать, я любила его недостаточно, постоянно сравнивая с Полиником. Из-за этого один всегда был примером для другого – того, кто никогда не мог ни сравниться с ним, ни стать его копией. Этеокл с неимоверным трудом отбросил этот пример – и правильно сделал. Благодаря тебе я ощутила в своих руках, во всем моем существе близость того, кто, как и я, всегда был вынужден идти самой длинной дорогой, и почувствовала к нему сострадание.
– Всегда ли надо идти по этой дороге?
Ты взглянула на меня, и в твоих полных слез глазах застыл мой же вопрос: «А есть ли другая?»
IX. ЭТЕОКЛ
Когда барельефы были закончены, я показал их К. «Я все еще несправедлива к Этеоклу, – спросила я, – по-прежнему считаю, что Полиник лучше?»
– Они одинаковые.
– Во мне?
– Не только, Антигона, они одинаковы и в том материале, с которым ты работаешь.
Не прозвучали бы эти слова, я не смогла бы показать барельефы Гемону, но в тот же день, когда к вечеру он пришел к нам, я предложила ему посмотреть на Иокасту Этеокла.
– Твоя мать очень красива, но сколь велико страдание Этеокла! Я и не знал, что он был так несчастен.
Гемон смог сразу все понять только потому, что он очень дружен с Этеоклом. Какое это счастье для брата и для меня!
– Как хорошо, что ты здесь, Гемон, и что ты любишь и его, и меня.
– Любить вас – счастье для меня, – покраснел он. – мы с Этеоклом ничего не скрываем друг от друга, я говорил с ним о тебе. «Антигона – самая лучшая», – сказал он.
– И все?
– Да, «лучшая и самая опасная», – сказал он. «Опасная!» – это слово задело меня.
– И ты, Гемон, не боишься такой опасной женщины? Этеокл очень проницателен…
– Единственное, чего я боюсь, что если начнутся испытания, то нам придется перенести их в отдалении друг от друга. – И вдруг, как крик: – Антигона! Уйдем из Фив вместе!
– А твой отец? А Этеокл? А твой отряд? В Фивах все, кажется, считают, что ты когда-нибудь станешь царем.
– Я ведь умею не только воевать, я люблю землю. Мы построим дом, я буду работать для тебя и наших детей.
Во взгляде К. я прочитала одобрение Гемоновым словам, пылкая надежда звучала в них, и звуки, как языки пламени, рвались наружу:
– Уйдем, Антигона, так нужно. Не откладывая.
Я услышала в Гемоновых словах надежду и отречение. Мне хотелось бы сказать ему «да». К., который не отходил от нас, тоже на это надеялся, несмотря на всю свою проницательность. Но звезды неумолимо заставляли меня произносить совсем другое: «Мне хотелось бы, Гемон, покинуть с тобой Фивы, но я не могу оставить братьев».
Лицо К. омрачилось, Гемон нахмурился:
– Тогда нам не уйти, Антигона, или только после великих несчастий.
Он прав, я знала это, но произнести я могла только: «Бежать я не могу».
Гемон и К. ничего не возразили мне: я не передумаю, они это знали точно.
– Работа закончена, – прервала я затянувшуюся паузу, – мне хотелось бы показать барельефы Этеоклу и поговорить с ним.
Гемон печально удалился, К. и Железная Рука, будто желая подбодрить, пошли проводить его.
Я осталась одна, совершенно одна. Мне бы найти в себе силы и уйти вместе с Гемоном, покинуть Фивы, темницу их стен, их запах – так пахнет дикий зверь в клетке. Почему после того, как я взвалила на себя груз Эдиповой жизни, нужно нести еще и груз жизни близнецов?
Прежде чем показать барельефы Этеоклу, мне хотелось, чтобы их увидела Исмена. Я предупредила ее, и она ждала меня в саду. Волосы свои она украсила цветами – настоящая Иокастина дочь: столь же загадочными путями идут ее мысли, столь же совершенны обнаженные руки и плечи. Когда я предложила ей посмотреть барельефы, она отказалась.
– Я помогла тебе создать их, потому что видела, как ты страдаешь и веришь, что они могут образумить близнецов. Но больше я не хочу погружаться в воспоминания, которые они во мне вызывают. Наши братья – воины, может быть, даже гениальные воины, но прежде всего они невозможные безумцы, одолеваемые страстями. Ни ты, ни я не должны вмешиваться в их соперничество. Они ведут открытую войну друг с другом, Креонт с нами – войну тайную. У каждого есть здесь тайные сторонники, нам же следует держаться в стороне от этих конфликтов. Разве Гемон тебе об этом не говорил?
– Гемон предложил мне вместе с ним уйти из Фив.
– Гемон хочет уйти из Фив? Уйти, когда он – почти царь? Как же он любит тебя, Антигона! Но если Креонт узнает, что тебе предложил его сын, прощенья не жди. Гемон прав: уходи, не откладывая.
– И пусть братья убивают друг друга?
– Мы в этом ничего не можем изменить, нужно отвести глаза от этой пропасти.
– Именно поэтому ты и не хочешь взглянуть на барельефы, на НАШИ барельефы, – потому что без тебя их не было бы.
– Не хочу нарушать твое счастье и отказываюсь впадать в бред вместе с близнецами.
Я поднялась:
– Все ясно, Исмена. Я сделаю, как ты мне советуешь: я уйду из Фив вместе с Гемоном.
Исмена побледнела.
– Только что вернувшись, ты, конечно, посмеешь снова уйти и снова оставить меня одну с Креонтом и двумя этими безумцами. Ты что – действительно думаешь, что я хочу, чтобы ты ушла?
– Может быть, ты этого и не хочешь, но заставишь меня сделать именно так, если откажешься посмотреть барельефы. Они рождены несчастьем, нашим несчастьем, Исмена. Они должны быть полезны близнецам, ты должна мне сказать, так ли это, ты должна сказать, любовь ли водила моей рукой, когда я создавала их. Я не могу любить братьев одна.
– Мне бы надо было сказать: «Уходи, сию же минуту уходи, Антигона», – но не могу. Поставь барельефы в доме, я буду смотреть одна.
Я вернулась в сад, и мы еще долго просидели рядом, слушая мирное журчание родника. Исмена успокоилась и вошла в дом. Когда она вернулась, на лице ее были следы слез и обретенного покоя.
– Это прекрасно, Антигона. Иокаста действительно Иокаста, и близнецы – такие, какие они есть. Такой прекрасной они и видели Иокасту, наши братья, хотя красота ее и была другой. Этеокл, который знает, что зачарован ею, почти ослеплен, и Полиник, который тоже зачарован и тоже ослеплен, но не знает этого, ограничившись собственной славой.
Но в этих барельефах и ты, Антигона, твое ненасытное стремление к истине, о котором невозможно сказать, великолепно ли оно или просто преисполнено идиотизма. Ты что, действительно думаешь, что можно вот так надеяться, как ты, находясь в здравом уме? Неужели ты думаешь, что близнецы тебя поймут, а если и поймут, отбросят ли они из-за этого свои страсти и забудут о них? Меня пугает запах пожара, которым пропитано наше семейство. Я тоже часто бываю безумна. Я хотела сказать тебе: «Уходи, уходи скорее с Гемоном», и тут же отрекаюсь от своих слов. И получается, будто я говорю: «Не уходи, не оставляй меня в Фивах снова. Иди вместе с нами к крушению, потому что именно к нему ведет твоя отвага».
Твои барельефы – творения любви. Любовь не оставит близнецов равнодушными, она глубоко ранит их, но не остановит. Их прельщает разрушение, как когда-то прельщало нашу мать. Разве не прельщает оно и тебя?
Онемев, мы смотрели друг на друга, испуганные этим неожиданным вопросом.
– В безумии близнецов есть – и это правда – призыв, или приказ, который они обращают ко мне. Это не зов к разрушению, в нем, наверное, больше трагедии. Но всегда ли женщины должны уступать безумию мужчин? Мы обе любим Полиника и Этеокла, но ход их мыслей непереносим, Креонта – тоже: такие мысли ведут к войне и смерти. Имеем ли мы право не говорить того, что думаем сами?
– Если хочешь объявить Фивам о том, что ты думаешь, это будет стоить тебе жизни, Антигона.
На следующий день Гемон отвел меня на командный пункт Этеокла. В почти пустой комнате стоял огромный стол с планом города и вылепленным рельефом местности. Меня поразили размеры Фив: высота и мощь крепостных стен и неприступность семи их врат. Я – фиванка и с гордостью заявила Этеоклу, когда он появился:
– Фивы теперь – главный город Греции и лучше всех охраняемый.
Этеоклу приятно было это слышать, но не возразить он не смог:
– Ты же хочешь, чтобы я отдал Полинику то, что мы создали, и то, что еще предстоит сделать?
Спорить с Этеоклом у меня нет сил, да и не затем я сюда пришла.
– Ты просил меня изваять скульптуры нашей матери, я сделала два барельефа, вот они.
Из огромного мешка, который Железная Рука помог мне донести, я извлекла оба барельефа. Я вдруг испугалась, какие они тяжелые, какие большие и насколько ощутимо в них Иокастино присутствие. Я не сразу определила им место и не нашла ничего лучше, как прислонить их к макету крепостной стены и фиванских ворот. Тотчас я пожалела об этом, но было поздно: оба барельефа уже нашли свое место в стене. Встав по обе стороны укрепленных ворот, они стали гигантскими, исполненными противоположного смысла, образами города. Они дышали любовью к Иокасте, но вместе с тем явились доказательством неустранимого антагонизма между моими братьями. Маска безразличия слетела с Этеоклова лица, и, пока мы вместе рассматривали барельефы, все чувства проявились у него на лице. Вышли ли эти барельефы из-под моей руки или, придя из отстраненной глубины человеческого существования, стали новым воплощением образа нашей матери?
– Никогда бы я не осмелилась исполнить эти барельефы, если бы ты не попросил меня, Этеокл, и если бы Исмена не поддержала меня.
– Ты больше нас любила мать, Антигона.
– Когда я работала над барельефами, я поняла, что Полиник не сможет прервать нить, которая все еще связывает его с нашей матерью. Если будет война, он и тебя увлечет за собой, тебя, всех нас – в Иокастину гибель.
Этеокл не отвечал, молчание объединяло нас какими-то счастливыми узами и тяжелейшим грузом ложилось на наши плечи.
– Чего ты ждешь от меня, Антигона? – спросил он в конце концов.
– Сделай первый шаг к Полинику.
– Я и делаю его, я заказал тебе барельефы. Я отправлю тебя с ними к нему.
– Я пойду, но что я смогу передать от тебя Полинику?
– Хватит и барельефов. Если Полиник захочет их увидеть, он поймет, какую он всегда отбрасывал тень на мою жизнь и что я тоже имею право на частицу света.
– Эта частица – Фивы.
– Только Фивы.
– Тебе нужен этот город, чтобы вынести существование Полиника.
– Не просто его существование, Антигона, а свободу его существования. Именно эту Полиникову свободу я так любил. Она была мне тягостна, непереносима, но я все еще люблю ее. Как Иокасте, Полинику достаточно существовать, чтобы быть свободным и царствовать. Но теперь это уже не так, из-за меня, которому всегда надо было прилагать столько усилий, чтобы занять свое место и показать, что я имею право на самостоятельное, независимое существование. Как Эдип, я должен без устали трудиться над загадкой, которая толкает меня к разгадке. Полинику всегда все было ясно, но я сумел загадать ему загадку, достойную его, и эта загадка – я сам. Ему не понять, как я, столь чувствительный к его чарам, к его гениальности, иногда даже – к доброте, мог неустанно бороться с ним, создавать ему неудобства, даже смущать его уверенность бытия, подвергать сомнению его божественное право, избранничество. Ему никогда не понять этого. Он знает, что я всегда буду мешать ему стать новым воплощением Иокасты и хозяином памяти о ней. Такова отведенная мне роль, таково чрезмерное требование моей ненависти и моей несчастной любви к нашему несравненному брату. Человек этот, созданный для счастья, не был предназначен для страданий. Теперь же, по моей вине, он страдает так же, как и я, и это справедливо.
Ты сумела отразить наше страдание на двух ликах нашей матери, сможет ли Полиник увидеть это в созданных тобой барельефах и понять, что оно означает? Это единственная надежда остановить войну, ты смогла вызвать эту надежду к жизни. Попробуй теперь сделать так, чтобы она перестала быть лишь надеждой, иди к Полинику.
– А если Полиник поймет, что сделаешь ты?
– Делать должен он. Он – царь Аргоса. Если он оставит мне Фивы и захочет идти войной на Азию, я присоединюсь к нему со своим войском.
– Ты посмеешь вовлечь Фивы в это безумие? А Полиник, чтобы не воевать с тобой здесь, должен будет делать это в Азии? Что за чудовищная мысль, Этеокл! В твоих рассуждениях нет никакой меры, никакой справедливости. Ты думаешь только о том, как победить.
– Так надо, Фивы – это я.
У меня не было больше сил выносить его высокомерие: «Нет, это неправда!»
Мы стояли друг против друга, как враги. Еще несколько мгновений назад, когда рассматривали запечатленные в барельефах Иокастины образы, мы были близки как никогда. Этеокл был глубоко задет, но сдерживал себя, я же – нет, слезы уже текли по моему лицу. Ничто не сможет сгладить наш разлад – я проиграла, навсегда. Мне не вынести этого. Но мне не хотелось, чтобы он видел, что я плачу.
– Я хочу уйти… сию минуту, – умоляюще проговорила я. – Помоги… Спрячь барельефы в мешок.
Этеокл исполнил мою просьбу – с неожиданной нежностью он поддержал меня, но молчать я не могу, мне нужно сказать, пусть он знает. «Полиник тоже не имеет права сказать: „Фивы – это я“, – кричу я. – Хватит, хватит вашей гордыни!»
Рыдания душили меня, слезы текли по щекам. Этеокл молчал, он вел меня, потому что я ничего не видела из-за этих никому не нужных слез. Я не хочу больше знать, кто он, куда идти. Я резко вырываю руку: не надо меня поддерживать!.. И иду дальше, пошатываясь и вздрагивая, если оступаюсь. С трудом открываю глаза: непроглядную тьму сменяет резкий белый свет.








