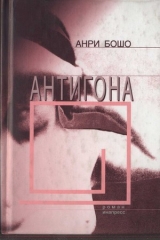
Текст книги "Антигона"
Автор книги: Анри Бошо
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Окликнув Стентоса, капитан велел поместить меня в середину каре. Я знаю, что за приказы теперь последуют: сначала железная стена воинов ощетинится копьями, потом их пустят в ход – станут колоть ими людей. Я было попыталась не подчиниться и повалилась на землю. В ноздри сразу проник плотный запах земли, и тяжесть ее сковала все тело. И чем настоятельнее Стентос старался оторвать меня от земли и поставить на ноги, тем неумолимее земля притягивала меня к себе.
Терпение капитана было на исходе, он орал, что-то приказывая Стентосу, который уже готов был потерять голову. «Война, это война!» глухо твердил он.
«Ты хотела этого!» вдруг заорал он, когда в него угодил камень, брошенный кем-то от завала. Изо всех сил Стентос схватил меня за волосы и, воя от боли, не дал мне встать на ноги.
На завале это увидели и, решив, что меня мучают, опустили луки, побросали в сторону камни – из страха причинить мне вред… Но продолжали кричать – орали они с разных сторон.
Когда я сделала знак, что хочу говорить, наступила тишина. Мне и сказать бы что-нибудь, воспользоваться передышкой, чтобы прозвучали слова мира. Но их у меня не было – обрывки безумных мыслей проносились в голове, вскипали неведомые силы, вспоминались чьи-то слова, строки – меня разрывало изнутри. Я ничего не могла произнести – не хватало дыхания, голос срывался, побеждало удушье… Все вокруг меня потеряло четкость, все вокруг заполонил неизвестный мне ранее мощный зов… Это дикий запах земли окончательно забил мне ноздри.
Из глубины своего смятения доносились, сливаясь с грозной фиванской землей, приказы капитана, которых я так боялась: «Копья вниз… Готовь-сь…» Но последний приказ так и не прозвучал. Железная стена не двинулась с места, стражники застыли по обе стороны завала, пока еще не угрожая жизни моих несгибаемых друзей – отчаянной гвардии Васко, оставляя Эдиповы просоды в живом горле Патрокла и Диркоса.
Сквозь сумрачное пространство движется на меня чудовищная сила. Размахом своим она походит на любовь, и вот уже во мне звучит другой крич – голос земли, голос некоего сокрытого во мне зверя, затихает, но оставляет за собой территорию. Я стала понимать, что делаю. Я прошу милостыню, снова прошу подать мне, прошу из последних сил…
Да, я просто нищенка, просто вопящая нищенка, без стыда, без гордости, которая может только просить, только умолять: «Никакой крови… Никакой из-за меня крови!..»
Крики и лязг оружия затихли с обеих сторон. Им – что, не перенести моего нищенского вопля? Все слышали мой крич, я знаю, но услыхали ли они меня действительно? Мир труднее, реальнее, молчания. Мне, разумеется, его не достичь: мы неповоротливы, слишком неповоротливы, и нам никогда не измениться. Именно об этом все они и говорят, но у меня не хватает сил возразить злосчастной этой жизни, я могу лишь снова повалиться на землю и биться о нее своим потерянным для всего света лицом.
Кровь заструилась по моему лицу, заливая глаза. Чьи-то руки подняли меня и понесли, утирая с лица кровь, и здесь мой получивший, наконец, свободу дух вырвался из застенка моего существования. Больше я ничего не могу, больше я ничего не хочу – впрочем, мне больше нечего и хотеть. До меня доносится нежное пение – может быть, оно рождается столь же просто, как песня ветра, что звучит в траве и в ветвях. Так не поют нищебродки, так не поют те, кому что-нибудь надо. И, слушая это пение, я перестаю быть той Антигоной, которая безуспешно стремилась чего-то добиться. Хватило одного пения… Кроме него, ничего и не надо – может быть, я сама уже в этом пении, какая разница: пение это звучит отовсюду, и его услышали все.
Молчат те, кто стоит на завале, – ни стрелы, ни камни больше не летят с той стороны. Стражники, ощетинившиеся копьями, еще держат каре, но и они застыли на месте, и они ждут. Чего?
Стентос, который возвышается надо мной, озабоченно на меня смотрит, и во взгляде его такая нежность, что я с изумлением думаю: уж не плачет ли он?.. Вернулся капитан, что оглядывал завал. «Отставить», – скомандовал он, и опустились щиты, копья. Капитан подошел ко мне, и с лицом его, кажется, тоже что-то произошло. Он сказал мне что-то очень существенное, что-то, чего я не смогла понять, потому что тело мое сдалось, усталость обрушилась на меня, как стервятник. Я теряю сознание, я чувствую, что падаю, я понимаю, что поранюсь и уже ни на что не буду годна.
И я падаю… Но не на жесткую фиванскую землю – я упала в неожиданное место, – впрочем, оно мне отчасти знакомо. Надо мной в раздирающем сиянии опрокинулись небеса. Небо ведь не знает ни надежд, ни желаний… А несут меня бережно руки Стентоса. Это он смочил водою мой лоб, это он укачивает меня, держа на своих громадных мускулистых руках, – и я постепенно стала приходить в себя. Капитан снова изъявил желание говорить со мной, но я не в силах ничего понять.
– Ты скажи мне, что ему надо? – шепчу я Стентосу.
– Твои друзья – там – хотят мира. Мы тоже… Но – как?
– Двое от нас… – отвечаю я на ухо Стентосу, – капитан и ты… На полдороге, без оружия…
– Чтобы договориться – о чем, Антигона?
– Они… разбирают… вы, вы пускаете их в подземный город… Никаких узников.
– Можно сказать, что ты хочешь именно этого?
Силы оставили меня.
– Да, – не сказала, а выдохнула я.
Капитан согласился. Стентос выкрикнул предложение о встрече, и Диркос ответил коротким просодом, что означает: «Согласны». Очень быстро они договорились обо всем, обменялись обещаниями. Капитан, вернувшись, разрешил воинам поесть, пока на завале расчищают проход.
Убрали камни, открыли одно из подземелий, ведущих к канувшему городу, и первыми туда спустились женщины, за ними последовали несгибаемые мальчишки Васко, которые, прыгая вниз, как всегда, награждали друг друга тумаками. Последними в подземелье исчезли Диркос и Зед – они что-то прокричали мне, но я не расслышала. Когда над их головами опустилась плита, закрывавшая вход, меня охватило отчаяние: теперь открыта дорога к моей гибели…
Стентос дал мне напиться и хотел, чтобы я поела, но у меня кусок не шел в горло. Капитан отдал приказ, и мы двинулись – Стентос с Леносом поддерживали меня. Где недавно был завал, валялись лишь обломки; преступление же, избежать которого, казалось, невозможно, не совершилось.
Стражники, окружавшие меня, тоже изменились: это уже не прежние закованные в железо мужчины, в чью обязанность в тот день входило вести осужденную к месту казни. Теперь кажется, что они – мои знакомые, да и они будто бы знают меня… И мне становится легко от их безразличного равнодушия, которое угрюмым грузом лежит на них…
С трудом осознаю, что мы добрались до какого-то затененного места: солнце перестало жечь лицо, посвежел воздух. Хотелось бы оставить открытыми глаза, но для этого надо слишком много сил. Меня уложили под каким-то деревом.
– Сначала отдохнем, Стентос, – доносится голос капитана, – потом открывайте пещеру.
– Нас никто не торопит… Не будем с этим спешить… Есть царь… и есть Гемон.
Шаги удаляются, а мне надо бы проснуться и понять, что происходит. Веки, наконец, подчинились мне. Капитан уже далеко, стражники отдыхают. Стентос и Ленос склонились надо мной, и я чувствую на себе их беспокойные взгляды.
– Воды… – прошу я, и это их обрадовало.
– Мы нашли родник, – говорит Стентос, – вода очень хорошая.
Они дали мне напиться, но еще больше хочется освежить веки, омыть потное лицо. Сделав это, я почувствовала себя несравненно лучше, села, ко мне вернулось понимание происходящего.
Все ждут одного человека, все думают о нем, это – Гемон. Уходя, его имя выкрикнули мне Диркос и Зед, тогда слово это – его имя – я и не смогла разобрать. Гемон, который идет освобождать меня. Они думают, что, если Гемон не опоздает, Креонт не сможет отказать сыну и помилует меня. Если успеет Гемон…
Потому Диркос и Зед перекрыли улицу – ни мальчишки Васко, ни женщины не надеялись на победу. Они просто хотели дождаться, пока прибудет Гемон. Да и стражники поэтому не торопятся. Стентос и Ленос не открывают пещеру, а капитан прогуливается в тени – все для того, чтобы подольше не отдавать приказ, который сделает Гемона врагом.
Все думают, что любовь Креонта к сыну так велика, что он не сможет не проявить своей милости. Лишь Исмена и я знаем, как глубоко оскорблен Креонт Моим упорством, что для него сама моя жизнь теперь непереносима. Если Креонт откажет Гемону в помиловании, Гемон сам освободит меня. А это значит – война. И будет война, страшная война между отцом и сыном после ужасной той войны – между братьями-врагами.
О ужас – снова война в Фивах!.. И на этот раз из-за меня!..
Подождав, пока уляжется волнение, я обратилась к Стентосу и Леносу:
– Если Гемон освободит меня, – сказала я, – начнется война. Креонт хочет моей гибели, и он никогда не уступит. Гемон не уступит тоже. Эта война между отцом и сыном, которая разделит Фивы на два лагеря, будет еще ожесточенней, чем война с Полиником… Гемон не должен освобождать меня…
Стентос сначала не понял, о чем я говорю, но постепенно смысл моих слов стал доходить до него… Но осознание происходящего идет у него медленно, так же медленно, как понимала это я.
– Но тогда… ты… – проговорил Стентос.
– Я осуждена, и приговор должны привести в исполнение. Гемон не должен освобождать меня. Никакой войны! Из-за меня – никакой войны!.. Я не хочу!..
Они удручены и смотрят на меня, не понимая, но потом и до них доходит, что я права… Неисправимо права!..
– Иди, Стентос, – продолжаю я. – Иди и скажи всем: пусть отодвинут камень от входа в пещеру и отведут туда меня. Торопитесь, пока нет Гемона.
Страдание было на лице Стентоса, неподдельное страдание, и Ленос испытывал мучение вместе с ним. Они знали, что я права, они не хотели моей смерти, но… возразить им было нечего. Вдвоем они отошли от меня, и я слышу, как Стентос громко и долго бранится. Назад же они ко мне не вернулись. Без сил рухнула я на землю.
– Они поняли? – спросила я, когда Стентос возвратился.
Он не ответил, разозлившись на меня. Только сначала побагровел, а потом неожиданно, в порыве, решившись, схватил молот, долото и приказал остальным:
– Эй, вы, не стойте там!.. За дело!..
Остановившись у скалы, Стентос с бешенством обрушил первые удары на вбитое в каменную стену долото. Удары молота следуют один за другим, становятся размеренными, и камень постепенно поддается – от него начинают отваливаться куски. Воины не спускают глаз со все расширяющейся черной дыры, и я тоже – сидя на земле, смотрю в темный провал, смотрю как завороженная.
Стентос приказал внести в пещеру факелы, воду, хлеб. Подошедший капитан заметил:
– Царь велел, чтобы в пещере было темно.
Молча все уставились на Стентоса, лицо которого ожесточилось: он не подчинится царскому приказу. Капитан недоумевал, понимая, что замышляет Стентос.
– Крысы!.. – крикнула я ему. – Они знают, что я боюсь крыс…
Капитан повернулся и ушел, чтобы ничего больше не видеть. Ленос со Стентосом помогли мне подняться – идти я могу, но страшно хромаю.
– Подумать только, – проговорила я, – столько исходила я по всей Греции, а заканчиваю свою жизнь хромой. Наверное, умирать мне не слишком хочется.
Сказала так – и успокоилась, собственное это наблюдение насмешило меня, и в пещеру мы вошли, смеясь… И те, кто шел следом – чтобы убрать внутри и установить факелы – тоже непонятно почему стали смеяться. С потолка пещеры спускались сталактиты, переливаясь в свете факелов, и это доставило мне удовольствие. «Как красиво, – вырвалось у меня. – А я так боялась темноты».
Смеемся снова, но в горле начинает першить от дымящихся факелов, и мы начинаем кашлять. Безумный этот смех распахнул передо мной иную сферу существования: я нахожусь уже не только в пещере, я еще и на Клиосовой горе, на берегу моря, в доме Диотимии. От них, от музыки К., от голоса, напоенного радостью бытия, чьи переливы пронизывают насквозь, меня отделяет только легкая завеса тьмы.
Появился капитан – с красным плащом, перекинутым через руку.
– Не надо здесь задерживаться, – проговорил он, – и не зажигайте много факелов: слишком узкое дымовое отверстие. Антигона может задохнуться…
Он расстелил красный плащ на выступе стены, куда Стентос уже положил Исменин шарф.
– Ложись, Антигона, и постарайся как можно меньше двигаться, так тебе будет легче дышать.
– И жди, – добавил Стентос.
Мне было понятно, что оба – капитан и Стентос – все еще надеются, что Гемон придет и освободит меня. Но я-то знаю, что место, где я должна умереть, уже нашло меня.
Стражники покинули пещеру, в основном – из-за дымящихся факелов, которые зажгли перед уходом, я же вспомнила костер, на котором погибли Васко и Этеокл… Это уж слишком, это уж слишком для меня… Стентос все понял и оставил гореть лишь три факела. Я слегка подтолкнула его и капитана к выходу, обняла и поцеловала обоих, сказав себе, что это последние мои поцелуи на земле.
Выйдя из пещеры, Стентос обернулся.
– Первая стража – моя, – бросил он мне, – и я буду окликать тебя каждый час.
Чтобы на прощанье, в последний раз, махнуть ему рукой, я подошла к выходу из пещеры – мужчины выстроились передо мной, смотрят и молчат. Им уже следовало бы камнем завалить вход, но они не двигаются с места, и никто не командует ими. Все ждут, что скажу я, но я не в силах ничего произнести.
Мысленно обращаюсь к Диотимии: раньше, не произнося ни слова, я умела выразить, что хотела, и поблагодарить за гостеприимство. Тогда не было страшно; смогу ли повторить нужные слова, помню ли еще низкий, плавный, как в танце, поклон, которому с такой настойчивостью учила нас мать?
Детали этого поклона уже забыты, помню только, что исполняют его на пять тактов, в каждом такте – три движения. Хоть память моя и не сохранила этот поклон, но тело все еще способно следовать по литургическим дорогам великих предков.
Мне не скрыть, что хромаю. Ноги дрожат, кисти и запястья рук в ранах и уже не взмахнуть ими, как птица крыльями, а раньше у нас с Исменой так хорошо это получалось. Но в глубоком поклоне стражникам голова моя, как и полагается, коснулась земли, а тело – в четком движении – выпрямилось вновь. Мне даже удалось, собрав силы, улыбнуться, и именно так, как учила Иокаста.
Стражники поняли прощальное мое приветствие, и из рядов этих, казалось бы, жестокосердных мужчин послышался скорбный гул сострадания.
Капитан взмахнул рукой, прозвучал приказ: голос Стентоса сначала дрожал, но, по мере того как шла работа, снова зазвучали суровые интонации. Камень, будто вросший в землю, поддался… «Толкайте, да толкайте же!..» – кричал Стентос. – «Еще!.. Вот так!..»
Его это – «вот так!» – навсегда отрезало меня от мира живых. Между тьмой и мною осталось лишь дрожащее пламя факелов… «Антигона, ты слышишь меня?..» – долетел снаружи Стентосов крик.
Голос не слушается меня, и я не в силах разомкнуть губы…
Своим громовым голосом Стентос повторил вопрос. Вокруг меня, казалось, поднималась еле слышная музыка – пение, звучавшее так тихо, что было оно на грани безмолвия. Услышит ли все это Стентос?.. Снова до меня долетел его бас: «Да?», – кричал он, будто отвечал на собственный вопрос только «да», и больше ничего…
XXII. АНТИГОНА-ИО
Потух фитилек света, который тянулся между камнем, завалившим вход в пещеру, и ее стеной, смолк и звук голоса. Я вступала в безмолвие, и мне было страшно. Мне больше никого не увидеть, мне больше никого не встретить, это мне-то, неутомимой путнице, которая встречала столько людей на дороге, которая теперь никому не скажет ни слова. Да разве можно в это поверить? Я часто думала о смерти, но об одиночестве – никогда. Меня увлекала жизнь, я была занята другими, я не готовилась к одиночеству, у меня нет сил, но теперь я в него вхожу.
Я не должна была падать, но упала. Больно, я с глухим ужасом шевельнула рукой, ногой – все цело, я могу встать, но мне не встать.
И почему мне обязательно нужно вставать, откуда идет этот приказ? Пол в пещере холодный, влажный, но на него можно опереться, ты имеешь право не вставать, ждать. Потом встанешь, если захочешь. Все здесь жесткое, куда ни ткнись, все, кроме… Кроме этого звука – мне кажется, что я слышу воображаемую музыку: благодаря ей, а также восхитительным теням, что отбрасывают факелы на стены пещеры, мне становится не так одиноко.
Ты дотащишься до стены, ты узнала ее: вся твоя жизнь была сплошной стеной. Ты приподнимаешься, цепляясь за выступы, – теперь можно сесть, перевести дыхание, растянуться на алом плаще капитана. Смотри-ка, Стентос даже сложил Исменин шарф так, чтобы на него можно было положить голову. Стентосу и стражникам не хотелось, чтобы я умирала в темноте, и эта забота греет и поддерживает меня. Я, наверное, и музыку слышу из-за этого света факелов и их тепла. Музыка эта не может пересилить одиночества, но и оно не может из-за нее полностью завладеть мной.
Как трудно поверить в то, что меня больше не будет, что я исчезну, но одиночеству я не сдамся, оно не сумеет все опустошить вокруг меня. Я еще, конечно, услышу Стентосов крик, он будет предупреждением, что истек первый час моего подземного заточения. И снова до меня долетает эта отважная мелодия; музыка наступает, чтобы защитить меня от невыносимости отчаяния, я не уверена даже, что слышу ее, – может быть, это не музыка вовсе, а надежда.
На мгновение передо мной появляется лицо Диотимии; его уже нет, но я узнаю его в этой мелодии, которую я когда-то слышала.
Этот напевающий голос обращается ко мне на ты, и принадлежит он тоже мне. Постарайся не кашлять, хочет сказать этот голос, задержи дыхание, растянись, полностью расслабься. Этот голос отвечает на звучание имени Диотимии, я знаю его, он родился во мне сам собой, родился, пока я смотрела, как живет Диотимия, пока я следовала за Эдипом, слушая его сердцем. «У тебя нет больше матери, Антигона, – сказал он однажды, – у меня тоже, нам с тобой нужно стать для себя самих матерью». Я не уверена, что действительно поняла эти слова, тем не менее они стали частью меня, стали этой внутренней матерью, которую К. открыл во мне и вызвал к жизни. Он считал, что такое есть во всех, но во мне чувствуется сильнее, чем у других, во мне больше этого материнского. Именно поэтому, сказал он, перед лицом великих испытаний всегда будешь знать, что делать. Он произносил это со своей немой улыбкой, она пламенела у него на устах, как жизнь, и скрывалась одновременно – так улыбается сама музыка. «Так улыбается раб, – бормотал он, – раб, которого освободил Клиос».
Это материнское, о котором говорил Эдип, родилось во мне; впрочем, прежде всего я была дочерью Иокасты и поэтому материнское не заявляло во мне о себе так громко. Неужели поэтому К. думал, что я оставлю в людской памяти трагическое и прекрасное воспоминание, но это воспоминание о том материнском, что было во мне, почти не оставляет мне надежды, что я прижму к себе живого младенца, для которого я сама буду всем.
Не будет никаких детей: придет Гемон, но он должен опоздать. Если Гемон должен спасти меня с оружием в руках, то я отказываюсь от Гемона. Не надо крови для Антигоны, ты сказала это, ты не хочешь, чтобы тебя защищали. Успокойся, Антигона, ты вся в поту и в слезах. Утри лицо шарфом, накройся алым капитанским плащом. Царям нужны убийцы, а этот капитан, он глава убийц, но ты заставила его вместе с его людьми протянуть тебе руку помощи. И все из-за твоего вопля, из-за твоего униженного нищебродского крича, который затронул в них ту часть детского, которая, казалось, отрицалась всей их жизнью.
Мне тоже, как и им, как моим братьям, нравилось оружие. Это прошло у меня на дороге: невозможно иметь эту смешную гордыню и жить среди бедняков, просить у них милостыню. Все эти годы я никак не могла понять, что труднее – ухаживать за слепцом или воспитывать детей. Я так и не узнаю ответа. Для нечеловеческого Эдипова приключения я была слишком мала, я просто семенила за ним. И десять лет побиралась! Ни мои братья, ни Исмена, ни Иокаста не смогли бы так.
Взгляни вверх, Антигона, видишь, там торчит камень, на который ты, как Иокаста, смогла бы набросить петлю из своего белого шарфа. Когда она услышала, что Эдип всенародно открыл правду, она вернулась во дворец, бросилась на постель и увидела бронзовый крюк, на который укрепляли светильник. Он отбрасывал лишь слабый и мягкий свет. По вечерам, когда они с Эдипом оставались, наконец, одни, она садилась или ложилась на кровать под этим светильником. Чтобы очаровать Эдипа, она пела ему, рассказывала какую-нибудь волшебную сказку, которую извлекала из своей бесконечной памяти. Потом он рассказывал ей о Фивах, о море, о кораблях и приключениях небожителей или тех, кто населял подземные пространства, и они узнавали в них себя. В тлеющем свете лампы тела их становились еще прекраснее, тогда они начинали любить друг друга. Как тебе хотелось увидеть их в этот момент, и твои братья, ненасытно, как всегда, хотели этого, но у вас это никогда не вышло. А Исмене, конечно, удалось, она была самой маленькой и сказывалась больной, чтобы ее уложили у них в комнате. Поэтому она и унаследовала от нашей матери эту загадочную улыбку, которая кажется обещающей все в своей опасной неуверенности, которая обещает без размышлений и слов. Это улыбка той, кто, не скрывая этого, дает почувствовать существование тайного знания и простой тайны бытия. А ты, кто где только не говорила с людьми, ты всегда была лишь нескладной дылдой, которая не знает, что важно на самом деле.
Моя жизнь действительно всегда была окружена какой-то дымкой незнания, той дымкой, в которой я в конце концов и задохнусь. Мне бы надо погасить факелы, чтобы они больше не дымили, но не этого мне хочется, мне, наоборот, хочется зажечь те, что вот-вот потухнут. И еще другие – пока на это у меня хватит сил.
Меня опасно качает, я падаю, идя от одного факела к другому, но как хорошо, что удалось зажечь еще два – ради этого стоило падать, потому что теперь могила, где я расстанусь с собой, будет вся залита светом и заполнена дымом – и радостью. Но не в алый цвет я вступаю, как в храме Клиоса. Я вхожу в тайну света, иду по его дороге. Я вспомнила о том костре, что поглотил Этеокла и Васко, о том пламени, что соединило в своем чреве эти прекрасные человеческие тела и белого скакуна.
Вот ты и снова легла на капитанский плащ, он алый, и не будет заметно ни твоих ран, ни крови, потому что ты вся исцарапалась. Ты нашла для себя место, и живая ты его уже не покинешь. Твоя смерть – это преступление против справедливости, но тем не менее она законна, печально законна, как Креонтова мысль. И ты не можешь не признать, что твоя смерть всех устраивает. Ты не соглашаешься: всех, кроме Гемона, думаешь ты. Тем не менее ты не хочешь, чтобы он освобождал тебя, – только не ценой кровопролития. Разве, думая так, ты не подражаешь самой смерти, ее желанию покоя, мира, неподвижности? Разве жить, несмотря ни на что, это не мужество?
Стентос три раза выкрикнул мое имя, как и обещал мне. Он делает это, наверное, очень громко, но до меня доносятся лишь глухие звуки. Прошел час, всего час, как я в этой пещере. Как радостно услышать еще человеческий голос, голос того, кто любит меня. Перед пещерой вокруг Стентоса столпились мужчины, которые считали себя моими врагами, но теперь надеются, что увидят, как я выхожу из нее живой и здоровой. Я попыталась отвечать, но у меня из горла вырвалось только какое-то мычание. Когда Эдип узнал о своих преступлениях, он выбрал жизнь и был прав, но Иокаста тоже была права. Она должна была остаться той, кем была, и умереть, как царица. Она не могла остаться с Эдипом, последовать за ним по дороге, умоляя о куске хлеба. Нет, нет, она не могла изменить себе, поменять свой незабываемый лик. Она понимала, что Эдип должен жить, должен выжить, и что ему для этого понадобится помощь. Но не сыновей – они слишком заняты собой и очарованы друг другом. Тогда это должна была быть одна из дочерей! Но разве Исмена может просить милостыню? Сердце сжимается. Оставалась я – кроме меня просто было некому.
Именно это увидела Иокаста своим царским взором в час беды и решительно бросилась в смерть, для того – чтобы Эдип вместо нее получил в полное свое распоряжение дочь и сестру. Нищебродку, которая позволила бы ему дойти до конца своего ослепления, позволила бы идти и после смерти, как он это делает в нас.
Мать – именно из-за нее я не смогла принадлежать Клиосу и не смогу связать свою судьбу с судьбой Гемона. Я не смогла ничего крикнуть в ответ Стентосу, но меня начала уносить куда-то слабая мелодия; мне кажется, я начинаю слышать какой-то голос, который похож на мой. Это сон, или я уже начала бредить?
Ты не бредишь, взгляни на тот камень, что торчит из стены. Он совсем близко к тому бронзовому крюку, благодаря которому Иокаста ускорила свою смерть, оставив так мало пустого места. Там, где был светильник и свет ее тела, осталась только небесная яма ее смерти, в которую и устремился Эдип – не для того, чтобы последовать за ней, но для того, чтобы не потеряться.
Я слышу собственный голос, который, я решила, уже изменил мне, он, как надежда, звенит у меня в ушах, он поет другим голосом – это не мой голос, но и мой тоже. Звуки подвижны и глуховато упрямы – нет, не о моем голосе заставляют они думать, но о моей жизни.
На выступе стены над полом пещеры сидит крыса и, кажется, как и я, слушает это пение. Слышит ли она то же, что и я, или это всего лишь плод моего угоревшего воображения? Когда пел Алкион, чтобы послушать его, собирались птицы и подземные твари. Но не Адкионов голос слышу я, это голос женщины, которая, проникнув в мою жизнь, стала моим голосом, но поет она по-своему.
Голоса Ио, столь же прекрасного, как голос Алкиона, как говорит К., я никогда не слышала, но уверена, что это он. Голос этот нежен и мощен, он устремляется высоко ввысь, но не расстается с землей. Алкион же, уносясь ввысь, забывал обо всем. Он даже Клиоса забывал, и поэтому, чтобы выжить самому, Клиос убил его. Какую муку познал он тогда – такую же, как Эдип, когда тот принудил Иокасту к смерти, так упорно стараясь узнать истину. Именно из-за любви и убийства, несмотря на всю разницу между двумя этими людьми, Эдип и Клиос так глубинно поняли друг друга и соединились на дороге.
Голос набирал силу; для того чтобы мне лучше было его слышно, надо зажечь еще один факел, пусть осветится вот эта темная выемка в стене.
Чем больше будет факелов, тем быстрее ты задохнешься – тебе этого хочется, Антигона?
Да, тебе именно этого и хочется, ты падаешь снова и снова, но зажигаешь новый факел – языки пламени неумолимо притягивают тебя к себе. В ушах у тебя гудит этот голос, но к нему присоединяется еще один – это Иокаста: «Можешь сбросить свою ношу. У тебя получится», – говорит она.
Она права, ноша действительно есть, ноша этого мира, в котором мои братья убили друг друга, в котором подлая воля одного и почти всеобщее молчание отдали стервятникам разлагающееся Полиниково тело.
Важна не ноша, а то, на чем настаивал Иокастин голос: «У тебя получится». Она произнесла это – и говорила при этом вовсе не царица, говорила ее любовь ко мне. Когда еще она так со мной разговаривала?
«Ты стояла, Антигона, на краю прудика, ты еще совсем малышка, а Исмена – в колыбели. Твои братья пускали камушки по воде рикошетом, они донимали меня своими криками и вопросами, чей камушек проскакал дальше. В тот день я отказалась им отвечать, я смотрела на тебя, и в глазах у тебя стоял страх и огромное желание, я подобрала камушек и протянула тебе: „Попробуй“. Ты не сразу взяла его, но так как сил у тебя еще было мало, камушек не подпрыгнул на воде, а упал совсем близко от берега. Ты не заплакала, но я почувствовала, насколько ты разочарована. Я подобрала другой камушек и сказала: „Попробуй еще раз, ты только брось его. У тебя получится“. Ты в изумлении уставилась на меня: „У меня получится, мама?“ – „Получится“, – повторила я. Ты бросила камушек подальше. Это наполнило тебя гордостью, но каждый раз, как я протягивала тебе камушек, ты спрашивала: „У меня получится?“ И не двигалась до тех пор, пока я не говорила: „Получится“.
Неожиданно на глаза мне навернулись слезы: что же так гложет этого ребенка, спросила я себя, что ей то и дело нужно получать мое разрешение. Я поняла, что я уделяю тебе слишком мало внимания, потому что мысли мои были все время заняты опасной и рискованной Эдиповой жизнью. Еще меня заботили Фивы, этот гордынный город, и мои прекрасные сыновья, с их невозможным соперничеством. Как можно было изменить это, это была моя ноша, царская и будничная. Тогда я произнесла, всматриваясь в тебя: „Теперь ты будешь давать себе разрешение сама, Антигона. У тебя получится“. В обмене этими долгими взглядами и твоем молчании была большая любовь, потому что уже через мгновение лицо твое просияло. Ты сама подобрала несколько камушков, что-то пробормотала себе под нос и бросила их гораздо дольше, чем до этого. Даже твои братья с удивлением заметили это и захлопали в ладоши.
Именно поэтому позже, когда ты захотела, как они, учиться ездить на лошади, владеть оружием и управлять колесницей, я позволила тебе это, я не одобряла твоего выбора, это правда, но раз ты сама давала себе разрешение действовать так или иначе, я не собиралась переделывать то, что сделала сама».
Так Иокаста с самого детства научила меня самой нести свою ношу. Этой ношей оказался однажды Эдип, потом – братья. Все мучительные сокровища нашей семьи и нашей любви, ни одно из них я не сбросила со своих плеч, у меня их отняли силой. Те, кого я любила, мертвы, и мне до них не добраться, теперь я одна в клубах дыма, который, прежде чем удушить, усыпит меня.
Я, наверное, заснула, потому что с некоторой опаской снова открыла глаза. Там, где, мне кажется, я различала голос моей матери, теперь выступает Эдип. Мне не видно его лица, одежды, которую я так часто стирала и штопала, мне видна только его повязка слепца и рядом с ним Диотимия; глаза ее полуприкрыты, и мне не видно ее строгого взгляда. Да, строгого и полного нежности. Мне кажется, что в ее глазах я читаю: «У тебя получится», а потом я угадываю и другие слова: «Скоро и я отправлюсь за тобой». Из-за всего того, что я получила от нее, я знаю, что мне лучше уйти. Так лучше для Фив, а может быть, даже для Гемона. Но то, что Диотимия вскоре последует за мной, печалит меня – мир без нее будет неполным, пустым.
Это еще одна иллюзия, которая родится в тебе из-за этого Большого Полотна, о котором она тебе так часто говорила. Мир без Диотимии, мир без Антигоны пребудет таким же – солнце будет по-прежнему вставать на востоке, ветер будет надувать паруса кораблей, и пылкое желание появиться на свет и жить не иссякнет у маленьких детей. Ничего не изменится, думает Диотимия, если живая душа заменит ту, что ушла.








