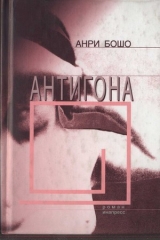
Текст книги "Антигона"
Автор книги: Анри Бошо
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Анри Бошо
Антигона
Марку Кадбебёру
I. АЛЫЙ ХРАМ

После гибели Эдипа глаза мои и мысли обратились к морю, и я постоянно искала убежища где-нибудь на берегу. Укрывшись в тени скалы, я вслушивалась в крики морских птиц, голоса людей и шум порта. Из головы не шел тот день, когда я услышала Иокастины слова: «Никогда не забывай, Антигона, что твой отец прежде всего – моряк». Моряк этот и увлек меня в свое безумное плавание, приведшее меня в землю, которой я больше всего и боялась. После десяти лет плавания землей этой стали Афины, где я теперь и пребывала. Одна, в трауре. В небе, распластав огромные крылья, кружила птица, – такие крылья были у Эдипа, Иокасты и у Клиоса, когда он писал красками. Я – не из них, я не создана для высокого полета и высоких мыслей.
Эдип однажды, неожиданно обернувшись ко мне, произнес: «Ты никогда не была на море, Антигона, но ты настоящий моряк. Сколько ты находишься в плавании без руля, без парусов, но судно твое не идет ко дну, несмотря на мою слепоту, припадки, Клиосово безумие, да и мое тоже». И мне вновь захотелось ощутить вкус счастья, которое я испытывала тогда, на невидимой дороге, по которой мы бесконечно блуждали.
Друг Клиоса Нарсэс вернулся из порта, куда ходил узнать, готовы суда ли к отплытию, и сел рядом.
– Фреска Алого храма почти закончена, – сказал он. – Клиос приглашает посмотреть ее завтра.
– А почему храм алый?
– Это пещера, объяснил Нарсэс, – куда рыбаки и пастухи приходили с незапамятных времен молить богов и почитать их. Логово тьмы вдохновило Клиоса, он обвел вход в пещеру алым цветом, и «алый» стало в конце концов названием подземного храма.
На следующее утро, пока мы по еле заметной тропке поднимались в гору, на небе разгоралась чистая, прозрачная заря. Грот был скрыт скалами, солнце слепило глаза, и я не сразу увидела вход. Вдруг в глаза ударил алый цвет – он, как Клиос, заставлял подчиняться ему. И меня сразу же захлестнула волна счастья: я увижу его, вдохну его запах, почувствую своими руками его радость. Мне захотелось глубже погрузиться в этот алеющий призыв.
Алый цвет захватил меня. Я ощущала его на отполированных стенах, я ступала по нему, когда он сам становился огромными плитами. Алый цвет уходил во тьму и, смешиваясь с чернотой, не исчезал в ней: Клиос сумел заставить этот несгибаемый багрянец сиять тысячью цветов.
Внутри пещера была полукруглой, и купол ее, сужаясь, устремлялся вверх. Эта совершенная форма и игра красного, который струился вокруг меня, то темнея, то становясь поистине алым, переходил из одного оттенка в другой, заворожили меня. Глаза мои привыкли к этому таинственному свету, и тогда из тьмы выступила фреска.
Божество и чудище змей сплелись в один клубок: Пифона пронзали множество стрел, и одна из них все еще торчала в его змеином теле. Тем не менее он добрался до небесного лучника и вступил с ним в ближний бой. Конец схватки уже близился, потому что силы противников были на исходе. Серая шерсть, покрывавшая чудовище, не могла скрыть глубокие раны. Длинные седые пряди свисали с шеи и развевались на голове меж рогов. В этот-то момент, стараясь повалить Пифона и не дать ему ударить рогами, божество и схватило его за дикую голову.
Сам же божественный лучник с блиставшим в ореоле света оружием представал как бог восходящего солнца. Битва жестока, но победа божества очевидна. Чудище вместе с силами тьмы, уступая лучнику, упорно сопротивлялось, но, когда солнце затопит своим сиянием небо, силы тьмы уже не смогут защищать бывшие свои рубежи.
Как только я очутилась в этом огненном чреве, во тьме материнской утробы, меня охватило огромное напряжение. Все говорило о пылающей тропе, проложенной Клиосом и Нарсэсом, все – кроме фрески.
Мне нравилось божество восходящего солнца, его стрелы, его торжествующая мальчишеская гордость, но и чудище со своей седой гривой, тяжелой прародительской плотью и свидетельствами древности мне тоже нравилось. Оно воплощало темную глубину памяти и грубую правду истин, которых небесный лучник еще не знал и, может быть, никогда не узнает. Опасно и неправильно одерживать верх над этим чудищем и изгонять отсюда, полностью посвятив свету подземное царство Пифона. Клиос сделал превосходную фреску, но истина в ней холодна и чужда тем неизмеримым глубинам алого цвета, который потерял чистоту звучания, но по-прежнему будоражил мою душу.
Нарсэс взглянул на меня: он видел, в каком восторге я была, приближаясь к этой фреске, и нынешнее мое молчание поразило его. Нравится ли мне фреска, спросил он. Нелегко выразить, что я чувствую, тем более что мне очень нравится все, что делает Клиос, когда на него нисходит вдохновение танца или цветовое благородство. Мне надо остаться с фреской наедине, и – подольше.
Нарсэс, кажется, понял, что я хотела сказать, и вышел из пещеры.
Когда Клиос закончил роспись первой своей вазы, он, сияя от радости, принес ее Эдипу. Он водил пальцами Эдипа по контурам рисунка и рассказывал, какого цвета фигуры. «Красиво», – заключил тогда Эдип. Я была счастлива, Клиос – тоже. Но, поскольку Эдип ничего больше не сказал, Клиос изменился в лице и воскликнул: «И это все?» Эдип промолчал, и Клиос надолго погрузился в отчаяние, он переживал свою неудачу и перестал писать красками. Но, по мере того как силы снова возвращались к нему, живопись вновь стала обретать для него смысл, и он стал показывать Эдипу амфоры и чаши. Множество их было разбито, но если Эдип улыбался, не единожды ощупывая поверхность изделия, то Клиос сохранял вазу и радовался победе. «Так, – сказал он однажды, – ни разу не увидев, как я пишу красками, Эдип сделал из меня художника».
Фреске недоставало точки опоры, но в бесподобном алом цвете, ведущем к ней, опора эта была – алый цвет был теплым и надежным. Такую же точку опоры смог отыскать Эдип: из нее, как из источника, стали рождаться его просоды. Неужели новое божество сможет изгнать старое из его детского логовища, лишить света и алой жизненной силы, ничего при этом не оставив прошлому и ничего у него не взяв? Пока я рассматривала фреску, неслышно вошел Клиос. Мое молчание он расценил по-своему. По моему выражению глаз Клиос понял, что фреска, которую он считал законченной, вовсе не завершена, и потребуется еще колоссальная работа.
– Чего же там не хватает? – прозвенел его бешеный вопрос.
– Здесь только борьба, противостояние, Клиос, здесь нет обмена.
– Какого обмена? – Клиос отчаянно пытался понять.
– Обмена чего?
– Крови, – отважилась произнести я.
– Тогда надо все уничтожить – и начать сначала!
Он схватил щетку и погрузил ее в краску. «Подожди!» – в голосе появившегося в гроте Нарсэса звучала мольба. Но слишком поздно: Клиос уже несся к фреске, чтобы закрасить написанное. В испуге я застыла на месте, преграждая ему путь, потому что, пока он говорил, мне пришлось перейти на другое место. Он попытался оттолкнуть меня, но в руке у него была щетка.
– Не закрашивай все, – стала уговаривать его я. – У тебя почти получилось… Почти.
– Почти?! Что значит «почти»? – Клиос отбросил щетку и в ярости схватил меня за руку. – Почти – это ничего!..
Мне было больно – его отчаяние сливалось с моим, и снова заговорила боль потери: Эдипа не было с нами, и это причиняло нам обоим острую боль. Пока Клиос тряс меня, в голове моей возник странный вопрос:
– Откуда ты начал, Клиос?
– С порога, – удивленно ответил он. – Здесь все было черно от времени. Мне нужен был красный.
– А потом?
– Мы накладывали на камни красный цвет, затем – алый, потом – снова красный, наконец проложили световой колодец, и тогда появился божественный свет.
– Ты все время следовал красной дороге? – рискнула спросить я. – Почему ты сошел с нее, приступив к фреске?
Мой вопрос застал Клиоса врасплох. Ярость его куда-то делась, он перестал слушать меня и бросился к своим кистям и краскам. Ему уже нужна была наша с Нарсэсом помощь.
– Скорее сделаем эту алую дорогу, такую алую, как чувство, что обжигает меня.
Теперь он – весь стремление к действию, ему надо увлечь этим и нас, подчинив ритму, который слышен пока только ему.
Мне бы хотелось подумать над вопросом, который я задала Клиосу и который его настолько смутил. Но он не дал мне времени – вложил в руку кисть, быстро и точно показал, какие должны быть цвета и куда мне следует наносить соответствующую краску… Пока он с Нарсэсом будет готовить новую порцию красок, я должна без промедления приступить к делу. Потом, оставив заниматься красками одного Нарсэса, Клиос снова вернулся к фреске: перед ней начался то ли его преисполненный любви танец, то ли военные приготовления к битве. Он касался фрески точными редкими мазками. Иногда просто обрушивался на нее, будто желая ранить изображение, оспорить его. В другой раз он, наоборот, приближался к нему с беспредельной нежностью и едва касался кистью краски. Его беготня, оленьи прыжки, водопад чувств и жестов завораживали, и весь мир перестал существовать для нас.
Солнечный бог под кистью Клиоса алел, полыхал в потоках собственной и Пифоновой крови. Страдание и гнев изуродовали его прекрасное тело. Красный цвет, оказавшись замкнутым в черных контурах, приобретал огромную мощь и власть. Однако свет на фреске не переставал распространяться на все новые участки живописного поля, и вот уже неуклюжее чудище просто купается в нем.
Наступил вечер, Нарсэс зажег факелы, но Клиос не мог остановиться – дикий его танец посвящал нас в тайны и уносил в своем вихре прочь. Силы покинули меня, Клиос помог мне сесть, и движения его обрели неожиданную нежность. Вдвоем с Нарсэсом они устроили мне ложе у алой стены, чья шероховатая поверхность вселяла уверенность и покой, и я заснула.
Ночью я не раз просыпалась – мужчины работали, потом перед фреской остался один Клиос. Даже во сне я ощущала то странное дрожание и беспокойство, которые окутывали фреску из-за его бесконечного кружения вокруг нее и непреклонной мысли.
Утром, когда я проснулась, Нарсэс сказал, что Клиос работал всю ночь. Фреска закончена, и теперь он отдыхает. Тезей прислал нам роскошный обед. Клиос разделит его с нами и покажет фреску, которую он пока скрыл от наших глаз, завесив куском ткани.
Появился Клиос – бесшумно; волосы торчали во все стороны, его прекрасное загадочное лицо осунулось от усталости. Все мы втроем, голодные и измученные, ели почти в полной тишине, но радость, что работа выполнена, была общая. Я с удивлением заметила, что световой колодец дает света меньше, чем вчера.
– Я его наполовину закрыл, – пояснил Нарсэс. – Клиос полагает, что свет должен не литься, а сочиться, как кровь из раны.
– Но не слишком ли темно станет в святилище?
– Теперь здесь иной свет, – ответил Клиос. – Выходи наверх, наружу, – сказал он, когда я попросила открыть фреску, – и медленно продвигайся внутрь, как и те, кто приходят сюда молить божество.
Когда входишь в пещеру, фреска сначала тонет в алом и красном, и различить ее можно лишь сквозь идущие от нее глухие цветовые волны. Световой колодец уже не освещал фреску, как вчера. Наоборот, всеми красками тянулась она к сочащейся солнечной ране, которую Клиос посмел нанести на купол пещеры. Когда глаза привыкли к тревожной тьме и полыхающему свету дорожки, из полумрака – с возрастающей силой – стали проступать фигуры Пифона и лучника, сошедшихся в схватке. Божество и чудище купались в крови, шерсть змея из серой превратилась в синюю, и там, где тела их почти соприкасались, на синей шкуре виднелись кровавые пятна. Тело же торжествующего бога, наоборот, утратило сияние, и уже не кажется, что соперники противостоят друг другу, они, скорее, сжимают друг друга в объятиях, поддерживают.
Клиос открыл нашим взорам нижнюю часть фрески. Теперь там полыхало поднимающееся с пола пламя, оно разделяет сражающихся, доходя каждому из них до пояса. Пламя это родилось из пыла битвы, и оно говорит, что это – не столкновение противоположностей: сражению не будет конца. Языки пламени – единственная часть фрески, где нет крови или почерневших от напряжения мускулов. Всполохи желтого и сияющей белизны сверкают триумфом радости. Пламя своим лучезарным светом освещало на фреске противников, согревало и восполняло то, чего недоставало в свете, сочившемся из небесной раны на куполе.
И снова верх одерживали сила и молодость. Поднимающееся над горизонтом солнце заставляло чудище отступить и освобождало пространство для света. Свет этот, грозя сжечь Пифона, изгонял его, но не побеждал – просто чудище не могло находиться там, где был свет, и у него не оставалось ни малейшей надежды на реванш. Воинствующий огонь, сжигая соперников, наделял их и новым качеством. И из этого союза, на который они оказались обречены здесь и в Дельфах, союза единого и многообразного, будут звучать слова пророчества.
Мы долго не могли отвести глаз от этого нового и загадочного рождения богов и единого, нового божества. Потом Клиос попросил Нарсэса отправиться к Тезею и сообщить, что фреска закончена. А пока они не пришли, я принялась помогать Клиосу: надо было нанести на фреску еще несколько мазков.
– Если ты вернешься в Фивы, – Клиос вдруг резко обернулся ко мне, – тебе придется ступить на эту красную дорогу и тебе будет угрожать большая опасность, ты окажешься в самом центре войны между твоими братьями. Это столь необходимо, Антигона?
Я не сразу повернулась к нему – я продолжала накладывать мазки там, где он указал.
– Я не уходила с дороги, Клиос, – прозвучал наконец мой голос, и я выпрямилась.
Клиос не рассердился.
– Ты думаешь, что Эдип одобрил бы твое решение? – спросил он, взяв меня за руку с такой нежностью, которой раньше я не замечала за ним и которая наверняка появилась благодаря Но, его жене.
– Конечно, нет.
Клиос уже понимал, что разговор наш зашел в тупик, но не мог остановиться.
– Но почему, Антигона, почему?
Я чувствую, как в голосе моем начинает звучать металл.
– Почему?.. Потому что я не Эдип. Я – это я. – И слезы хлынули у меня из глаз.
На ненавистном этом «я» голос изменил мне, а Клиос понял, что говорить тут нечего и он должен принимать меня такой, какая я есть. Он усадил меня рядом с собой в глубине пещеры, в алой бесконечности. Нам обоим было одинаково грустно, и мы тонули в речушках и реках, в потоках красного цвета. Мы сжигали наше горе, нашу надежду в костре битвы, в этом огненном обмене, от которого горели наши глаза и пламенели сердца, и так будет до тех пор, пока будет жить любовь к краскам. Силы изменили Клиосу – он заснул подле меня. Рана, которую столь тщательно и точно рассчитал он, нанося на купол пещеры, впустила в нее частичку неба, и благодаря свету, сочившемуся через колодец, черный цвет уравновешивался надеждой, а красный не убивал.
Когда вместе с Нарсэсом появился в пещере царь, Клиос все еще спал. Работа, которую он исполнил за столь короткий срок, так велика, что Тезей не захотел будить его. Когда глаза царя привыкли к полутьме, разлитой в храме, он начал с разных сторон рассматривать фреску – расхаживал перед ней, садился на землю и, закрыв глаза, погружался в свои мысли.
С мимолетным стоном проснулся Клиос; можно было подумать, что его покинула уверенность, испытанная им утром, когда он понял, что завершил свое произведение.
– В той фреске, которую я видел прежде, – проговорил, обращаясь к нам, царь, – было больше триумфа. Может быть, она даже была красивее. Ну и что: триумф недолог, а красота не вечна, преходяща. Ты, Клиос, со своими друзьями пошел дальше и сумел выразить надежду Афин. – Он замолк и неожиданно произнес: – А что значит этот синий цвет в оперении чудовища?
Клиос никогда не пояснял ни одного из своих произведений.
– Не знаю, – ответил он. – Фреске нужен был синий, и я положил его туда, где необходимо.
– А ты, Антигона, – Тезей обратился ко мне, – что ты чувствуешь, глядя на этот синий?
– На синий? – я от удивления не могла сразу сообразить, что ответить. – Синее чудовище – это… море.
– Разумеется, – Тезею понравилась моя мысль. – Это мощь Афин, которую бог должен сдерживать силой своего взгляда.
Тезей еще раз поблагодарил Клиоса и Нарсэса за работу и попросил меня проводить его. Когда мы оказались у самого выхода из пещеры, Тезей сказал, что в Фивах я могу оказаться в большой опасности. Ему же нужна жрица для Алого храма, вдохновенная жрица, и я для этого вполне подхожу. Если я приму это его предложение, то сослужу службу не только для Афин, но и для Эдиповой славы, для памяти о нем.
И такая сила, и такая доброта были в его словах, что язык мой не поворачивался произнести слова отказа, сказать «нет». И только через мгновение, превозмогая печаль, я смогла покачать головой – в знак несогласия. Тезей – серьезный политик, одаренный человек, царь, требовательный к себе и другим, – не привык, чтобы ему отказывали, и я боялась, что он рассердится и сочтет мой отказ оскорблением. Взгляды наши встретились, и в его глазах я прочла одобрение. Он переступил порог Алого храма, выпрямился во весь рост на морском ветру. Молча взглянул он на меня еще раз и царственным жестом благословил.
II. ЛЕС
В Афины мы пришли нищими – так хотелось Эдипу, и я, несмотря на все Тезеевы дары, нищей хотела уйти из Афин в Фивы. Клиос взялся сопровождать меня, с собой у него были только копье, нож и небольшая сума, в которой он нес непонятно что.
Путь наш был нетороплив, и нам это нравилось. Клиос, как и я, не хотел видеть людей, и дороги он выбирал самые удаленные, долгие и извилистые. Но по вечерам мы обязательно оказывались перед какой-нибудь вросшей в землю хижиной, сложенной из плитняка, а имя Антигоны обеспечивало приют и – частенько – дружеское расположение.
К счастью, которое мы испытывали, вновь оказавшись вместе на дороге, примешивалось чувство потери, и оба мы тяжело переживали, что Эдипа нет с нами. Я никогда не спрашивала Клиоса, куда он шел. Я просто шла за ним. Если же дорога оказывалась широкой, то я шагала рядом, но случалось это не столь часто. В такие минуты он иногда брал меня за руку, я доверялась ему, и он это понимал. Я же чувствовала себя счастливой и свободной, но уже через мгновение становилось ясно, что руку лучше убрать. Клиос, как и я, прекрасно знал, что мне совсем не хотелось прерывать тот путь, который мы должны были проделать друг к другу, чтобы вновь расстаться.
Нам не хватало Эдипа, упрямого постукивания его палки, когда он нащупывал перед собой дорогу, голоса, который своими песнями возрождал прошлое и вселял надежду, нам не хватало его самого. Иногда Клиос даже замедлял шаги – настолько невыносимо было присутствие в нас Эдиповых мыслей или Эдипова молчания. Тогда я обгоняла его: пусть хотя бы моя тень будет охранять этого человека. Мне казалось, Клиос не замечал того, что я делала, но однажды вечером он со смехом заявил мне:
– Тень Антигоны еще драгоценнее ее сияния.
Мы шли так не один день, и, несмотря на не покидавшие нас мрачные мысли, на нас снизошло какое-то подобие счастья… Однажды, однако, наступило утро, когда я должна была сказать Клиосу:
– Ведешь нас ты; я не знаю, где мы, но не забудь, Клиос, что я иду в Фивы.
Ни слова не говоря, он шагал впереди меня.
– Это мой путь, – настаивала я, – ты же знаешь.
– Это путь крови и горя! – Клиос от ярости даже остановился. Я же продолжала упрямо шагать вперед. – Этим вечером, – сказал он, догоняя меня, – мы будем уже близко от Фив. Завтра я покажу тебе твою дорогу, и мы расстанемся. Я не хочу участвовать в твоем безумии, и в Фивы ты отправишься одна.
Ответ этот целый день тяготел над нами, и слова застревали у нас в горле. К вечеру мы вошли в лес – после бесконечной дороги под палящим солнцем здесь царила восхитительная свежесть, тихо шелестели на деревьях листья и звонко журчал ручей. Покой этого места проник в нас, взаимное неудовольствие стихло, и я смогла взять Клиоса за руку, зная, что он не отдернет свою. Ручей всколыхнул в нас счастливые воспоминания, а когда Клиос предложил остановиться и утолить жажду, я испытала острое наслаждение. Я встала на колени, нагнулась к воде, коснулась ее губами и тут же, набрав воды в ладошки, выпрямилась, чтобы предложить напиться Клиосу. И сейчас, как при нашей первой встрече, из воды смотрело на меня его лицо. На мгновение оба наши отражения слились в одно, и я отодвинулась, чтобы видеть только одно – его.
Клиос не утратил своей дикой красоты, и лицо его под шапкой черных вьющихся волос по-прежнему дышало непокорной свободой. Изменилась только улыбка: смягчилась горькая и жесткая складка – это был уже не тот загнанный мальчишка, кого гибель родителей и жестокие войны клана заставили было поверить, что терять ему больше нечего и надеяться тоже не на что. Ярость еще не покинула его – возможно, она его никогда и не покинет, – но теперь к этому мужчине пришла любовь, а расставшись с Эдипом, он уже в одиночку продолжил путь в трудах и озарениях своего искусства живописца. Теперь передо мной стоял мужчина, у которого была женщина, он превратился в отца маленьких детей и в главу большого клана, готового защитить себя. Как его изменили Эдип и Ио, подумала я и снова зачерпнула в ладошки воды, протянула ее Клиосу. Он напился и попросил еще, множество раз повторял он свою просьбу, а мне хотелось превратиться для него в большую ручную чашу, которая всегда была бы готова утолить его жажду. Я храбро сообщила ему об этом.
– Ты ею для меня и была, – проговорил он, целуя мои ладошки, – только благодаря тебе я отказался от преступления.
Мне очень хотелось поверить ему, но не совсем получалось.
Клиос отправился с бурдюком, который нам дала крестьянка, за водой, а я тем временем начала изучать свое отражение: нет, это уже не та тощая дылда-принцесса, которая не знает жизни, – десять лет назад эту принцессу захотел Клиос. Грусть написана на моем лице, скрытая усталость, еле заметная, сквозит во взгляде. Слишком многое пришлось мне пережить, когда я была еще совсем юной, – на моих глазах преобразился человек, которого я не знала. Теперь мне не хватало только жажды жизни, требовательной любви к ребенку, которого у меня не было, любви, которой я не смогла Клиосу дать и которая переполняла меня, не находя выхода. Меня напугало собственное отражение – я совсем не знала себя такой, я пережила громадную потерю и, возможно, стала безумна.
И когда слезы уже начали застилать мне глаза и готовы были брызнуть, на плечо мне легла Клиосова рука. Он стоял передо мной, предлагая встать на ноги, и улыбался, забыв недавнюю свою сдержанность. Он считал меня красивой и любил такой, какая я была. Я пришла в себя, радость снова открыла во мне свой источник, и Клиос, к счастью, не заметил того, чего мне не хватает. Он взял меня за руку, и мы медленно стали подниматься вверх по руслу ручья, который иногда, всхрапывая, рассыпался брызгами над камнями или падал вниз крошечными водопадиками. Так мы добрались до того места, где десять лет назад он построил плотнику, наверху которой теперь лежал букет свежих цветов и листьев папоротника.
– Видишь, – указал на букет Клиос, – это место стало священным: охотники и лесорубы оставляют здесь свои дары, веря, что это – обиталище их богов и богинь. Я пойду за хворостом для костра, а ты пока искупайся и надень белое платье, которое мне дала для тебя Исмена. Смотри, его я и нес в суме, которая все это время не давала тебе покоя. Давай не будем грустить, это наш последний вечер, завтра ты, как решила, отправишься в Фивы.
– Не я так решила… – с неожиданной резкостью возразила я.
Клиос промолчал. Только махнул рукой – ему этого не понять. А мне-то, мне – разве понять?
Клиос изменился; кажется, он что-то понял и не позволяет молчанию разделить нас. Он улыбнулся мне, и перед таким приглашением я не смогла устоять.
Пока Клиос собирал хворост, я выкупалась, и быстрая, ласковая, нагретая солнцем вода описывала вокруг меня петли. Исменино платье показалось мне слишком белым для моей кожи, потемневшей в пути. Подвязав платье побегом плюща, я заткнула за него несколько простеньких цветочков, что нашла поблизости.
Клиос вернулся, неся на голове вязанку хвороста и с никогда не покидающей его естественностью, с громким плеском плюхнулся после меня в воду. Пока я разжигала костер, глаза мои, преисполненные счастья, неотрывно смотрели на это восхитительное тело, которое завтра снова будет существовать отдельно от меня, и продолжаться это будет так долго, пока – сегодня об этом невозможно и подумать – оно не обратится в прах.
Клиос вышел из воды, резко подпрыгнул, отряхиваясь, и сел рядом. Он был горд, что на мне белое платье, и даже не забыл восхититься поясом из плюща и цветов. Я протянула ему один из них. Он поднес его к губам, ему нравилась свежесть воды, вкусный запах лепешек, которые я пекла. И я восхитилась его новой для меня способностью жить настоящим, не терзая себя, как когда-то, ненавистью и презрением.
Я тоже позволила себе ни о чем не думать, открылась скромному счастью, но оно неумолимо росло вместе с тем легким плеском, что издавал этим вечером прозрачный ручей, перепрыгивая, как расшалившийся мальчишка, через плотнику.
Мы с аппетитом поели, и, когда Клиос спросил: «Ты думаешь иногда об Ио?» – я поняла, что он так же открыт, как и я, и доверчив.
– Каждый день. Когда я думаю о тебе, я думаю и о ней. Нарсэс сказал, что она первой отправила тебя к нам на помощь, когда Эдип решил идти в Афины.
Клиос ответил не сразу, как будто подводил итог долгим размышлениям.
– Ио – это жизнь, – наконец произнес он.
– Ты думаешь, я – гибель?
– Нет, Антигона, но ты хочешь взвалить на себя смертельный груз – груз своего опасного семейства. С Ио совсем не так. Случись опасность, она бросилась бы нас защищать, как олениха своих оленей. А в другое время жизнь для нее проста и легка.
– Вы танцуете вместе, Клиос?
– Нет. Ио поет, она происходит из клана музыки.
– Она поет, как Эдип?
– Нет, как Алкион, почти без слов.
– Если бы ты остался со мной, – не смогла промолчать я, – что бы делала Ио?
– Она взяла бы себе другого мужчину, – ответил он без колебания.
– Неужели правда?
– Ио любит меня, но есть еще дети, клан, скот. Она знает, что ей пришлось бы взять другого мужчину.
– Ио знает, какого? – удивилась я.
– Да, я тоже знаю его, это лучший мужчина клана.
– Тебе сказала это Ио?
– Она сказала мне то, что мне необходимо было знать, ровно столько.
В этот момент над верхушками деревьев всплыла луна, ее отражение вынырнуло из потемневшей воды, и диалог наш окутался мечтательным светом. Клиос замолчал и вопросительно взглянул на меня: я думала об Эдипе и о нашей ночи откровений, перед тем как мы пришли в Колон. Но мысли Клиоса были в другом месте.
– Когда мы бывали не нужны Эдипу и дорога не слишком утомляла нас, мы танцевали по вечерам, Антигона. Мы не были очень счастливы тогда, но и несчастливы мы тоже не были, нам не хватает друг друга теперь, когда мы расстались. Давай договоримся, что в последний вечер будем только счастливы.
Я очень обрадовалась и встала, я была счастлива и хотела, как и Ио, стать еще счастливее. И стала: как только нас обоих захватил танец, я перестала думать, хотеть, я хотела только следовать за движениями Клиоса на бесконечном пути. Они настойчиво диктовали мне все, что легко могло исполнить мое тело, подчинявшееся земному притяжению. Вокруг нас – в нематериальном трауре – кружились луна, звезды, деревья, и властно среди них присутствовал Эдип. Строго, почти не разжимая губ, улыбался мне Клиос, и улыбка эта, которая, может быть, и была лишь отражением моей, притягивала меня к себе. Да неужели я действительно танцую, неужели я все еще существую? Неужели танец может существовать отдельно от счастья и горестей?
Окружающее потеряло для меня какое бы то ни было значение: оставался только Клиос, и он то ли сиял, то ли растворялся в покорных поворотах любви. Клиос – это солнце, и ничто не сможет отнять его у меня, но никогда – поклялась я сама себе, – никогда, как и Ио, я не стану поклоняться ему, как божеству.
День был так долог, и я не могла ни остановить свой танец, ни уследить за ним, да и какая разница, если я уже начала падать. Клиос подхватил меня на краю падения, поддержал, помог опуститься на ложе из листьев, которое сам заботливо приготовил для меня.
День потух, горизонт растворился в бесконечности, и совершенно невероятным образом ночь стала ночью. Клиос танцевал для меня одной, и в строгом рисунке его танца я увидела ту тернистую и, возможно, нелепую дорогу, по которой прошла, и те испытания, что еще ждут меня. Клиос исполнил Антигоне славу, слава эта заслужена и, может быть, даже опасно преувеличена, но и ее сотрет своей рукой тьма. Эта пламенеющая тьма, которая отрицала мое существование, разрослась и поглотила меня.
Здесь есть место лишь для того, что превосходит нас. Тьмы для этого не хватит, Клиоса тоже. Как будто почувствовав это, он резко остановился, застыл, вперив в меня невидимый взгляд, его как будто парализовало: пламенело направленное на меня копье, рот был перекошен. Он упал, теряя сознание, и перестал существовать для внешнего мира.
Мне бы пропеть призыв голосом Ио, мне бы этот, белейший голос, который так нужен измученной Клиосовой душе. Как бы мне хотелось, чтобы у меня было тело для Клиосовой любви и свобода любить его, чтобы он смог заново открыть во мне себя. Ни того ни другого у меня нет, и, одинокая в своем отчаянии, я встала и издала жалкий крик – просьбу о подаянии. Крик этот вырвался из глубин пещеры отчаяния и, набирая силу, заполнил собой все пространство. Властная радость, о существовании которой я не знала и тем не менее существование которой я признавала, зазвучала во мне в этом призыве. В шуме хлопающих крыльев поднимался мой клич ввысь, поверх наших голов, и исчезал в небе, как морская птица.
Я кликала, я звала, как женщина, и была счастлива, потому что Клиос вернулся на землю. Он отер с губ пену, пошел к ручью, опустил лицо в воду и, сияющий, весь в брызгах, вернулся ко мне. Он помнил лишь наш счастливый танец, другой он позабыл, а мой клич запечатлелся в нем прочнее, чем память.
– Ты очень устала, Антигона, – нежно проговорил он, – ложись.
Он поможет мне устроиться на этом ложе, накроет своим плащом и исчезнет, как заведено у него, – совершенно бесшумно.








