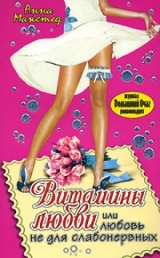
Текст книги "Витамины любви, или Любовь не для слабонервных"
Автор книги: Анна Макстед
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
– Ты сказала, что важно сделать выбор, и все же…
Моя мама, пренебрегая посудомоечной машиной «Бош», пошла к мойке из нержавейки и вручную вымыла свою чашку и блюдце, не потрудившись даже надеть резиновые перчатки.
– Есть еще одно выражение, над которым я часто задумываюсь: «Никогда не поздно». Оно бесконечно глупое и лживое. Но на самом деле часто бывает слишком поздно. – И обернулась ко мне: – Пойдем, я отдам тебе коробку, которую оставила для тебя бабушка Нелли. Наверное, смотрит на меня сверху и хмурится, почему я так затянула с этим.
Я положила старую картонную коробку на заднее сиденье «воксхолла» и захлопнула дверцу. Мама проводила меня до дороги. Я кинулась к ней и клюнула ее где-то в области уха. Потом загремела ключами от машины, но она дотронулась до моей руки, прося задержаться.
– Когда ты была маленькой, – медленно заговорила она, – ты не любила, когда тебя целовали. Отбивалась руками и ногами, чтобы только тебя выпустили. И только уложив тебя в постель, я могла гладить тебя по головке, когда ты засыпала. Тогда я могла украдкой тебя поцеловать.
Я улыбнулась, не разжимая губ.
– Надо же.
Ее лицо осветилось улыбкой. Я еле разобрала то, что она бормотала себе под нос:
– У ребенка были самые мягкие на свете щечки.
– У ребенка? – сурово спросила я и оглянулась, но улица была пустынна.
– У тебя, – объяснила она.
– Почему тогда ты не сказала «у моего ребенка»? Я ведь твой ребенок, а не просто ребенок.
– Конечно, ты мой ребенок, а это значит Ребенок с большой буквы, а не просто ребенок в общем смысле слова, это значит Единственный ребенок в мире, потому что нет другого такого ребенка, как ты.
Странно, но она говорила это не в прошедшем времени. И от этого мне было очень хорошо. Мне хотелось ее обнять, но я не знала, как это сделать.
Она засмеялась:
– Все матери говорят всякую чепуху своим детям. Просто себя не узнаешь. Просто становишься безумной от любви.
Я же не могла накинуться на нее, как вампир, так что я сказала глухим голосом:
– Ну… а что теперь?
Она смутилась:
– Теперь можно обняться.
Я постаралась не съежиться от смущения. Обняться. Это из лексикона тоненьких розовых книжных новинок, их вкладывают в конверты с чулками, и потом они захламляют твои книжные полки, заставляя горько сожалеть о древесине, погубленной ради производства бумаги, на которой они напечатаны.
Ее усталое лицо сморщилось, мой подбородок оказался на ее плече, сморщилось и мое лицо. Руками она прижимала мои лопатки, нежно гладя меня по волосам, мягко, с невероятной осторожностью раскачивая меня взад-вперед, как будто убаюкивая.
– Расслабься, – бормотала она, – расслабься.
– Мам? – сжалась я.
– Что, моя дорогая?
– Почему расслабиться?
– Тебя всегда было трудно уложить спать. Несколько раз было так, что я повторяла «расслабься», и ты засыпала. А однажды ты вдруг поняла этот трюк, и больше он не действовал, я с таким же успехом могла кричать: «Караул!» Но мне все же нравилось повторять слово «расслабься».
Я вздохнула, как старая собака, лежащая у камина. Мама быстро повернула голову и от души поцеловала меня в щеку, по-настоящему звонко чмокнула. И прошептала:
– У этого ребенка самые мягкие на свете щечки.
Я закрыла глаза и расслабилась.
Мама, мамочка, мамочка.
Глава 40
Весь остаток дня чувство равновесия то возникало, то исчезало – со мной так уже было однажды, когда я заболела воспалением среднего уха. Я лежала на кушетке, завернувшись в пестрое лоскутное одеяло, несмотря на жаркую погоду. Я чувствовала себя измотанной, но уснуть не могла. Когда мои дела были плохи, я отлично умела забыть о них, но когда они обстояли хорошо, приятно было знать, что думать о них нет необходимости. Почему же я тогда не переставала думать о маме? С ней же теперь отношения налажены, верно?
Но так дело обстояло только в теории. Я чувствовала себя человеком, который выскочил на минутку в магазин, а в этот момент метеорит врезался в его дом. После первой радости оттого, что удалось избежать смерти, – «это всего лишь дом, главное, что моя семья и я в безопасности, можно порадоваться, как повезло!» – начнешь раздражаться и считать себя несчастным: дом-то разрушен.
У меня голова кружилась от радости, что я восстановила отношения с мамой. Но в этой радости был привкус сожаления. Я осознавала ценность того, что приобрела, но понимала, что потеряно безвозвратно очень многое. Я всегда испытывала всепоглощающую жалость к людям, усыновленным в детстве, которые потом, вырастая, пытались отыскать свою настоящую мать. Потом газеты радостно писали о них: «Теперь они наверстают упущенное!»
Да нет, на самом деле это невозможно. Ничто не компенсирует матери того, что она пропустила твою первую победу в соревнованиях по плаванию, тот момент, когда ты научился гонять на велосипеде, всех тех дней, когда ты продолжал учиться ездить на велосипеде, получая ссадины. Потерянное время нельзя компенсировать. В этом-то и беда.
Моя мама и физически, и душевно всегда была рядом, и все же я ухитрялась игнорировать ее тепло и любовь, можно сказать, я замерзала, но отказывалась стоять возле огня. Оглядываясь назад, я теперь никогда не смогу сказать: «Ни о чем не жалею». Это чушь, конечно, всем есть о чем жалеть. А кто это отрицает, тот либо глуп, либо высокомерен, либо врет. Всякие житейские «мудрости» закружились у меня в голове. Например, такая: «Слово – серебро, молчание – золото».
Вряд ли я понимала, что сама являлась живой иллюстрацией этой истины до… гм… сегодняшнего утра. Не стоило обсуждать с кем-то свои семейные проблемы: они должны решаться между членами семьи. Моя мать была права, настаивая, чтобы я не зацикливалась на прошлом. Она сразу поняла, что я с радостью погружусь с головой в проблемы прошлого. Она хотела от меня самого скучного и трудного: чтобы я была сильной.
Общество хочет, чтобы его члены были сильными. Если ты заболела раком и при этом у тебя сидячая работа, все, все равно ждут, что ты начнешь бороться с болезнью, как будто ты член спортивного общества, да что там, как будто ты олимпиец. Я всегда считала это неправильным: зачем напрягать людей, у которых, откровенно говоря, и так хватает своих забот, их более чем достаточно. Их болезнь потенциально смертельна, а мы еще требуем, чтобы они занимались йогой.
Меня смущало, что Анжела ждет от меня проявления силы. Я-то предпочла бы спрятаться в доме, никого не видеть, хандрить и жалеть себя. Мать же хотела, чтобы я не таила обиды. Да, вот еще кто остается для меня тайной: люди, которые не таят обиды. Естественно, я не буду таить обиды на Роджера, – после того как с ним поквитаюсь. Как можно быть сильной и прощать обиды? Вы можете претендовать на благородство, достоинство, предъявить много убедительных причин, оправдывающих ваше нежелание нанести ответный удар. Вами будут восхищаться и кивать. А в душе будут думать: «Да он просто струсил». Роджер испортил почти всю мою жизнь, не говоря уже о жизни Анжелы, и был уверен, что ему все сойдет с рук, потому что мы трусливы. Но меня это не устраивало. Те, кто не отвечает ударом на удар, могут сколько угодно твердить о своей моральной победе, но фактически это пустые слова.
Я уверена, что понятие «моральная победа» придумано для утешения слабых, которые никогда не смогут отомстить за свои обиды. Вот им и внушают, что они одержали «моральную победу», чтобы, с одной стороны, их утешить, а с другой – чтобы они не лезли со своими проблемами.
Я же хотела, чтобы мой враг проклял тот день, когда решил испортить мне жизнь. Мне нужно было видеть его на смертном одре, простирающим ко мне руки в рыданиях: «Я виноват, Ханна, прошу, прости меня». Но я бы все равно его не простила. Единственное, что я бы сделала, – помахала бы ему рукой на прощание и сказала бы: «Счастливого пути в ад!»
Я была очень сильно сердита на отца.
Я могла бы строить планы мести до утренней зари, но зазвонил телефон.
– Ханна, это ты?
– Джейсон!
Услышав его голос, я подумала: «Он своей мамы больше никогда не увидит». После этой мысли жалость к нему и радость за себя смогли немного вытеснить злобу на отца из моей души.
– Привет! Прости, что так долго не звонил. Как дела? – У Джейсона был серьезный, озабоченный голос – таким обычно говорят, боясь огорчить душевнобольного. Я вспомнила: ведь он убежден, что это он оставил меня.
– Не очень хорошо, но я переживу, – стремясь потешить его самолюбие, я постаралась, чтобы мой голос прозвучал достаточно скорбно.
– Ханна, – сказал Джейсон, глубоко вздохнув. – Мне очень жаль, но ты должна согласиться, что я не могу жениться на женщине, которая не хочет иметь детей. Это было бы несправедливо по отношению к нам обоим. Честно говоря, я подумал, может, ты снова сойдешься с Джеком, раз меня нет на горизонте.
Это было так трогательно. Он был уверен, что я подожду с личной жизнью, надеясь, что он снова появится на моем горизонте.
– Ну, раз выбора нет… – Джейсон был слишком уверен в своей неотразимости, что бы почувствовать иронию в этих словах.
– Напрасно ты так, он отличный парень, – рекомендовал мне моего бывшего мужа Джейсон, который, честно говоря, Джека совсем не знал.
Мне стало стыдно и дальше продолжать свои издевки над Джейсоном. Я решила сменить тему беседы:
– А как твои дела?
– Просто супер! Вообще-то я звоню, чтобы сообщить тебе хорошие вести. Верней, хорошие для меня, плохие для тебя. Мы с Люси снова помолвлены.
– Да это здорово! – воскликнула я. – Поздравляю!
– Ты, правда, так считаешь? – озабоченно спросил Джейсон. – Серьезно? Ты не очень расстроена?
– Да я рада за вас обоих, Джейсон, честно!
– Спасибо! – Он явно обрадовался моей реакции. – Между нами, Люси не хотела, чтобы я тебе звонил. Она уверена… – он понизил голос, – что ты немножко зациклилась на мне.
Ну, что я должна ему ответить, чтобы не уронить своего достоинства и при этом не обидеть его?
– Джейсон, успокойся: я не опасна ни для одного из вас. Я всегда буду очень любить тебя. Но все же тебе не стоит рассчитывать, что я буду заниматься твоими детьми. Желаю вам обоим всего самого наилучшего…
– Хоть ты и ненавидишь брак?
– Что я слышу! Кто тебе сказал, что я ненавижу брак?
– Ты сама.
– Мне не подходит семейная жизнь. Только мне. Потому что один раз мой брак не состоялся, по моей вине. Именно я не гожусь для брака. Ну, к примеру, ведь не поедет автомобиль, если его заправить апельсиновым соком. Понял, Джейс? Я не против браков в принципе, так же как не против, скажем, апельсинового сока вообще, – что-то я запуталась. – Я хочу сказать, не против машин. Машина – это хорошо, если, м-м-м, она заправлена бензином.
– Кажется, я понял твою мысль.
– Джейсон, я же не асоциальная идиотка, я не думаю, что все браки – зло. Я уверена, что вы с Люси отлично подходите, друг другу и у вас будет счастливая семья.
– Спасибо, Ханна. Очень… приятно от тебя это слышать. Ну, тогда я воспользуюсь возможностью: приглашаю тебя на свадьбу. Придешь?
– С удовольствием!
– Только я боюсь… там мест немного… даже еще одного гостя не втиснуть.
– Ну и отлично, Джейсон.
– Так что, э-э-э, не приходи на церемонию.
– Поняла.
– И на… м-м-м… обед. М-м-м, ты будешь в числе послеобеденных гостей. Там подадут сэндвичи и торт.
Он даже представить себе не мог, как меня это обрадовало. Свадьба отнимает целый день из твоих выходных, да что там, – все выходные! Повезло тому гостю, которого не позвали ни на церемонию, ни на обед, потому что можно провести все утро и полдень перед ящиком, поедая печенье.
– Джейсон, – сказала я, – для меня это большая честь – быть приглашенной на такое важное событие в твоей жизни, даже если меня пригласили только на торт.
– Ханна…м-м-м… дело в том, что семья Люси… она невероятно большая… Я…
– Да расслабься, Джейс, я же пошутила. Клянусь, послеобеденный прием мне очень даже подходит.
– Ну и хорошо. – По голосу было слышно, что он улыбается, – я на это и рассчитывал. – Он уже собрался вешать трубку, но тут я его остановила:
– Джейсон!
– Чего?
Я замолчала, не зная, как сформулировать свою мысль.
– В общем, ты, наверное, и сам все это знаешь, но последние десять лет мы… очень плотно с тобой общались, и я считаю, что вправе тебе это сказать. Может, тебе никто еще этого не говорил… – Черт, как же мне передать ему свою мысль? – Хоть твоя мама и умерла… – Да, браво, Ханна, грубее не могла придумать? – …но я уверена, что она смотрит на тебя оттуда… – Наверное, так можно сказать, даже Анжела уверена, что ее мама смотрит на нее сверху, пусть даже с неодобрением, – …и, я думаю, она просто лопается от гордости от того, какого чудесного мальчика она родила. Она радуется, что в свое время заложила в него то, что надо. Надеюсь, ты согласен со мной. Вот и все, что я хотела тебе сказать. Просто хотела, чтобы ты знал.
В трубке повисло молчание. Потом Джейсон сказал:
– Ты хороший человек, Ханна.
Меня смутили его слова. Я знала только одно: у меня опять есть мама, и мне хочется со всеми поделиться частицей этой радости. Надеюсь, я не стану сентиментальной. Это довольно глупо в моем возрасте. Буду, как старая дева, лить слезы над дамскими романами. А не то еще хуже, дойду до того, что начну рисовать маленькое сердечко над 1, подписываясь «Ханна Лавкин».
Когда я вышла замуж за Джека, я не меняла фамилии, но не из принципа, а от лени. Хотя, конечно, «Ханна Форрестер» звучит красивее, весомее, чем нудное «Ханна Лавкин». Мою маму в девичестве звали Анжела Блэк. По-моему, это классно: сочетание ангельски белого имени Анжела с дьявольски черной фамилией Блэк. А вот фамилия Лавкин подходит для мягкотелых неженок.
Подозреваю, что и маме она тоже не нравилась, но у нее не было выбора.
Если верить утверждению Габриеллы, что все матери хотят для своих детей того, чего не имели сами, тогда, если Анжела была лишена права выбора, она очень боялась, что у меня тоже его может не оказаться. В отчаянии, она решилась на саботаж в женском стиле. Она не могла просто сидеть на месте и смотреть, как я рушу свою жизнь. Мама считала, что Джейсон мне не подходит, потому и решилась на тот трюк с подливкой.
Теперь мне стало ясно, что Роджер ей не годится. И никогда не годился. И все же она считает, что у нее не было другого выхода, кроме как остаться с ним.
Я даже не спросила ее, любила ли она Джонатана.
Хотя какая разница, – даже если нет, все же это не было простое удовлетворение низменных желаний. Это была попытка понять, чего хочет она, независимо оттого, что думают окружающие. И эти ее слова о том, что уже «слишком поздно». Она ведь замужем за Роджером сорок лет, и если сейчас уйдет, то он превратит в грязь все эти годы. А возможно, она так долго прожила под гнетом этого человека, который не давал ей возможности быть самой собой, что он задушил ее истинную суть. И теперь у нее не осталось ни собственных мнений, ни желаний. И, глядя в зеркало на свое усталое, постаревшее лицо, она сама не знает, какова она на самом деле.
У моей мамы хватало огня в душе и энергии для меня, но для себя не хватило. А я все удивлялась, откуда в ней столько апатии. Она не была ленивой, и все же перестала бороться, позволив своему мужу украсть собственную дочь. Почему? Ведь когда-то в ней было что-то от Габриеллы: умение ценить мелочи, которые вносят радость в жизнь. Я помню, в два года я каждое утро пила за завтраком свежевыжатый апельсиновый сок. Мама выжимала его из апельсинов на моих глазах, потому что хотела, во-первых, чтобы я видела, что апельсиновый сок берется из апельсинов, а не из картонной коробки; а во-вторых, чтобы каждый день у меня было волшебное ощущение, что я – в роскошном отеле.
Я не могла понять, почему Анжела не хочет поведать мне подробностей и причин ухудшения ее брака. Она не хотела, чтобы я страдала по этому поводу. Но мне надо было знать все. До сих пор я ценила только факты и презирала эмоции. Как я могла не видеть связи между ними? Ведь факты нашей жизни порождены нашими эмоциями.
Мама заявляла, что можно волевым решением освободиться от воспоминаний, но сама была придавлена к земле своим прошлым. Сегодняшний день мог стать началом чего-то замечательного, а мог так и пройти незамеченным. Если я ограничусь ее кратким объяснением, что он хотел, чтобы все были «счастливы», а у нее бывали «непредсказуемые настроения» (не знаю, что это означает), мое понимание ситуации останется поверхностным. Но мне этого недостаточно.
У меня была микроволновая печь «Панасоник», серебряного цвета, стоившая двести пятьдесят долларов. Это чудо техники могло поджаривать, размораживать, печь, не сомневаюсь, что и гладить, но я была настолько ленива, что не удосужилась прочитать инструкцию и изучить все ее блестящие возможности. Я пользовалась единственной функцией этой прекрасной машины– «нагрев». Я использовала одну сотую ее потенциала, при этом постоянно ощущая вину за свою тупость и лень. У меня также был шикарный ноутбук, но им я тоже пользовалась не в полную силу. Я не хотела, чтобы моя новообретенная чудесная мама тоже осталась изученной мною на сотую долю.
Я собиралась выступить в роли детектива и узнать о ней все.
Глава 41
Но я не знала, с чего начать. Картонная коробка – бабушкино наследство – валялась в коридоре, там, где, я ее бросила. Можно начать с нее, она для меня была символом возвращения мамы. Хотя, учитывая наши отношения с бабушкой Нелли, я побаивалась, что в коробке окажется рой плотоядных черных тараканов, который поглотит меня без остатка. Я, конечно, преувеличиваю (насчет тараканов), но мне было слегка не по себе. Многие семьи при ближайшем рассмотрении выглядят малоприятно, возможно, поэтому я предпочитала держаться на расстоянии от своей. Мне в последнее время хватало неприятных сюрпризов, так что не хотелось открыть коробку и обнаружить в ней череп и пропахшую сиренью записку вроде такой: «Ханна!
Наконец, я умерла, и, как это ни прискорбно, но пришло время открыть тебе гнусную тайну твоей жизни. В младенчестве у тебя был младший брат. Когда тебе было три года, мы положила его в стиральную машину (режим стирки для смешанных тканей, температура воды шестьдесят градусов), где он скончался в страшных мучениях. Твои родители не хотели, чтобы ты росла с клеймом убийцы, так что об этом несчастье никогда не вспоминали. Оливера подвергли гипнозу, чтобы он забыл все об этой трагедии. Но гипнотизер оказался глуховат и, видимо, из данного ему указания уловил только слова: «изгнать все мысли… из его сознания». Увы, от горя и гнева твоя мама сошла с ума. Та, кого ты считаешь своей матерью, на самом деле ее сестра-близнец. Твоя настоящая мама живет в сумасшедшем доме, под надежным запором. Твой отец сумел избежать глубокого отчаяния, полностью погрузившись в занятия пантомимой. Я считаю, что тебе надо узнать ужасную правду, чтобы ты смогла замолить свои грехи до того момента, как черти начнут поджаривать твои пятки. Для освежения памяти прилагаю череп…» и т. д. и т. п.
Я побрела в коридор и, пинками передвинув коробку в гостиную, оторвала приклеенную скотчем крышку. Признаюсь вам, что, когда в фильме начинается сцена ужасов, я смотрю ее, прищурившись и заслонившись от экрана растопыренной пятерней. Так же смело я поступила и сейчас. Естественно, ничего не увидела, поэтому пришлось отнять руку от лица и с бьющимся сердцем заглянуть в коробку. Все, что я увидела, была уйма старых фотографий. Ничего похожего на кость от челюсти, жуков, даже ни одной божьей коровки. И даже надушенных конвертов. Я со вздохом вытащила одну фотографию. Она выцвела и не была уже даже черно-белой.
Фотография была годов семидесятых, на ней в ряд выстроилась группа людей. В самом центре был большой, жирный, самого банального вида младенец. Дитя сидело на коленях щуплой женщины, и – ура! – это оказалась Анжела – хрупкая, с вымученной улыбкой. Малыш постарше, с молочными зубами, прислонился тыквообразной головой к ее руке, я предположила, что это Олли. А безобразный малыш у нее на руках, наверное, ребенок кузена.
Но где же я? Еще не родилась? Олли старше меня на два года. Меня нигде не было! И мама на снимке не была беременной. Вот, оказывается, в чем секрет. Меня удочерили! Но… ведь я так похожа на маму. Я подозрительно и неохотно стала рассматривать некрасивого младенца. Ну да. Он оказался мной. По обе стороны от мамы, прямо, будто аршин проглотили, стояли бабушка и дедушка и таращились в камеру, как в дуло ружья. И я снова поразилась, до чего красив был папа. Худой, кожа да кости, волосы до плеч. Наверное, был в то время модником. Выдвинув вперед квадратный подбородок, он положил свою большую руку на мамино плечо. Она под ее тяжестью даже прогнулась. На его лице было написано: «Это все мое!» Он явно гордился своими устрашающими отпрысками. Фотографии часто врут, но тогда моя мама не была красавицей. Как часто бывает с людьми, она похорошела с годами.
Значит, вот как.
И что могла сказать мне эта фотография? Меня, как всегда в моей работе, охватил ужас от необходимости делать выводы. Я уже знала, что мой отец требовал, чтобы все считали себя счастливыми, даже когда не чувствовали себя такими. Фотография как раз это и демонстрировала. Роджер всегда любил показуху. Его больше всего беспокоило, что подумают другие о нем, о его успехах. Выражение его лица было вызывающим, – ну-ка, попробуй доказать, что он не мужчина. Хотя нельзя было сказать, что наша семья смотрелась живописно. У мамы был полумертвый вид, а мы, дети, смахивали на чудовищ, по крайней мере, с эстетической точки зрения.
Только я про себя сформулировала это нерадостное впечатление, как раздался телефонный звонок.
У меня забилось сердце. Джек на пять дней уехал в Лос-Анджелес. На прощанье я сказала ему только: «Смотри, не разглядывай там небоскребы, голова закружится», но надеялась, что он позвонит. Он не звонил.
– Алло!
– Это я.
Сердце сразу заныло, как стертая до крови мозоль.
– Слушаю!
– Это я, Мартина.
– Я поняла.
– Хочу узнать, как твои дела, ну, после спектакля Роджера… Боже, что за ерунду Джек придумал, зачем притащил этого…
– Ты, наверное, меня за дуру принимаешь?
– С чего ты так решила?
– Ты ведь считаешься моей подругой? А на самом деле ты просто с ума сходишь по Роджеру. Так знай, твое увлечение им – извращение. Все, что я тебе говорю, сразу становится ему известно. У тебя нет ни достоинства, ни совести! Ты даже не понимаешь, с кем имеешь дело, во что вляпалась. Роджер просил тебя уговорить Джека прийти на спектакль? Потому что носится с дурацкой идеей, будто Джек тут же в него вцепится и в итоге он окажется в Голливуде. Он из-за своего тщеславия просто из ума выжил, да еще и врет в придачу как сивый мерин! Он пользуется тобой, милая моя. Он тебе не друг. На что рассчитываешь? На единение душ?
Я ждала в ответ взрыва, слез или гудка в трубке. Я не ожидала, что Мартина ответит спокойным мягким голосом:
– Нет, Ханна, это ты меня за дуру держишь. – Я молчала. – Ты меня уважала когда-нибудь? Я знаю, кто я для тебя: жирная корова, работающая у дантиста и читающая бульварные книжонки. Но я хотя бы читаю. А ты только у ящика торчишь. И романы у тебя – с героями криминальных драм, а не с людьми из реальной жизни. Я пыталась быть твоей подругой, да что толку? Ты никогда не считала меня равной себе. Ты относишься ко мне покровительственно, грубо, звонишь, только если надо поделиться чепухой, которой забита твоя голова. Ты настолько высокомерна, что тебе даже наплевать, что я об этом думаю. Ты задумывалась, что и у меня есть чувства? Ты говоришь, что я тебе не друг. Конечно, потому что я для тебя – просто мусор под ногами. Роджер ко мне внимателен, он считает меня мыслящим существом, имеющим свои права, и я с радостью выполняю его просьбы, мы с ним на равных. Нам есть о чем поговорить, мы все обсуждаем: и зубы, и славу, и то, надеть ему парик или выкрасить волосы; он спрашивает моего совета, интересуется моим мнением. С тобой не так. С тобой весело, только когда у тебя хорошее настроение. Я бы с радостью была твоей подругой, но мне надоело, что единственное, что я получаю в ответ, – плевки в лицо.
И она положила трубку. Первое, что я подумала, – ей вовсе не свойственно такое красноречие, второе – что она на редкость права.
Я искренне верю в необходимость возмездия, и в соответствии со своими принципами я вынуждена одобрить поведение Мартины. Но мое одобрение не заходило настолько далеко, чтобы тут же позвонить ей и извиниться за свое поведение. Мне надо было отвлечься от угрызений совести, так что я позвонила Габриелле, и она приказала мне срочно явиться.
Когда я вихрем промчалась по тропинке, она уже ждала у открытой двери.
– Я и сама тебе позвонила бы, но Джуд прихворнул. Олли вызвал меня со спектакля домой сразу после твоего ухода.
– Что с Джудом?
– Желудочный грипп. Мы вчера весь день провели в отделении «Скорой помощи»; сначала его тошнило, потом он притих и впал в какое-то оцепенение. Я думала, у него менингит. Но обошлось, сейчас он уснул. Представь, заблевал весь палантин от Дианы фон Фюрстенберг.
– Палантин? Что это такое?
– Ну, такое платье. Как пелерина. Окутывает фигуру.
Окутывает фигуру? Никогда мне не понять моду.
– Бедняжка Джуд. Так что, с Олли отношения наладились?
– Ну, ты и штучка, – засмеялась Габриелла. – Ничего удивительного, что с Джеком у тебя так получилось. Ты ничего не понимаешь в отношениях между людьми.
Я тоже засмеялась, хоть и была задета. Слушать такие обвинения в свой адрес очень обидно, особенно когда они высказываются прямо в лицо. А она что, все об этом знает?
– А кто понимает? – постаралась я спросить как можно более равнодушно.
– Мы с Олли… поговорили откровенно. Он хочет, чтобы не было проблем. Он постарается быть терпеливее, я постараюсь быть… на высоте, и, может, все и наладится. Но ведь скучно, скучно, скучно. А ты вспомни, как было тогда, в среду! Бедняжка Анжела. Я послала сообщение ей на мобильник, не хотела звонить в дом. Ты, наверное, не знаешь, как она? Пришла в себя? Хочу, если получится, съездить к ней, когда Олли вернется, он снимает.
– Подвернулся заказ? На губах Габриеллы промелькнула улыбка:
– Снимает гвозди и винты для макетного выпуска журнала «Сделай сам».
Ни она, ни я не высказали вслух очевидного: месяц назад он с презрением отказался бы от такой работы. Новость меня обрадовала, но, как всегда в разговорах с Габриеллой, у меня возникло ощущение, что я что-то упустила. Не фарфорового леопарда в натуральную величину, стерегущего ее камин, но что-то не менее значимое.
Однажды Габриелла сказала, что после того, как родила Джуда, она заметила в своей памяти какие-то небольшие черные дыры. И еще повезет, если нужные сведения, закатившиеся в маленькую черную дыру, не канут навеки. Меня не оправдывает, как ее, присутствие ребенка в доме, но мне свойственно то же самое. Можно сравнить с рождественским календарем с шоколадками: все находится за многочисленными дверцами, и если тебе не удастся открыть нужную, то сведения так и останутся спрятанными там. Если повезет, нужная дверца в сознании распахнется в должный момент и появится мысль вроде такой: «Ты пришла в кухню поискать свою чековую книжку» или «Главное, зачем ты приехала в супермаркет, – рулон бумажных полотенец для кухни». В данном случае: «Ты приехала к Габриелле, чтобы обсудить с ней патологию брака своих родителей». Но уж если не повезет, дверца может открыться слишком поздно – когда я уже проехала полпути до банка или стою в середине очереди к кассе…
Когда мы с невесткой уже стояли в ее прихожей, какая-то дверца открылась, ее подтолкнул намек – сказанная Габриеллой фраза: «Он хочет, чтобы не было проблем. Он постарается быть терпеливее, я постараюсь быть… на высоте, и, может, все и наладится».
Можно хотеть быть таким, как твои родители, можно взбунтоваться против родителей, но все равно станешь таким, как они, хочешь того или нет. Я об этом никогда не задумывалась, не хотела. А вот теперь задумалась, и оказалось, что эта проблема решается однозначно. От своих родителей ты никуда не денешься.
Все прошедшие годы я считала, что я, как и моя мать, изменила своему мужу. И вот я слышу слова жены моего брата: «Олли хочет, чтобы не было проблем. Он постарается быть терпеливее, я постараюсь быть… на высоте, и, может, все и наладится», – она ведь повторяет слова Анжелы: «Роджеру всегда было важно, чтобы… мы считали себя счастливыми, даже если мы такими не были».
Теперь у меня был свидетель.
– Габи, – сказала я, – тебе не кажется, что Олли копирует отца в своем желании, чтобы его жена была «на высоте» несмотря ни на что?
– Что ты, Ханна, – она посмотрела на меня с недоумением, – они совершенно разные. – Я безропотно кивнула. И она добавила: – Олли не такой злопамятный, как его отец. Прости, я знаю, ты очень высоко ценишь отца. Но, видишь ли, если твоя мама хоть раз позволит себе даже намек на какое-то не позитивное чувство, Роджер ее тут же заставит замолчать. Он терпеть не может, когда кто-то из вас страдает. Он, видимо, считает, что это плохо для его имиджа. Олли рассказывал, что он был с ней очень жесток после той истории. Наверняка и до нее. Иначе, зачем бы ей понадобилось все это? А Олли не жесток, он сильно отличается от своего отца. В детстве он боялся Роджера. Никоим образом Олли не может стать таким, как он. Только Олли… не может видеть, когда у меня подавленное настроение.
– Ага! – поняла я. – Это верно.
Но, честно говоря, разницы я тут не видела.








