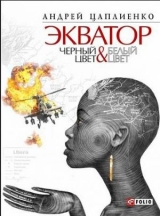
Текст книги "Экватор. Черный цвет & Белый цвет"
Автор книги: Андрей Цаплиенко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 30 страниц)
ГЛАВА 47 – АВГУСТ 2003. ИЗ АФРИКИ
Я всегда мечтал полетать за штурвалом «Геркулеса».
У каждого человека есть сокровенная детская мечта, которая, как правило, остается неосуществленной даже в солидном возрасте. И большого значения не имеет, остался ли мечтатель неудачником или же, наоборот, достиг небывалых успехов. И в том, и в другом случае, мечта остается мечтой. Например, увидев на картинке, ну, предположим, роскошный экземпляр «Бугатти-Руайяль», юный автолюбитель загорается желанием проехаться за рулем этого чуда французского автопрома. Проходит время, юный автолюбитель вырастает и делает успехи. Он становится известным и богатым человеком, перепробовавшим десятки машин. Он в состоянии купить за деньги любую, но так уж случается, что в мире всего несколько единиц «Бугатти-Руайяль». Не стоять же солидному человеку в очереди, чтобы прокатиться на музейном экспонате. Он разумом понимает, что любая машина это всего лишь машина. А мечта, засевшая в нем, не умолкает и все сулит ему чудо необыкновенное, невероятное.
Я думал, что, попросившись полетать на «Геркулесе», буду выглядеть глупо и несолидно. Но теперь вот и просить не пришлось. Вежливые, но настойчивые, парни с квадратными плечами аккуратно взяли меня под локти и завели внутрь самолета через откинутую рампу. Я заглянул внутрь и не увидел ничего особенного. Обычный воздушный грузовик, размером не больше нашего Ан-12. И уж наверняка меньше моего любимого и непревзойденного Ил-76. Впрочем, в любом самолете есть свои положительные отличия. Этот, например, мог взлететь с любой грунтовой полосы. И, кроме всего прочего, с него гораздо удобнее было десантировать грузы и людей. Готовясь к операции в небе Колумбии, мне пришлось заказывать не только платформы для сброса, но и многое другое, что, как я успел заметить, и без того имелось на борту «Геркулеса». В общем, мне пришлось изобретать велосипед, который до меня уже вовсю клепали. Конечно, в Америке.
Правда, на место пилота мне никто не предложил сесть. Для меня было приготовлено откидное сиденье посреди грузового отсека. Мне показали жестом, куда я могу сесть, и, как только уместился на сиденье, квадратные ребята невозмутимо пристегнули обе мои ноги широкими ремнями. Кожа крепко затянулась на оранжевой ткани комбинезона. Потом точно так же мне зафиксировали руки и торс, любезно расправив складки комбинезона на животе и на спине. Впереди у меня было часов десять полета.
Конечно, уйти от погони у меня не было шансов. Они учли все. Включая таксистов. Здесь доносительство было поставлено на очень высокий уровень. Водитель такси сообщил диспетчеру условным сигналом, что добыча у него. А через десять минут нас остановили на блок-посту, якобы для проверки документов. Водитель протянул полицейскому права, и в этот момент меня схватили, скрутили и выволокли из машины.
Дознание было коротким. Меня обвиняли в контрабанде алмазов и торговле наркотиками. С алмазами я еще мог согласиться, а вот на почве наркотиков у меня имелись серьезные разногласия со следователями. Они никак не могли поверить в то, что горка кокаина, лежавшая на журнальном столике у меня в номере, не предназначена для продажи. «Это все Вам?!» – удивился чернокожий следователь, когда я ему попытался объяснить, в чем же было дело.
Прошло всего несколько дней с начала следствия, когда состоялась экстрадиция. Меня, по запросу из-за океана, передали американцам. Они называли меня «большой удачей» и показывали корреспондентам фотографии, на которых я бродил по военному лагерю ФАРК в Колумбии. Значит, у них были среди партизан свои люди. Возможно, они не были подпущены к де Сильве и Маруланде, но свое дело эти ребята знали. Они сумели насобирать достаточно материала, чтобы обвинить меня в содействии террористам и в незаконных поставках вооружения, которое могло быть направлено против американских граждан.
Передо мной отчетливо замаячила перспектива оказаться в комнате с пуленепробиваемым стеклом, за которым группа специально приглашенных зрителей наблюдает, как человек в униформе деловито присоединяет визитеру три капельницы, из которых в организм поступает снотворное и два сильнодействующих яда. А если по какой-либо причине меня оставят в живых, я могу лишь надеяться на долгую спокойную жизнь за решеткой, конец которой может вполне затеряться среди апелляций, повторных судебных заседаний и встречных исков. Во всяком случае, я понимал, что поймавшие меня люди не намерены меня отпускать.
Когда я был намертво пристегнут к своему креслу, ко мне подошел незнакомый человек. Это был белый, лет тридцати, в хорошей физической форме, которую, правда, слегка портил чуть наметившийся живот. Белый наклонился к моему уху и спросил негромко:
– Где контейнер?
Конечно, я понимал, о каком контейнере идет речь. Я вспомнил выражение лица Санкары, когда перевел ему значение выражения «Idite v zhopu», и не удержался от улыбки.
– Какого хера ты улыбаешься, сволочь! – прошипел белый.
– Да, так, – говорю, – представляю, как у тебя вытянется лицо, когда ты услышишь мой ответ.
Белый понял, что я над ним издеваюсь, выпрямился и направился в кабину пилота. Через полчаса мы были уже на высоте десять тысяч метров.
Григорий Петрович Кожух был арестован в Дубае, в тот же день, что и я, только на несколько часов раньше. Его девушка из Судана не умела говорить. Зато выяснилось, что она достаточно хорошо читала. И писала. Эти знания ей пригодились для того, чтобы тщательно фиксировать все, что было на бумажках, разбросанных на его рабочем столе. Свою работу она делала по ночам, регулярно не досыпая. Но избыток ее усталости был, в конце концов, хорошо оплачен полицией. Девушка нуждалась в деньгах, поскольку была единственной кормилицей своей большой семьи.
Сам Григорий Петрович не дотянул даже до первого допроса. Его сердце внезапно остановилось, когда он заметил, что в комнате дознавателя присутствует стенографистка. Я подумал было, что Петровичу помогли расстаться с жизнью, но потом понял, что это не так. Старик слишком разнервничался. Он очень боялся, что вся эта история станет известна его жене, особенно щекотливый эпизод с молоденькой девушкой-уборщицей. Его не тюрьма пугала, а огласка.
Плиев... Был ли Плиев в курсе всех тех хитроумных схем, с помощью которых меня, как бильярдный шар, загоняли в лузу? Не знаю. Установить это теперь уже невозможно, несмотря на могущество тех, кто играет на этом бильярде. Казбек был под фрахтом. Из Африки он летел в Индию, с одной посадкой на дозаправку в Эмиратах. Его ждали в Шардже, но безуспешно. Плиевский «Ил» рухнул в Киншасе прямо на местный рынок. Сразу же после взлета. Что послужило тому причиной, установить не удалось. Да, собственно, никто в этом и не хотел разбираться. Во всяком случае, зная Казбека, я сомневаюсь, что всему виной человеческий фактор.
О Журавлеве я больше ничего не слышал. Но почему-то я думаю, тот выстрел, звук которого я уловил в гостинице, предназначался ему. Так обычно убирают тех, кто слишком много знает. Залог безопасности любого журналиста это его публичность. Не носи в себе чужие тайны, и будешь жив. Сергей – так мне думалось, пока я сидел в брюхе «Геркулеса», – решил подработать. Освоить еще одну профессию. Но она давала доступ к тайнам, которые кто-то постарался скрыть с помощью нажатия курка. Одно не укладывалось в это предельно ясное объяснение. Сергей несколько раз спас мне жизнь. И даже больше. Он попытался подарить мне свободу, даже не думая о том, что вскоре произойдет с ним самим. Выходит, несмотря на свою работу, он был моим настоящим другом. Единственным настоящим другом.
Меня высадили на одном из островов в Карибском море. Я это понял по влажному воздуху и неповторимому, ни с чем не сравнимому запаху водорослей, который доносился с берега до моей тюрьмы. Она была небольшой, всего на пару сотен заключенных. К тому же, камер, в понятном для обывателя виде, здесь не было. Только клетки, со всех сторон открытые солнцу и ветрам. Сидя в своей клетке, я чувствовал себя оранжевым попугаем, забытым хозяйкой на окне. Сходство с говорящей птицей усиливало и то, что целую неделю, по несколько часов в день, мне задавали один и тот же вопрос:
– Где контейнер?
Я про себя решил, что как только назову координаты, то сразу же перестану быть интересным моим визави, и меня тут же скормят прожорливым карибским рыбам. Становиться рыбьим кормом я не хотел. Поэтому только слушал и молчал. Через неделю дознаватели сломались. На их месте я бы просто избил в кровь столь строптивого заключенного. Или поджарил на электрогриле. Но мои, если можно так сказать, собеседники почему-то не решались меня бить. Хотя зеков из соседних камер-клеток частенько уводили на допросы, после которых они возвращались с синяками и следами крови.
После семи дней в этой странной тюрьме я отупел, но не утратил волю к сопротивлению. Перед тем, как снова посадить меня в самолет, мне выдали новую робу, синего цвета, и сказали «Гет йор эсс аут оф хир!». Мол, убирайся. Сам я убраться не мог, поскольку и на ногах и на руках у меня были надеты весьма неудобные блестящие цепи. Вместе с ними меня подняли на борт самолета – это, кажется, снова был «Геркулес», – и довезли до материка.
На материке климат помягче. Впрочем, какое мне дело до погоды, если на улице я бываю всего один раз в день, в одно и то же время, с четырнадцати до пятнадцати, да и то выводят меня на прогулку в небольшой квадратный дворик, сплошь огороженный бетоном. Надо мной голубое небо, расчерченное на квадраты стальными прутьями, и всякий раз, когда я поднимаю голову вверх, то слышу грубый окрик. Тогда я снова опускаю взгляд и внимательно рассматриваю серый бетон в поисках новых, еще не изученных мной, неровностей.
ГЛАВА 48 – МАЙ 2007. «ПОЛОНСКИ».
Я постарался забыть координаты точки сброса. И у меня это поначалу получилось. Но тут со мной произошло удивительное событие.
В мою камеру зашел человек в форме и предложил следовать за ним. Мне надели на ноги цепь и завели руки за спину. Я вышел в гулкий коридор и зашагал, гремя цепью, по дырчатому полу стальной галереи, протянувшейся вдоль одиночных камер по периметру всего здания. Мне показалось, что сейчас снова будет допрос. Правда, раньше меня всегда допрашивали в камере, но что это меняет, если у них, у дознавателей, поменялись правила? Мы дошли до металлической лестницы с перилами. Охранник скомандовал спускаться вниз. Я, не торопясь, пошел туда, куда вели гулкие ступеньки.
Вскоре дошли до первого этажа. Надзиратель приказал остановиться и приложил карточку к замку на двери. Электронное устройство щелкнуло. Дверь открылась. Я зашел внутрь и оказался в комнате, в которой из мебели имелся только высокий стул. Мне сразу стало ясно, что стул наглухо привинчен к полу. Он стоял довольно близко от перегородки, нижняя часть которой была металлической, покрашенной в серый цвет. А верхняя прозрачная, из очень толстого стекла. Все это напоминало рабочее место продавца билетов в кассе, только, разве что, в прозрачной перегородке не было окошка для билетов. Телефонная трубка, висевшая тут же, делала сходство с билетной кассой немного комичным. Мне сняли наручники и позволили сесть на стул. «Что дальше?» – спросил я. «Ждите,» – довольно флегматично ответил надзиратель. Он остался со мной в комнате. Я стал ждать.
За стеклом стены были выкрашены в тот же цвет, что и на моей стороне. Вращающийся стул ничем не отличался от моего сидения и тоже был наглухо привинчен к полу. Пол с той стороны был так же истерт тысячами башмаков, как и с этой. А еще и черная телефонная трубка. Такая же точно, как и моя, которую от нечего делать я снял и принялся внимательно осматривать. Она была липкой от многих касаний заключенных и, кажется, слегка теплой, как будто на моем месте только что сидел другой человек, и за минуту до моего прихода он закончил разговор с посетителем. Да, с той стороны висела такая же трубка. Все там было так же, как и здесь. Казалось, посади туда другого меня, и перед мной будет зеркальное отображение моей реальности. И все же, по неуловимым признакам, я заметил, что там, на той стороне, совсем другая жизнь. Может быть, потому, что за моей спиной стоял охранник, а там его не было. А, возможно, мне просто захотелось прорваться сквозь барьер и хотя бы одним глазком посмотреть, а какая она сейчас, свобода? Впрочем, вызов в комнату свиданий только усложняет жизнь в тюрьме. Ты привыкаешь к жизни под замком, а визитер мешает тебе выработать правильную привычку. Но, поскольку посетители ходили ко мне нечасто, а, вернее, никогда, я согласился провести один час перед пуленепробиваемым стеклом.
Когда я увидел человека на той стороне, мне захотелось во что бы то ни стало пробить это стекло. Но это чувство накатило после. А сначала я онемел и оцепенел. Я не верил своим глазам. Да и как мне было поверить, когда на казенном стуле перед собой я увидел того, кого считал погибшим за тысячи километров отсюда.
Вернее, погибшей. Напротив меня, улыбаясь, сидела потрясающей красоты девушка с жемчужными зубами. Она была в белой блузке, и кружевная ткань была натянута на груди так сильно, что, казалось, нежная плоть, срывая пуговицы, готовится вырваться на свободу. Улыбка была робкая и слегка растерянная, к такой очень пошли бы слегка зардевшиеся щеки. Но шоколадная, почти черная, кожа девушки не умела краснеть. Это была Маргарет.
Она приложила трубку к уху и знаками попросила меня сделать то же самое. Я вышел из оцепенения и взял в руку черный исцарапанный пластик.
– Здравствуй, Андрей, – сказала трубка голосом Мики, чуть с запозданием: когда полные губы с той стороны стекла сомкнулись, голос в динамике все еще был слышен. Мне кажется, сигнал проходил через какую-то контрольную аппаратуру и прослушивался специально обученными людьми.
«Он возле Вас, так близко, как никто другой из ныне живущих.»
А, может быть, тогда, в Абиджане, Рауль сказал не «он», а «она»? Тени прошлого часто говорят невнятно.
– Здравствуй, – сказал я. – Как мне тебя называть?
В тюрьме иначе читаешь газеты. На воле ты выхватываешь в печатных текстах самое главное, чтобы не засорять голову лишней информацией. В камере ты читаешь все, что тебе разрешают, до последней строчки. До последней буквы, часто непроизвольно запоминая тексты наизусть. Даже если это бессмысленные объявления, рекламы или напечатанные мелким шрифтом извинения редакции за неточности в статьях. Газеты это связь с реальностью по ту сторону пуленепробиваемого стекла.
В «Нью-Йорк таймс» я прочел небольшое объявление: «Нью-йоркская ассоциация либерийцев Мандинго собирает добровольные взносы для миссионерской школы и госпиталя в городе Ганта.» Сначала я ухватился за слово «либерийцы». Потом сознание переключилось на название города. Именно в Ганте я последний раз виделся с Казбеком Плиевым, когда вместе с отрядом малолетних боевиков выкладывал для него взлетно-посадочную полосу из стальных листов. Я вспоминал Ганту и все наши злоключения в тылу у рэбелов и вдруг обратил внимание на вебсайт этой ассоциации. После трех одинаковых букв, означавших всего лишь мировую паутину, я прочел до боли знакомое слово. Limany.com было написано под объявлением. Лимани. Для меня это слово звучало, как рокот винта вертолета и вой ракеты, устремленной в разноцветный борт. На самом же деле, все было иначе. Li-berian Ma-ndingos of «N-ew Y-ork». Не больше и не меньше. Совпадений быть не могло. Фамилия Маргарет была списана с названия веб-сайта. Она ведь и сама Мандинго. А имя?
– Вот как. Уже знаешь? – спокойно удивилась она.
– Просто читаю газеты, – улыбнулся я.
Она разглядывала меня через толстое стекло так, словно ощупывала взглядом в поисках новых морщин. Овал лица тот же, ну, разве что похудел. Мешки под глазами меньше не стали, но, в целом, не мешают приятному впечатлению. Что-то изменилось, наверняка думала Маргарет. И не сразу сообразила. Эндрю сбрил усы.
– Ну, ладно, Энди, зови меня, как раньше. Мики. Звучит задорно, не правда ли?
Я кивнул головой в знак согласия.
– Не хочешь узнать, зачем я пришла?
Я шевельнул плечами. Если захочет, то скажет сама.
– Я не могу жить во лжи. Моя работа... – она вздохнула, замолчав, и тут же продолжила. – Для меня придумали очень убедительную историю жизни, в которую я и сама сумела поверить. Иначе было невозможно. Но теперь работа закончилась. Я выхожу в отставку, начинаю новую жизнь. И хочу, чтобы все было с чистого листа. С чистого, понимаешь, а не в пятнах?
– По-твоему, я это пятно? – с плохо скрытым сарказмом спросил я.
– Если ты и был пятном, то самым светлым в моей жизни, Эндрю, – серьезно сказала она.
– Как ты выжила? – вырвалось у меня. – Ты же была в том вертолете!
– А, «Бриджстоун», – словно вспомнила она. – Нет, меня там не было. Мой босс попросил меня остаться.
– Твой босс? Тайлер?
Мики засмеялась, но не издевательски, а, скорее, успокаивающе. «Ну, что же ты у меня такой глупыш?» – сквозил в ее смехе риторический вопрос.
Вскоре я знал все, – или почти все, – что хотел узнать. Мики уже давно работала в Управлении. С тех самых пор, как ей предложили стать подругой Тайлера. О лучшем информаторе здесь, в Штатах, и не могли мечтать. Меня ей поручили в разработку случайно. Другого, более достойного, чем Маргарет, сотрудника в Либерии у могущественной конторы просто не оказалось. Обширное досье на меня имелось в архивах целых двух упрямых организаций. Одна это ATF, бюро по контролю торговли алкоголем, табаком и стрелковым оружием. А другая это управление по борьбе с наркотиками, сокращенно, DEA. Так уж вышло, что интересы обеих сошлись на мне. Ну, а Центральное управление разведки состряпало из этих двух досье дело о террористической деятельности, которую я вел против Соединенных Штатов. Конечно, в терроризме меня решили обвинить уже после того, как я сбросил в Тихий океан три контейнера с бомбами. Которые они же, эти сверхмудрые Джеймсы Бонды, мне подсунули, чтобы начать войну в Ираке. А заодно и развязать себе руки в Колумбии. Отличный, согласитесь, повод: Хусейн отправляет партизанам химические бомбы! Эх, правильно я рассуждал тогда в небе над Колумбией. По-другому и быть не могло. Единственное, чего я тогда не знал, – да и не мог знать, – это то, что везу абсолютно весь скудный запас иракского оружия массового поражения. Полностью. Но в Ираке эти парни начали свою войну и без него.
– Колумбийцы сами не знали, чего хотели. То ли убить тебя, то ли получить назад свои деньги. Ты же знаешь, они сильно на тебя потратились, – засмеялась Маргарет. Похоже, она была в курсе моего латиноамериканского контракта на три миллиона.
Но ничего смешного я в этом не видел. Маргарет сама напросилась к колумбийцам. Им нужен был хотя бы один влиятельный и не слишком заметный человек в Либерии. Им она пообещала найти меня. И нашла. Славная арифметика получается: ее услуги оплачивали колумбийские партизаны, а главный приз, то есть я, достался американцам. Думаю, большие люди в Управления выдали ей двойную премию. Такой работник, как Мики, просто на вес золота. И задание выполнила, и бюджетные деньги сэкономила.
Я, Андрей Шут, нужен был им только для того, чтобы найти ящики. Об этом мне сообщила голосом Мики телефонная трубка. Об остальном она так и не сказала, но я и сам давно догадывался. Как только я назову координаты точки сброса, они меня спишут со счетов. Пошлют свои подлодки, достанут контейнеры. А меня отправят в расход. И не спасет меня тогда ни это пуленепробиваемое стекло, ни выучка здоровенного охранника, который сейчас стоит за спиной. Впрочем, может, ему-то как раз и поручат деликатное дело.
– А Журавлев? – поинтересовался я, прервав ее рассказ.
– Сергей, – грустно произнесла она. – Жалко его. Правда, жалко.
Значит, тот звук в «Интерконтинентале» и впрямь был пистолетным выстрелом.
– Мы хотели, чтобы ты занервничал. И начал совершать ошибки. Поэтому мы подсунули ему обложку колумбийского паспорта. Я подсунула. И подсказала ему варианты, как лучше спровоцировать тебя.
– Когда это было?
– В тот день, когда вы вдвоем оказались у меня.
– В тот самый день?
– В тот самый день. После того, как ты ушел от меня.
Помнится, это было тогда, когда мне предложили сдать Тайлера. За алмазы. И тут я догадался, или, пожалуй, не догадался, а просто сдуру брякнул. И попал в десятку.
– Ты с ним переспала.
Она нисколько не растерялась.
– Да. А как еще я могла убедить его?
В ее вопросе почти не было раздражения. Она и в самом деле хотела быть уверенной в том, что выбрала единственно правильное решение. Мы молча глядели друг другу в глаза. Она первая не выдержала и отвела взгляд.
– Он репортер до мозга костей. Такого, как он, можно держать только за яйца, – призналась Мики. Я хотел спросить ее, почему подобным образом можно управлять только репортерами, но спросил ее совсем о другом.
– Ты приказала ему вернуть паспорт?
– Да, но ты не отдал. И мой босс, куратор, потребовал, чтобы я воздержалась от встреч с Сергеем в твоем присутствии.
Она достала из сумочки кусочек красного дермантина. У меня его забрали в Абиджане, когда обыскивали мой номер в гостинице. Обрывок обложки колумбийского паспорта был сделан в Штатах. Теперь я ни минуты не сомневался в этом. Кто его знает, а, может быть, и сам Рауль де Сильва, могущественный партизанский банкир, был их агентом? Только об этом мне уже не узнать. Ну, разве что, накатить йагге с кокаином и расспросить самого Рауля в том мире, где он существует в своей последней реальности. Впрочем, здесь, в тюрьме «Полонски» с максимальным уровнем безопасности, это было исключено.
– Сюрприз, – улыбнулась Мики, помахав обрывком паспорта. – Хочешь, оставлю? На память?
– Ты мне уже оставила, – хмуро напомнил я ей о подарке.
Она удивленно подняла брови. Я запустил руку за пазуху и достал оттуда кулон с многорукой Лакшми. Мики чуть качнула головой.
– Это кулон моей мамы.
– А папа, надо полагать, это персонаж индийского фольклора?! Как там его? Раджив, э-э-э, Ли-ма-ни? – и опять я сорвался на сарказм.
– Не совсем, но, в целом, ты...
– «Но, в целом, ты прав, Эндрю»?
– Да, ты прав, Эндрю.
Маргарет встала, чуть расправив плечи и прогнувшись в пояснице, затекшей от сидения на неудобном стуле. Она, кажется, сегодня одела блузку, похожую на ту, которая была на ней на второй день нашего знакомства. И первый день нашей любви.
– Я оставлю это охране. Тебе обязательно передадут.
Она развернулась и направилась к двери. Ее трубка уже висела на рычаге, когда я постучал в стекло. Охранник за спиной было рванулся ко мне, но я ему кивнул, – мол, порядок, босс, не волнуйся, – и он вернулся на свое место. А, может, его остановил уверенный и хозяйский взгляд Маргарет.
– Скажи, Мики, – задышал я в трубку, подбирая нужные слова. – А ребенок? Я хочу спросить о том, о чем ты мне тогда говорила. На вилле, и потом, на корабле.
Нужные слова никак не хотели подбираться. Ладонь стала влажной. Трубка едва не выскользнула из руки.
– Что, Андрей, ты еще хочешь знать?
– Правда? – почти безнадежно шептал я, едва сдерживая клокотание слез в горле. – Это правда?
Она подошла к стеклу и прислонилась к нему лбом. Кончик ее носа смешно сплющился. Она, понимая, что выглядит забавно, улыбнулась. Улыбка была адресована не мне, а той части меня, которая сейчас для нее важнее всего на свете. И для меня то существо, которому она улыбалась, внезапно стало важнее, чем я сам. И мне стало необыкновенно хорошо просто оттого, что это существо есть, пусть оно не знает меня, и никогда не узнает. Но я знаю, что оно это моя плоть, поэтому я счастлив.
– Правда, – услышал я в трубке ее голос. Сейчас он звучал так же тихо, как и на корабле, в ночь перед моим отплытием. От звуков ее голоса я почувствовал, словно фантомную боль, тепло ее ладоней на своем теле. На плечах и на груди. Теплые прикосновения сбежали к животу, и даже еще ниже, а потом превратились в комок слез и подкатили к самому горлу. Я был счастлив.
– Кто? – спросил я ее. Трубка повисла в моей руке. Мики, с той стороны, могла только по губам прочитать мой вопрос. Она опустила руку. Теперь стекло больше не мешало нам чувствовать друг друга.
Она произнесла одно лишь слово. Короткое и нежное. Главное слово в ее жизни. И в моей. Я прижался лицом к поверхности стекла, так, словно надеялся растопить его пуленепробиваемость жаром своих слез. Она коснулась губами стекла, словно поцеловала меня в губы и, достав из сумочки гильзу с губной помадой, быстро написала на прозрачной перегородке «uoY эvol I». Буква Y была написана, как заглавная. Совсем не по-английски.
Мики поставила в конце три восклицательных знака и выбежала прочь. Но для меня фраза-перевертыш начиналась именно с них. С моей стороны вообще все выглядело иначе.
*****
«Ну, теперь, кажется, все, Андрей?» – спрашиваю я себя. Я и раньше ничего в жизни не боялся. Точнее, почти ничего, если быть честным. Почему? Да, наверное, потому, что не знал, ради чего я живу на свете. Ради чего мы все живем и барахтаемся в этой жизни. И я считал, что буду молодым и живучим до тех пор, пока меня будет вперед толкать любопытство. То есть, очень долго, практически, вечно. Вечность закончилась. Но тогда скажите, если сможете: что остается человеку, который давно изучил все неровности и царапины на крашеном бетоне тюремной стены? Только одно. Рассказать, где лежат иракские контейнеры.








