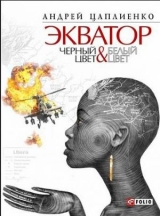
Текст книги "Экватор. Черный цвет & Белый цвет"
Автор книги: Андрей Цаплиенко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц)
РОМАН «ЭКВАТОР. ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ&БЕЛЫЙ ЦВЕТ»
ОТ АВТОРА
Люди и события, описанные в этой книге, являются вымышленными. Возможное совпадение имен героев с именами действительно существующих людей случайно. Реальными прошу считать только Западную Африку, Амазонию и Ближний Восток. Они действительно такие, какими их увидел главный герой. И какими однажды увидел их я. Мой друг, журналист Сергей Потимков, прочитал мне как-то свое стихотворение, из которого мог бы получиться отличный эпиграф:
Качались белых туч султаны,
И луч печальной тишины
Открыл мне тайну – эти страны
Мы не полюбим без войны.
Но эпиграф к чему? У этого романа свои эпиграфы, и я не вправе их менять. Знаете, почему? Потому что придуманные тобой герои начинают жить своей жизнью. Не ты пишешь диалоги. Они сами ведут свой разговор посредством твоей руки. Тебе кажется, что ты придумываешь сюжетную линию, а она, вопреки твоему желанию, сама складывается в причудливый запутанный вензель. Потому что это не линия сюжета, а линия судьбы. Героев.
Герои. В этой книге они совершают героические поступки. А потом, – сразу же после того, как! – с легкостью превращаются в подонков. «Так не бывает,» – возможно, скажете вы. Бывает. Черный цвет, встречаясь с белым, всегда рождает серый. Зеркало, в которое вы смотрите, некому протереть до идеальной чистоты.
После первой своей командировки в «настоящую» горячую точку мне показалось, что я понял все о войне. Как журналист. Психолог. И стратег. Стратегия оказалась доморощенной. Психология – надуманной. Десять лет спустя я внезапно почувствовал, что о войне ничего не знаю. Потому что истинное благородство чувств и поступков – там! – я встречал у людей, которые в мирной, спокойной, обстановке были подонками и негодяями. А общепризнанный пример для подражания как-то быстро терял в зоне боевых действий все свои положительные качества. Грязь и гниль никогда не бывает черной. Только серой.
Я писал эту книгу от случая к случаю. Иногда терял к ней интерес. А иной раз стучал по клавишам изо дня в день. Я же говорю: герои начали жить самостоятельно и сами вели свою историю туда, куда им заблагорассудится. У меня на глазах они жестоко сражались друг с другом, торговали оружием и алмазами, бросались миллионами и тряслись над грошами. И любили друг друга – так откровенно, что от неловкости хотелось отвернуться. Но мне пришлось досмотреть их историю до конца. До последней строчки. Впрочем, военные люди, а также путешественники и авантюристы всех мастей, никогда не говорят «последней», но только «крайней». Я не предал своих героев. И хочу, чтобы до крайней – крайней! – строчки вы тоже оставались с ними.
С уважением к своим читателям и своим героям,
Андрей Цаплиенко
ГЛАВА 1 – С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Департамент криминальной юстиции,
Отдел исправительных учреждений,
Исправительное учреждение «Полонски» с максимальным уровнем безопасности,
Южный Ливингстон, Техас, США
Список личных вещей заключенного №000981:
1) Перстень мужской желтого металла с прозрачным камнем, грубой обработки, ориентировочная стоимость н/о;
2) Медальон нагрудный круглый, желтого металла, диаметр 3 (три) см, ориентировочная стоимость н/о;
3) Книга иллюстрированная, название «Полная энциклопедия современной авиации», автор Дональд Дэвид, язык английский, ориентировочная стоимость $34,73;
N.B. Закладка на главе «Локхид Си-130 Геркулес» в виде обрывка дермантина прямоугольной формы, цвет красный, с надписью на испанском языке;
4) Коробка из под сигар «Hoyo de Monterrey», производство Куба, ориентировочная стоимость н/о;
5) Рукопись, 325 (триста двадцать пять) стр., формат А4, ориентировочная стоимость $3,57, определена по стоимости канцелярской бумаги, использованной заключенным.
Старший надзиратель: Тим СаммерсРегиональный директор: Роберт Тревор
“Theirs not to make reply,
Theirs not to reason why,
Theirs but to do and die”
«Без лишних желаний,
И самокопаний,
Солдаты за дело идут умирать.»
Альфред Тэннисон, «Атака легкой кавалерийской бригады», 1854
“Tu cries ‘peace’, tu cries ‘love’
En brandissant ta Kalachnikov”
«Ты кричишь „мир“, ты кричишь „любовь“,
Ну, а в руке твоей „калашников“»
Альфа Блонди, «Любовь по-калашниковски», 1990
Я никогда не задумывался над этим вопросом, потому что на это просто не было времени. И только сейчас, когда я оказался лишен возможности действовать, я принялся вспоминать. И вспомнил ту ключевую фразу, и даже ту интонацию, с которой произнес ее Леша Ломако:
– Целься в яйца! Стреляй в пах!
Неужели это и было началом всего?
«В голову попасть трудно,» – пояснял Алексей, только-только вернувшийся из какой-то секретной дальней арабской страны. – «В сердце бессмысленно. Получив пулю в сердце, человек может еще некоторое время бежать и стрелять. Тебе ведь главное не убить врага, а обезвредить его. Поэтому целься в яйца.»
Предельно простое объяснение, изложенное ровным тоном. Ну, может быть, не совсем ровным, ведь я был в наушниках, а под ними, в ушах, еще гудел грохот пистолетных выстрелов, минуту назад многократно отраженный бетонными стенами стрелкового тира.
Это был самый обычный тир, стоявший посреди парка на окраине рабочей слободки. Зимой в тире было слишком холодно, летом – жарко. С первым снегом на огневом рубеже зажигались газовые обогреватели, которые недовольно шипели всякий раз, когда завхоз подносил к ним спичку – только так их можно было зажечь. Но мощности газовых горелок явно не хватало. Рубеж бойницами выходил на огневую зону. Она находилась под открытым небом, и холодный ветер заносил обрывки холода и снегопада в окошки бойниц, срывая фанерные заслонки. Благословенные и спокойные семидесятые были в самом разгаре. Молчаливый и ленивый апогей застоя уже разметил будущее всех и каждого, наполнив воздух недоговоренностью военных тайн. И одной из этих тайн – для меня, во всяком случае – был Леша Ломако, тренер по стрельбе.
Однажды нам, бесцельно шатавшимся по городу семиклассникам, захотелось подержать в руках настоящее оружие. По этому поводу мы забрели в стрелковый клуб на окраине. «Дадите пострелять?» – спросили мы на входе. «Дадим, чего ж не дать,» – ответили нам. – «Но только сначала надо записаться.»
Очень скоро мне стало понятно, что стрелковый спорт ничего общего с романтикой не имеет. Тяжелый пистолет нужно научиться держать как влитой, затаив дыхание и выжидая момент, когда указательный палец может начать свое плавное движение, вопреки сопротивлению курка. Сейчас будет выстрел, говорит тебе внутренний голос, и сердце начинает учащенно биться. Но вот этого как раз и не нужно делать, в смысле, обращать внимание на провокации своего испуганного естества. А внутри металлического зверя весом всего девятьсот десять граммов в этот момент происходят удивительные вещи. Начинает работать самая простая и совершенная механика в мире. Спусковой крючок с усилием тянет за собой шептало, и вот-вот, сорвавшись, стальной спуск нанесет внезапный мощный удар по капсюлю. И патрон расколется надвое. Свинцовая пуля помчится по черному круглому тоннелю, четко следуя нарезке, как вагонетка в шахте бесконечным рельсам. Только, в отличие от вагонетки, для пули тоннель ствола очень быстро кончается, за тысячные доли секунды. Она, вращаясь, вылетает на свободу и следует к своей цели, а затвор вместе с рамой движется в обратную сторону, выбрасывая отстрелянную гильзу и тут же устанавливая на ее место новенький хорошо смазанный патрон.
Большинству моих сотоварищей очень скоро наскучил тир и рутина строго регламентированного обращения с оружием, которое можно направлять исключительно в сторону круглой мишени на расстоянии двадцати пяти метров от стрелка. Лучше уж погонять мяч по зеленому футбольному полю. Или подраться в парке с ровесниками из поселка Артема, они часто с риском для здоровья забредали на нашу территорию. Ну, а у меня не складывалось, ни с футболом, ни с драками. Я был круглым, – почти как футбольный мяч – толстеньким маменьким сынком, да еще и с дурацкой фамилией Шут. Надо мной смеялись, и, что самое обидное, смеялись девчонки. Несложно догадаться, какое именно прозвище я мог получить с такой фамилией.
За глаза меня называли Клоуном, и это прозвище очень прочно приросло ко мне в школе, отчасти еще и потому, что я был стеснителен, рассеян, часто говорил невпопад и, соответственно, как коверный в цирке, попадал в разные забавные ситуации. Забавными они, впрочем, были для сторонних наблюдателей. А для меня они были полны страданий, моральных и физических. Мой бутерброд всегда падал маслом вниз, никогда не нарушая закон Мэрфи. И сам я, поскальзываясь зимой на замерзших лужах, – их у нас метко называли «скользанки» – летел носом вниз. В отличие от своих более удачливых «корешей», набивавших о жесткий лед только мягкие части тела.
Сдавленный возглас, мокрый хлопок, и на льду оставалась красноватая липкая клякса. Я падал. Они смеялись. Но на них я никогда не обижался, потому что в их смехе не было злорадства. Моей безобидной неловкостью по-настоящему наслаждались те, кто был старше меня. И, соответственно, имел гораздо больше прав.
Учителя, вызывая меня к доске, как мне казалось, всегда ехидно улыбались, произнося мою фамилию. Обычно это происходило так. Наш учитель истории Игорь Арнольдович Бевза, человек с безволосым лицом, очень похожим на маску Фантомаса, поднимал меня с места окриком «Шут, к доске!». Юля Семенова, наша первая красавица и отличница, тут же откликалась своим нежным голоском «Клоун, на арену!» Класс дружно смеялся. Всем было очень весело. Кроме меня. Игорь Арнольдович и не думал останавливать внезапный приступ веселья, и даже сам ухмылялся безгубым ртом. Именно он был моим обидчиком, а не красивая малолетняя дурочка. Он уничтожал мое достоинство с помощью моих одноклассников, сам умывая при этом руки. Тогда я это еще не мог понять разумом, и только в глубине души чувствовал, беспричинную, как мне казалось, ненависть к учителю. Мне его очень хотелось ударить. Я ведь не трус и драки не боялся даже тогда, в шестом классе, когда я совсем не умел драться. Но вот с особями противоположного пола я не мог воевать никогда. Никогда не мог поднять руку на женщину, даже в столь юном и вредном возрасте. Я бы набросился с кулаками на историка, потому что в глубине души понимал: это именно он провокатор и это он хочет унизить меня. Но он так и оставался безнаказанным, пользуясь привилегией своего возраста и положения. В общем, расстроенный, растерянный и нервно раскрасневшийся, шел я к доске и произносил вслух явные исторические глупости, невольно подтверждавшие правоту Семеновой.
Как выяснилось, она их даже записывала в свой блокнотик, и на выпускном вечере, выпив бокал портвейна, прилюдно озвучила. Все их не помню, одна только врезалась в память: «Войска Степана Разина успешно шли на Москву, пока не встретились с регулярными частями Красной Армии.» Да, весело. Думаю, что сейчас я вполне смог бы в кратчайший срок обеспечить все войско Степана Разина наилучшим вооружением по самым низким ценам, и тогда хрен бы кто его остановил. Даже Красная Армия.
Очень жалею, что тогда я не умел драться. С детства занимался музыкой, которую безумно не любил. Почти все свободное время, которое оставалось после пытки черно-белыми клавишами, моя мама распределяла поровну между английским, французским и немецким языками. Эти занятия я с детства считал бесполезными и, даже более, вредными. Особое отвращение вызывал у меня немецкий. Потом уже, повидав многое в этом мире, я понял, что это было сродни отвращению на генетическом уровне. Видимо, очень не любил немцев мой дед, отсидевший в немецком лагере для военнопленных где-то под Львовом, бежавший к своим, и потом, в конце войны, въехавший на своей «тридцатьчетверке» в Берлин.
Впрочем, много лет спустя я вынужденно признал, что моя мама все делала правильно. Пускай она ошиблась насчет музыки, и второго Рахманинова из меня не вышло, зато я первый и единственный в своем роде. Андрей Шут стал тем, кем он есть, во многом благодаря тому, что в моей голове нашлось место и функциональному конструктивизму английского, и грассирующей изысканности французских фраз, и даже длинным и неуклюжим, похожим на сороконожек, немецким словам.
Ну, а по поводу драк дело обстояло так. Чтобы обрести мужское достоинство, я начал постоянно ввязываться в какие-то стычки и постоянно бывал крепко битым. Меня сбивали одним ударом под дых. В первые же минуты конфликта. Били кулаком по голове. Ставили подножку и потом наваливались всем гуртом на мое толстое беззащитное тело. Но эффектнее всего меня сбивал с ног прямой короткий удар в переносицу. Нос мой всегда был слабым местом, он предательски не держал удар, и получив его, я стремительно падал наземь, даже раньше, чем, собственно, вязкие красные капли из моего носа.
Всем тем, кто выходил победителем из драк, стрелковый клуб скоро наскучил. И я у молодого тренера Леши Ломако остался один. Он первый из всех моих знакомых взрослых не стал смеяться над моей фамилией.
«Шут – это хорошо,» – сказал он, записав ее в журнал стрелкового клуба. – «„Шут“ это по-английски означает „стрелять“. Значит, на роду тебе, Андрюша, написано быть стрелком.»
Он ошибся. Стрелком я по-настоящему так и не стал. Я любил оружие так, как любят зверей в зоопарке. Восхищаясь грацией хищника с безопасного расстояния. Для того, чтобы стать настоящим стрелком, этого недостаточно. Но зато моих знаний об оружии вполне хватило для того, чтобы освоить профессию Мальчиша-Плохиша, который подносит буржуинам патроны. Могу похвастаться лишь только тем, что я лучший Плохиш на этой планете.
Я очень быстро полюбил этот ни с чем не сравнимый запах сгоревшего пороха и разогретого масла. Мне так нравилось после каждой тренировки разбирать черный небольшой пистолет и любоваться его совершенным строением. А потом смазывать вороненые детали ружейным маслом из небольшой масленки с дутыми жестяными боками. Масло текло по всем черным пазам и выступам разобранного оружия, а потом в эти пазы входили совершенно безобидные по отдельности детали, которые потом, в сборе, становились очень опасным инструментом, способным отнять жизнь. Но об этом нам даже и думать запрещалось. "Вы должны лишь только класть пули в цель. Это спорт, а не война", – говорил нам всем директор спортшколы, фотография которого с бесконечной красной дорожкой спортивных наград на груди помещалась в коридоре при входе в клуб. Леша Ломако это тоже часто слышал. В такие моменты лицо его становилось словно каменным. А однажды после очередного начальственного инструктажа он попросил меня остаться. Когда спортклуб опустел, Леша повесил на огневой рубеж совсем не спортивную мишень. Я такой еще не видел. Мишень была в полный рост, но на ней был изображен не схематичный силуэт, а вполне конкретный человек с сердитым выражением лица и пистолетом в правой руке. Судя по маркировке, мишень была импортной. Бумага в два раза плотнее нашей.
– Это полицейская мишень. Американская. Подарок. А вот и самое главное.
Было девять вечера. В тире, кроме нас, остался только сторож. Леша из спортивной сумки вытащил нечто необычное. Пистолет. Но не спортивный. Спортивный по сравнению с ним выглядел, как «Запорожец» рядом с «Роллс-Ройсом». Его ствол был в два раза длиннее наших стандартных стволов, он напоминал револьверы из ковбойских фильмов, и, к тому же, это чудо инженерного гения оружейников было покрыто слоем сияющего хрома. «Калибр нестандартный, миллиметров десять, не меньше,» – прикинул я.
– Попробуй, – сказал Леша. – Удержишь?
Я взял его в правую руку. Она тотчас же ушла вниз – в пистолете было не меньше полутора килограммов металла. Желтые капсюли патронов глядели на меня из стального барабана. Револьвер был заряжен.
– Подключай левую. Это не спортивное оружие, тут нужно все делать немножко по-другому.
Леша взял револьвер у меня из рук.
– Смотри внимательно. Берешь в две руки. Правой за рукоятку, левой поддерживаешь снизу. Руки расслабленные, оружие в них себя чувствует, как автомобиль на новых амортизаторах. Стойка свободная, ноги чуть полусогнутые.
Ломако встал к рубежу и показал мне все это наглядно.
– Понял?
Я кивнул.
– Дальше все как на обычной тренировке. Жесткий спуск, поэтому сначала нажимаешь с импульсом, а дальше плавно дожимаешь курок. Выстрела не ждешь. Он будет громкий, но тебе понравится.
Словно иллюстрируя свои слова, Леша плавно давил на спуск. Я смотрел, как его указательный палец медленно, но очень уверенно заставлял двигаться спусковой крючок. И тут раздался выстрел, не выстрел даже, а какой-то взрыв. Мне показалось, что легкая артиллерия начала обстрел укрепленных позиций противника. Уши заложило, но вскоре отпустило, и я почувствовал знакомый уютный запах, который меня и до сих пор успокаивает – порох и масло.
– Ага? – улыбнулся Алексей, кажется, в первый раз за все то время, что я его знал. Он мягко вернул курок на место, чтобы револьвер не выстрелил еще раз, поставил оружие на предохранитель и положил его на деревянную полочку перед бойницей.
– А давай-ка повесим этого мужика.
И мы пошли на рубеж и стали кнопками укреплять сердитого американского черно-белого мужика, врага полицейских. Леша надел на меня наушники:
– Обнови-ка ты мишень, Андрей. Наудачу.
И я начал стрелять. Вернее, извлекать грохот из этой компактной артиллерийской установки. Из первых шести пуль в мишени оказались только три, но Леша, после каждого выстрела заглядывая в трубу, говорил: «Неплохо. Так. Хорошо.» Калибр этого оружия был настолько большим, что, казалось, ты невооруженным глазом видишь, как одиннадцатимиллиметровые пули выбивают в бумажном американце дырки. И когда барабан стал пустым, Леша сказал:
– Целься в яйца. Не нужно убивать, нужно обезвредить.
Я вздрогнул. Тогда эти слова меня испугали своей практичной откровенностью. «Не нужно убивать, нужно обезвредить,» – так обычно говорит себе любой профессиональный солдат, для которого война это просто работа. Вынужденное занятие, за неимением другого. Я это понял много лет спустя. Ну, а сейчас я думаю о том, сколько же исправного, неисправного и не очень исправного оружия я продал, перевез и всучил разным маньякам, которые только и думают о том, чтобы убивать себе подобных. Для таких убийство не просто работа, а любимая работа. Лешу Ломако, моего первого тренера, после этой тренировки, кстати, выгнали с работы. Сторож рассказал о нашей вечерней канонаде директору спортшколы, и тот в присутствии всех ее учеников объявил Лешу преступником, по которому тюрьма плачет. Он и без того ненавидел Алексея и, видимо, в глубине души надеялся, что Лешу посадят. Но его не посадили. Только забрали пистолет. Кажется, сделал это следователь КГБ. А, может быть, Леша сам его добровольно сдал. На большее наша городская власть не осмелилась. Ломако, оказывается, был секретным указом награжден очень важной медалью или даже орденом, о чем, кстати, во время перестройки писала какая-то местная газета.
ГЛАВА 2 – УКРАИНА. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Военным летчиком я стал тоже случайно, хотя, и не совсем. Все, что происходит с нами, предопределено цепью предыдущих событий, причем, и тех, которые не имеют к нам прямого отношения. В моей семье было такое количество военных, что, кажется, не надеть на себя военную форму было бы просто предательством славных предков.
Но так бывает только в учебниках истории и патриотических романах. В действительности, никаких традиций не существует. Семейная традиция это оправдание нежелания что-либо менять в жизни. Я мог бы стать и врачом, и переводчиком, и юристом, благо, с детства был сообразительным, любознательным и усидчивым. Но вы, наверное, забыли, как все было у нас устроено в то время. Чудесное советское время! Далеко не все институты были доступны для простого парня из небогатой, но очень гордой семьи. Медицинский, юридический или инъяз какой-нибудь охотнее всего открывали свои двери тем, кто знал, в какую начальственную дверь нужно стучаться. Отношения между преподавателями и студентами регулировали Его Величество Блат и Ее Величество Коррупция. Они успешно отсекали неперспективных с финансовой точки зрения мальчиков и девочек. Нам говорили о бесплатном образовании, но даже самый наивный пионер или комсомолец, знал, что вступительный взнос в престижный ВУЗ измеряется в тысячах рублей – по одной тысяче за каждый год обучения. У моей матери, оставшейся без мужа, когда я был совсем еще мальчишкой, больших денег отродясь не водилось. Мы жили на стандартный мамин инженерский прожиточный минимум в сто двадцать рублей плюс бабушкина пенсия плюс гроши, которые выплачивали партия и правительство после гибели отца. До сих пор не знаю, как она выкручивалась, чтобы наскрести деньги на мои занятия языками.
Мама очень не хотела, чтобы я оказался в армии, и, как это ни парадоксально, самый лучший способ избавить меня от воинской обязанности она нашла довольно странный. А именно собралась отправить меня, толстяка и увальня, в военное училище. Якобы, все основные армейские невзгоды и трудности падают на плечи солдат срочной службы, а вот офицерская жизнь полна благородства и взаимовыручки. Они, конечно, защищают Родину и рискуют жизнью, но при этом имеют устойчивое материальное положение, здоровые взаимоотношения в коллективе – без мордобоя – и гарантированный карьерный рост. Почему она так думала, ума не приложу. Неужели она настолько идеализировала своего мужа и моего отца, что никогда не расспрашивала о работе? Или насмотрелась сверх меры фильмов «про людей в форме»? Она же не могла не знать, что из всех вышеуказанных стереотипов военной жизни действительности соответствует только один. Военная карьера давала широкие возможности тем, кто готов был умереть за Родину. Способы были разные, от цирроза печени во время суровой многочасовой офицерской пьянки до подрыва на противотанковой мине во время оказания интернациональной помощи какому-нибудь многострадальному азиатскому, африканскому или латиноамериканскому народу. Все остальное – карьерный или материальный рост, душевные благородные отношения – обычно оказывалось иллюзией. Великой советской иллюзией. Но мать в нее верила.
Отец у меня летал штурманом на бомбардировщике Ту-16. Мы тогда жили в Полтаве. Аэродром, на котором служил мой отец, был построен еще во время войны специально для американских самолетов. Они летали бомбить Берлин. Но до Берлина дотянуть, в силу несовершенства конструкции, не могли. Советское правительство предоставило им «аэродром подскока». Место, где можно передохнуть и подзаправиться. Со временем он превратился в полноценную авиабазу. Американскую, в сущности. Американцы жили в военном городке, от которого ничего сейчас не осталось. А вот металлические плиты от американской взлетно-посадочной полосы я еще застал. Я помню, они лежали сбоку новой взлетки, такие мощные, хорошо подогнанные друг к другу шестигранники. Отполированные до блеска тысячами касаний американских шасси, они так нагревались летом на солнце, что, казалось, брось на них яйцо, и через пять минут получишь глазунью.
Как-то в сентябре, помню, мы с приятелями, совсем еще мальчишки, пролезли на аэродром и провалялись на этих плитах полдня. Мы разделись по пояс, и мои рыхловатые телеса стал обдавать прохладой осторожный ветер ранней осени. В его дыхании чувствовался холод, который неприятными змейками струился у меня по спине и сбегал вниз по моим жировым отложениям. Я лег на эти стальные плиты. Они были горячими. Над нами светило белое солнце сентября, под нами была история. Горячая, и потому немного ожившая. Тогда я не очень хорошо разбирался в том, откуда взялись эти плиты под Полтавой, но инстинктивно прижимался к ним, к железному теплу прошедшей войны. Удивительно, что никто нас тогда не застукал – ни солдаты-охранники, ни всевидящий руководитель полетов в диспетчерской башне. Удивительно вообще, как мы остались живы и здоровы. Видимо, в тот день не было полетов.
А вообще-то «шестнадцатые» здесь взлетали и садились по нескольку раз в день. Аэродром накрывал все Средиземное море и даже немного Индийский океан. Помню, отец уходил утром на работу и говорил весело матери: «Смотри не загуляй, я сегодня до Турции и обратно, к обеду вернусь.» И возвращался, веселый, с легким хмельным запахом. Мать ему: «Где пил?» А он убедительно врал: «Да ты что! Это я квас, в нашей столовой.» Квасу в офицерской столовке на аэродроме и впрямь было хоть отбавляй. Это у них, у «стратегов», такая традиция была: квас пить. В любой точке, где садились бомбардировщики, даже там, где не было ни вкусной жратвы, ни нормальных столовок, всегда был свежий квас. По легенде, эта традиция пошла именно отсюда, из Полтавы. Квасом американское начальство дурило своих пилотов, чтобы те по привычке пиво перед полетом не хлестали. И после полета тоже. Квас был забористый, с изюмом, но, конечно, по эффективности уступал пиву и вставлять летчикам не мог. Нашим тоже пришлось пить квас с американцами. Пили. Давились, но пили. Деваться было некуда – приказ. Советское командование решило последовать американскому примеру и нашло повод, чтобы победить беспросветное пьянство, спутник любой войны. «Мы должны создать максимально благоприятную и привычную обстановку для наших гостей,» – вот что говорили военачальники. – «Они пьют квас, и мы тоже будем.» Но однажды братья по оружию улетели навсегда. А привычка пить квас осталась. Наследие капитализма и американского образа жизни. Стандартов, так сказать. Правда, как только офицеры выходили за КПП, то ноги сами несли их в ближайший магазин, чуть левее от входа на авиабазу. А потом на лавочку в скверике. Там и столики были оборудованы.
Отец погиб трагически и нелепо, – автобус, который по декабрьскому гололеду вез экипаж на аэродром, перевернулся, – и мать уехала к родителям в Харьков. Она так ни разу после этого не вышла замуж, и поначалу старалась оградить меня от всего, что связано с армией. Но до конца это ей не удалось. Стрелковый спорт начал пробуждать во мне древние воинские инстинкты, и запах ружейной смазки возбуждал меня, как запах дичи молодую легавую на первой охоте. Я, впрочем, говорил уже об этом. Когда я услышал от матери о плане действий относительно службы в армии, меня, честно говоря, даже обрадовала перспектива «косить» вот таким радикальным, необычным способом. Одна у нас с мамой вышла заминка. Не заминка даже, а настоящий скандал. Она не хотела и близко подпускать меня к военным самолетам. Отец погиб на земле, по вине или неосторожности шофера, который, кажется, был вольнонаемным, но, несмотря ни на что, мать в случившемся винила военную авиацию. Помню, я был совсем еще подростком, а она уже с нескрываемым раздражением смотрела на то, как иногда от нечего делать я клеил из пластмассы модели самолетов. Они висели на толстых нитках под потолком нашей невысокой квартиры в «хрущевке» на окраине города, и мама всякий раз тихо ругалась, когда цеплялась за них, перемещаясь из комнаты в кухню и обратно. Впрочем, несмотря на раздражение, она очень осторожно, чтобы не сломать, вытаскивала пластмассовый пропеллер от Ан-24 из лакированной прически, если тот назойливым насекомым цеплялся за ее волосы. Когда я сказал ей, что буду поступать в летное училище, мама долго молчала, потом взорвалась грозной тирадой о том, что план «кошения» отменяется, и что она лучше отдаст меня в солдаты. Я тогда был в десятом классе, и как всякий подросток, лучше знал свою маму, чем она меня. Я понимал, что у нее обычная истерика, и спокойно пытался найти убедительные аргументы – что самолеты падают редко, а солдаты бьют друг другу морду часто. А еще иногда и стреляют в обидчиков. А еще от невыносимой жизни в казарме интеллигентные люди накладывают на себя руки. А если и выживают среди таких ужасов, то отправляются в дисбат, из которого возвращаются законченными преступниками. Все это я рассказывал маме, пытаясь использовать понятную ей терминологию, и мама, теряя в споре свои нестойкие аргументы, верила в эту чушь, которую я, словно расчетливый паук, плел из правды, полуправды и откровенной лжи. В общем, дорога к поступлению в летное была открыта. Но на первом же медосмотре в славном Черниговском училище, территория которого уставлена бюстами знаменитых и героических выпускников, я был сражен наповал. Срезан подчистую. Доктор сказал мне, что к экзаменам меня не допустит, потому что с таким брюхом я не смогу набрать высоту. Почему это, переспросил его я. Да потому что штурвал на себя не возьмешь – живот мешает. Так ответил язвительный эскулап. Я не сказал об этом матери, и пошел искать другие самолеты, где места в кабине больше, чем у истребителя. Где можно взять на себя штурвал. Так я оказался в высшем авиационном училище военно-транспортной авиации. Мне тогда казалось, что это какая-то полугражданская структура, едва ли отличающаяся от цивильного ВУЗа больше, чем кабина грузового «ана» отличается от кабины пассажирского. Я сильно заблуждался на этот счет. Мои иллюзии развеялись в первый месяц пребывания в казарме, в течение которого я не то что не увидел ни одного самолета – я вообще, кроме швабры, щетки и надраенных мною же до блеска унитазов в туалете общего пользования, не видел больше ничего. К щетке и унитазам я привык быстро. Гораздо быстрее, чем к казенной еде. Я не мог есть то, что давали в столовой. Запах здешней еды мне казался тошнотворным. Поэтому первые две недели за обедом я пил только компот из оловянных кружек и воду из-под крана в казарме. К тому времени, когда я, наконец, научился сдерживать рвотный рефлекс, я сбросил килограммов десять. А еще через две недели курсантская форма висела на мне, как кожа на итальянском мастифе. Форму мне выдали новую, и жизнь засверкала свежими красками и оттенками, как оловянная пуговица, начищенная пастой гои.








