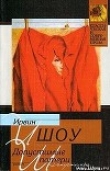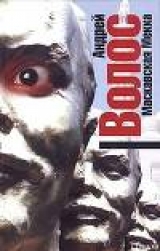
Текст книги "Маскавская Мекка"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
Голопольск, четверг. Заседание
– Товарищи! – сказала Александра Васильевна. – Я понимаю, что все устали. Но, к сожалению, в повестке дня еще один вопрос.
Басовитый гомон стих. Двенадцать крупных мужчин, вот уже две или три минуты занимавшиеся тем, чем всегда занимаются люди в коротких перерывах напряженных и утомительных заседаний (потягиваются, хрустят суставами пальцев, вздыхают и перебрасываются почти ничего не значащими словами), снова подались к длинному столу, в котором отражался безжалостный свет десятирожковых люстр, и одинаково положили сцепленные ладони на его полированную поверхность.
– Вопрос не такой значительный, как предыдущие… но все-таки очень важный. И тоже требует срочного разрешения, – устало сказала она. – Памятник Виталину пришел в полную негодность. Есть авторитетное мнение, что скульптура не подлежит восстановлению…
Нажала кнопку селектора:
– Зоя, пригласите Емельянченко!
Тут же открылась дверь, и в кабинет вступил Евсей Евсеич. Остановившись у порога, он выжидательно поглядел на Твердунину.
– Проходите, – предложила она. – Евсей Евсеич Емельянченко, главный художник пуговичной.
Все брезгливо смотрели на пунцовые штаны художника. Кто-то крякнул, кто-то присвистнул. Директор пуговичной Крысолобов вздохнул. Пуговицы в виде серпа и молота, в виде наковальни и четырех перекрещенных снопов пшеницы (серия «Радостный труд»), в виде Краснореченского кремля и отдельных его башен (серия «Старина вековечная»), в виде гаубичных снарядов, увитых золотой лентой (серия «Победа гумунизма») – все это переливалось и сияло на стенах худотдела. По фондам фабрика получала гранулированный полистирол, цветом и формой похожий на зубы курильщика, да изредка листовую латунь; а художник мыслил в категориях драгметаллов и самоцветных камней. «Вы мне предоставьте материал! – кричал Емельянченко на худсоветах. – Какая латунь?! Что ж думаете? на латуни выехать?! Вы мне рубин фондируйте для башен!.. Платину для гаубиц!..»
– Дело ясное, – сказал сейчас Евсей Евсеич. – Я сорок лет имею дело с произведениями искусства. Арматура отломилась. Не починишь.
– А подварить? – спросил Крысолобов.
– Ах, Николай Еремеевич, варить-то к чему? Ржа одна. Не подваришь.
– Это что же значит – не подваришь? – хрипло возмутился начальник мехколонны Петраков. – Да я сейчас своих ребят свистну, агрегат подвезут – и подварят в лучшем виде. Тоже мне – подварка! Не в первый раз, как говорится.
– Свистнет он! – саркастически бросил Емельянченко и неожиданно затрепетал, вытягиваясь. – Вы кому это говорите? Вы мне это говорите?! Вы меня будете учить с явлениями искусства обращаться?! Па-а-а-адва-а-а-а-а-аришь! Подвариватель! Вы что?! У меня дипломы краевых выставок! У меня четыре премии!.. Свистнет! Что ваши ребята сделают?! Говорю же вам русским языком – проржавело все к чертовой матери.
– Вы моих ребят не трогайте! Мои ребята хоть в красных штанах и не щеголяют, а подварили бы в лучшем виде.
– Штаны! – изумился Емельянченко. – Я бы на вашем месте, Павел Афанасьевич, помолчал насчет штанов! Я, как человек с тонким художественным вкусом, много чего мог бы о ваших штанах сказать. Однако видите вот – молчу!
– Тише, тише, товарищи! – вздохнула Александра Васильевна. – Что вы, право, всякий раз – штаны, штаны… Да и слово-то какое – штаны. Ну, брюки, хотя бы…
– Предложения-то какие-нибудь есть? – спросил Грациальский.
– Предложения есть, – кивнул Емельянченко. – Есть одно предложение, да Александра Васильевна отвергает… Я, товарищи, не понимаю, честное слово! Или мы позволяем себе смелость творца, и тогда искусство гумунистического края занимает достойные позиции на мировой арене. Или держимся за вековечные штампы, и тогда наше искусство не занимает достойных позиций на мировой арене.
Александра Васильевна уныло подперла голову кулаком.
– Конкретно! – бросил Грациальский.
– Пожалуйста! Поскольку арматуру подварить нельзя, – Емельянченко обвел присутствующих взглядом; присутствующие кивнули, один только Петраков что-то недовольно буркнул. – …а без арматуры рука держаться не будет… – Снова все согласились. – …предлагаю изменить композицию монумента. Руку слепить загнутую, прижатую к груди. И положить ее как бы в перевязь… понимаете? Памятник будет называться «Виталин после ранения»! Аналогов не существует! Он воздел испачканный золотой краской палец. – Понимаете?
– На перевязи… – задумчиво повторил Грациальский, туманно поводя глазами и, видимо, силясь представить себе обрисованную картину.
– Это будет шаг вперед! Это будет – ис-кус-ство! – горячился новоявленный скульптор. – Это смелость! Это отвага! Это уход от рабского следования традициям! Ну давайте проявим хоть каплю смелости! А насчет руки можете не беспокоиться: слеплю так, что ахнете! Как живая будет! И перевязь! А, товарищи?
Он замолчал, умоляюще глядя на Грациальского. Тот отвел взгляд и неопределенно покрутил в воздухе пальцами.
– Ну как? – спросила Александра Васильевна, посматривая то на одного, то на другого члена бюро.
– Это что же получается? – пророкотал Глючанинов, словно желая подтвердить ее сомнения. – Как говорится, дешево и сердито? Так, что ли?
С каждым следующим словом его голос набирал силу. Погоны угрожающе вздыбились на широких плечах.
– Значит, рука отвалилась – давай ее на перевязь! А нога отвалится что, Евсей Евсеич, костыль предложите?! Народ выйдет завтра на площадь, увидит эту вашу… – он прижал правую руку к груди, а левой посучил вокруг шитого генеральского обшлага, словно чем-то заматывая, – культю эту вашу увидит и что скажет?! Да вы что! Народ не обдуришь! Вам же завтра всякий ткнет: что вы мне вместо вождя подсовываете?! Тем более сейчас, когда даже закормленный пролетарий Маскава поднимается на битву за наши идеалы! Когда мы спешно мобилизуем армию, чтобы двинуть ему на помощь добровольческие отряды! Вы что, товарищи?!
Генерал обвел присутствующих грозным взглядом и сел.
Его слова произвели действие живой воды. «Фу, правда, глупость какая!» – сказал Грациальский, кривясь. «Действительно!..» – пробормотал Клопенко и цепким взглядом пробежался по фигуре Емельянченко, словно выискивая в нем что-то такое, чего не замечал прежде. Петраков хохотнул и сказал: «Ну, умора!..»
– Возражения есть? – спросила Александра Васильевна. – Понятно. Евсей Евсеич, вы свободны. Значит, товарищи, с одним ясно: памятник нам нужен новый. Но когда он появится – сказать не могу. Сами знаете, какое в крае положение… В этой связи возникает еще один вопрос – пока нет нового, куда девать старый?
Через две или три секунды Петраков шумно вздохнул и сказал недоуменно, откидываясь на спинку стула:
– Что значит – куда девать? Да на помойку! Сейчас свистну ребят, кран подгоним и…
Он не закончил фразы и остался с раскрытым ртом, потому что Александра Васильевна обожгла его таким взглядом, что даже в этой большой и ярко освещенной комнате на мгновение стало еще светлее – будто молния сверкнула.
– Вы, Павел Афанасьевич, не в первый раз проявляете крайнюю политическую близорукость, – холодно заметила Твердунина, бросив карандаш и поднимаясь со своего места. – Я-то к этому уже привыкла… а вот товарищи! Не знаю, как посмотрят на вашу недальновидность товарищи по бюро! Может быть, им покажется, что вы все-таки недостаточно зрелы, чтобы участвовать в работе ратийных структур! Я вас ценю как специалиста, – она легко усмехнулась, показывая этим, как мало стоит то, за что она его ценит, в сравнении с тем, за что ценить не может, – и мехколонна добилась в прошлом году отличных результатов, завоевав переходящее знамя районного комитета… Однако в политических вопросах вам еще очень и очень надо поработать над собой… чтобы не совершать ошибок хотя бы в таких важных, я бы даже сказала – архиважных вопросах!
Она стояла, оперевшись о стол костяшками пальцев, грациозно наклонившись вперед и улыбаясь, однако эта улыбка в понимающего человека могла бы вселить только одно единственное чувство – леденящий ужас.
Было очень тихо. Потом послышался звук елозящего стула – это Грациальский отъезжал от Петракова подальше.
– Вопрос очень сложный, – сказала Твердунина, вновь опускаясь в кресло. – Нам не обойтись без поддержки обкома. Окончательное решение мы принять не вправе, однако давайте наметим хотя бы в общих чертах. Какие будут предложения?
– Можно мне еще раз, Александра Васильевна? – спросил Глючанинов. По-солдатски?
Она кивнула.
Генерал поднялся, одернул китель и заговорил, отрывисто выстреливая фразы.
– Да! – трудное время. Враждебное окружение. Неурожаи и падеж. Не будем скрывать: талоны в срок не отовариваются… Что у нас есть? Ничего у нас нет. Этот памятник – последнее наше достояние. И не только наше, товарищи! Все мы знаем, что происходит в Маскаве. В Маскаве революция! Долгожданная революция! Наконец-то и Маскав, сбросив путы исторического прошлого, выходит на большую дорогу!.. А задумывались ли вы, что будет, когда трудящиеся Маскава добьются победы? Какие знамена поднимут они в день своего ликования? Что они поставят на свой постамент? Те оскверненные фигуры, что когда-то сами свозили на поругание? Нет, товарищи! Кто был изгажен, не может стать символом свободы!..
Генерал обвел взглядом присутствующих и вкрадчиво спросил:
– А кто же может?
Указающе протянул руку и рявкнул:
– Вот кто! Он стоит под окном райкома! Без руки!.. Но и его норовят стащить с постамента и даже, – он яростно повернулся мощным корпусом к Петракову, – выбросить на помойку!
Александра Васильевна откровенно любовалась генералом.
– Дудки! – рявкнул генерал и со всего маху треснул по столу кулаком. Граждане Петраковы и K°, заявляю вам со всей определенностью: не выйдет!
Клопенко протяжно вздохнул, посмотрел на вдвое уменьшившегося Петракова и что-то чиркнул у себя в блокнотике.
– Имею конкретно, – сказал генерал, переводя дух. – Поскольку оставить в таком виде невозможно. А Маскавом памятник пока не востребован. Временно. Для поддержания боевого духа. Для укрепления авторитета власти. А также лично Виталина. Предлагаю похоронить на площади с военным оркестром и соблюдением церемониала!
Воинственно выпятил челюсть и сел.
Повисло молчание.
– Э-э-э, – неуверенно заблеял вдруг Петраков. – Я, товарищи… э-э-э… разве я это?.. Я же наоборот… преданность делу… а?
– Да ладно, Павел Афанасьевич, – благожелательно сказала Александра Васильевна, которой понравилась речь генерала. – Кто из нас не ошибался… Давайте обсуждать, товарищи.
Петраков немо кивнул и вытер пот со лба, а Клопенко подумал и нехотя вычеркнул из блокнотика то, что написал ранее.
– Что ж, – осторожно сказал Грациальский, подбирая слова так, будто ставил ногу на тонкий лед, под которым чернела гибельная глубина. – Товарищ Глючанинов обрисовал верно и… проблема поставлена и даже… если можно так выразиться… предложен путь ее решения… неоднозначный, конечно, путь… однако нужно внимательно рассмотреть.
– Так, так! – ободряюще сказала Александра Васильевна. – Какие еще будут мнения?
– Предложение, конечно, есть, – заметил Харалужий, повернув к Твердуниной свою осанистую голову, украшенную седой гривой. Глаза у него были маленькие и разноцветные – левый синий, а правый изумрудно-зеленый, отчего физиономия казалась слепленной из двух разных половинок; однажды Александра Васильевна поняла, что если Харалужий говорит правду, то прижмуривает синий глаз, а если врет – зеленый, и с тех пор успешно пользовалась плодами своей наблюдательности; впрочем, чаще всего он вовсе не жмурился, и тогда понять, насколько он правдив, не было никакой возможности.
– Смелее, Харлампий Каренович! – подбодрила его Александра Васильевна.
– Однако, товарищи, как бы нам с таким предложением не попасть впросак, – Харалужий покачал головой в тяжелом раздумье. – Сама мысль мне нравится… Дело хорошее. Товарищ Глючанинов прав. Пока памятник не востребован Маскавом… и, к сожалению, мы не можем быть уверены, что он будет востребован. Поймите меня правильно! Конечно, хорошо бы! Представляете? наш Виталин на специальном поезде едет в Маскав, чтобы занять там подобающее ему место! Цветы! Оркестры! Ликование толп!.. – Харалужий обвел присутствующих светящимся кошачьим взглядом одинаково сощуренных глаз. – Но пока этого не случилось. Значит, нужно снять, а память увековечить. Нельзя людей оставлять без памяти. Что такое человек без памяти? – бессознательное существо…
Он беспокойно поерзал на стуле, отчего заколыхался под пиджаком обширный живот.
– Но! Дело очень тонкое, товарищи. Как следует провести это увековечивание? Товарищ Глючанинов предлагает погребение. По военному, так сказать, образцу. Хорошее предложение, товарищи! Дельное предложение! И если бы мы хоронили маршала, я бы поддержал его обеими руками! Однако мы хороним совсем не маршала…
– Ну и что, что не маршала! – заворчал генерал. – Не играет никакого значения! Ратийных деятелей тоже на лафетах возят!
Харалужий поднял ладонь успокоительным жестом.
– Это можно обсуждать. И не исключено, что я с вами соглашусь… не исключено! Даже почти наверняка соглашусь: что ж, правда, в этом плохого! Оркестр приедет, салют… замечательно. Но есть еще одна сторона проблемы, Александра Васильевна…
Харалужий поежился.
– Смелей, смелей, – поморщилась Твердунина.
– Массы, – тихо сказал Харалужий. – Опять же: что скажут массы?
– А что массы? – рявкнул генерал. – Что вы кота за хвост тянете?
Харалужий покосился на Клопенко, будто прикидывая, чего от него в самом худшем случае можно ждать. Начальник РО УКГУ между тем невинно полистывал блокнотик.
– Массы удивятся. Массы задумаются. «Вот тебе раз, – будут думать массы. – Те изверги, значит, самого Виталина в Маскаве закопали, а эти в Голопольске, стало быть, уже и до памятников добрались! Это что же такое получается? – воскликнут оскорбленные массы. – Это где же тогда правда на белом свете?! Чем же, – спросят массы, – их озверелый Маскав отличается от нашего передового Голопольска?!»
Повисло молчание.
– Да-а-а… – протянула Александра Васильевна. – Как, товарищи? Действительно. Мне кажется, товарищ Харалужий верно отметил…
Присутствующие покивали.
– И что же тогда? – спросила Александра Васильевна, словно обращаясь к самой себе. – Не хоронить – нельзя. Хоронить – тоже нельзя…
– Глупости! – сказал генерал, окинув Харалужего неодобрительным взглядом. – Ну не мавзолей же теперь строить!
Он насмешливо фыркнул и покачал головой.
– Как вы сказали? – переспросила Александра Васильевна. – Ма… мавзолей?
– Да, действительно! – сказал Харалужий. – Нет, серьезно! А?
– А что? Небольшой такой мавзолейчик, – пробормотал Грациальский.
– Так сказать, по образу и подобию, – ввернул Харалужий. – Если край живет во враждебном окружении, то… Почему бы и нет?
– А техникой мы обеспечим! – заволновался Петраков, принимая почти прежние размеры. – Техники навалом! Я ребятам свистну, – он осекся, прикажу то есть… Сверхурочные, если надо… да что там! За день сделаем, если материалы будут! За ночь!
– Ишь ты – за ночь… Да вы, Павел Афанасьевич, просто Марья-кудесница. Левым рукавом махнула – озеро разлилось. Правым – утки полетели. Шапкозакидательство! Как насчет материалов, Олег Митрофанович? – с веселой строгостью осведомилась Твердунина. – Не подкачаете? Кирпич бар, раствор ек, – не будет такого?
– С материалами, конечно, туго, Александра Васильевна, – сдержанно ответил начальник строительного управления Олег Митрофанович Бондарь. – На кирпичном печь полетела… на ЖБК кран вышел из строя…
– Помощью обеспечим. Артур Степанович, поможете рабсилой? На бетонный-то?
– Как не помочь, – кивнул Клопенко. – Триста голов хватит?
– Опять вы за свое, товарищ Клопенко! – поморщилась Твердунина. Голов!.. Перестаньте. (Артур Степанович холодно улыбнулся.) И потом – куда столько, что вы! Человек пятьдесят, наверное. Ну – шестьдесят… Видите, Олег Митрофанович, как все хорошо устраивается. А материалы надо найти, надо!
Бондарь понурился.
– Короче говоря, берите, товарищ Бондарь, в свои руки, – заключила Александра Васильевна. – Насчет техники – к Петракову. Насчет рабсилы прямо к Артуру Степановичу. Без церемоний. Нужен архитектор – обращайтесь, организуем.
Она чувствовала душевный подъем. Решение было найдено, оставалось немного – организовать, мобилизовать, направить в нужное русло.
– Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять постановление… как назовем?.. об увековечении памяти памятника Виталину, видимо?.. Кто за, прошу голосовать!.. Единогласно, – сказала Твердунина, опуская ратбилет. Вы уже знаете, что Михаил Кузьмич Клейменов ушел на повышение – теперь он в Краснореченске. Новый первый секретарь появится к завтрашнему утру. Я буду пытаться связаться со вторым секретарем. Может быть, у… – она замялась перед тем, как выговорить имя, – у Николая Арнольдовича будут какие-нибудь возражения… не исключено… в этом вопросе мы должны прислушиваться к мнению обкома… и тогда…
Дверь кабинета широко распахнулась, и вошел вдруг сам Николай Арнольдович Мурашин – высокий, плечистый, улыбающийся, одетый не в цивильный костюм, а в какое-то пятнистое полевое обмундирование, в высоких резиновых сапогах, со скаткой плащ-палатки на ремне.
– Добрый день, товарищи! – сказал Мурашин громко, весело окидывая сидящих взглядом пронзительно-синих глаз. – Да я не на бюро ли попал?
– Как снег на голову! – воскликнула Твердунина, привставая со стула на ватных ногах.
– А ничего! Я же знаю: вы всегда на месте, – отвечал Мурашин, смеясь. Подъезжаем, смотрю – окна горят. Не спит секретарь! А тут, оказывается, весь актив!
Николай Арнольдович захохотал, предъявив крепкие крупные зубы, и в самом смехе было что-то такое задорное и веселое, что сразу выказывало человека здорового и симпатичного.
– Удачно, удачно! Посижу, послушаю, чем гумунисты Голопольска живут. Потолкуем по душам… верно? Чай, не чужие!
Он решительно сел на стул рядом. Александра Васильевна почувствовала мгновенное тепло коснувшегося ее колена.
– Приступайте! – предложил Мурашин.
И ласково посмотрел смеющимся взглядом таких… таких голубых глаз.
Маскав, четверг. Тамерлан
Шаги звучали негромко – пол был сплошь устлан пестрыми квадратами дагестанских сумахов. По стенам поверх сиреневых и бордовых сюзане висели плетеные камчи, наградные цепи с крупными лалами на золотых бляхах, бисерные джамолаки и хурджины, серебряные конские наголовья, серебряные же, с золотой наковкой, стремена, шитые жемчугом седла и уздечки. Между этими мирными предметами горделиво сверкали сабли, полувынутые из богато убранных ножен, узкие скифские топоры, дамасские панцыри, калмыцкие колчаны и луки, древние парфянские акинаки, кубачинские кинжалы – самое разное оружие, боевые характеристики которого были подпорчены чрезмерным количеством украшавших его драгоценных камней и цацек. Взгляд, беспорядочно хватая мишуру окружающего, едва поспевал расчленять ее на отдельные предметы.
– Надеюсь, инцидент исчерпан, – неловко клоня свой высокий стан, настойчиво сипел начальник охраны Горшков в ухо Найденову. Пахло от него почему-то черемухой, а длинная, оснащенная лошадиной челюстью физиономия была более всего похожа на произведение чукотских резчиков по моржовой кости. – Простите, бога ради… чисто конкретно недоразумение… уж не обессудьте…
– Гм! гм!.. – отвечал Найденов, с достоинством поворачивая голову то вправо, то влево. – Гм!..
– Прошу нижайше, – пуще давился бивнелицый командор. – Уж вы Цезарю Самуиловичу ни-ни… уж не обмолвьтесь, пожалуйста!.. – Он негромко, но весело взвизгнул, давая понять, сколь, в сущности, пустячен вопрос, которому они в силу глупейшего стечения обстоятельств уделили столько внимания; при этом рефлекторно сжал своими будто коваными пальцами предплечье Найденова, за которое того почтительнейше поддерживал. – Уж вы пожалуйста!.. уж я вас прошу!.. Цезарю-то Самуиловичу!.. зачем волновать?..
– Хорошо, хорошо, – согласился Найденов, морщась и высвобождая руку. Что тут у вас?
– Чистая формальность! – осклабился шеф.
Они оказались в просторном зале, являвшемся, судя по всему, пунктом мамелюкской безопасности. Несколько стальных столов, арки пластометаллоискателей, справа от каждой круглая черная нора в кубообразном хромированном устройстве ядерно-магнитного резонанса. В одну из нор лента транспортера как раз уволакивала женскую сумочку.
– Простите, а это что? – спросил офицер за пультом, щелкая переключателем. – Прошу взглянуть. Вот это. Металлическое, круглое.
Дама, прижимавшая к себе белую болонку, высокомерно скосила на экран роскошные синие глаза.
– Господи, ну пудреница же!!! – воскликнула она. Тон глубокого голоса и выражение ослепительного лица, украшенного волнами белокурых кудрей, могли быть поняты единственно верным образом, а именно: придурков на свете гораздо больше, чем она предполагала. Судя по тому, как побурело широкоскулое лицо офицера, он так и понял.
– Прошу вас, ханума, – буркнул он. – Проходите.
В эту секунду болонка издала истерический визг.
– Пусечка! – заполошно вскричала дама.
Пусечка продолжала истошно вопить и брыкаться, пытаясь вырваться из тонких рук хозяйки, и было непонятно, от чего она трясется больше – от ужаса или ярости. Так или иначе, не было сомнений, что ее внимание привлек коричневый складчатый маскавский мастино, только что вразвалку появившийся из другого коридора.
Мастино вывалил фиолетовый язык и сел, озадаченно наклонив голову на бок.
– Уймите свою глисту, – брюзгливо и громко сказал человек лет пятидесяти, следовавший за собакой.
Он был черноволос, усат, брыласт, толстогуб, плотен, приземист, широкозад – и в целом несколько похож на чернильницу-непроливайку. Между лацканами сиреневого смокинга цвела курчавая капуста белоснежных кружев. Ослепительная лакировка иссиня-черных туфель бросала на паркет голубые блики.
Сразу после его слов дама завизжала громче собачки и сделала движение столь стремительное, что Найденову на мгновение представилось нечто совершенно невероятное: сейчас дама в ярости бросится на господина-непроливайку и мгновенно порвет ему глотку своими жемчужными зубами.
– Свинья! – кричала дама, прижимая болонку к белоснежной груди. Слабое животное пучило от натуги глаза и хрипело. – Хам!
– Э-э-э, начинается!..
– Простите, господин Габуния! – сказал офицер, выступая из-за своего стола. – Это не позволено!
– Быдло!..
– Что не позволено? – переспросил господин с маскавским мастино, морщась. – На кисмет-лотерею не позволено?
– С собаками не позволено!
По-кошачьи фыркнув, дама возмущенно передернула плечами и схватила сумочку.
– Бедная Пусечка! – громким трагическим шепотом сказала она, зарываясь лицом в шерсть, затем перехватила сумочку удобнее и пошла прочь, повторяя: Что за люди! что за люди!..
– То есть как – не позволено? – пуще изумился Габуния. – Одним позволено, а другим не позволено? А у нее что, не собака?
И гневно указал толстым волосатым пальцем вслед даме, удалявшейся по коридору.
Как лучи софитов, выхватывающие из тьмы вдохновенное лицо актера, взгляды присутствующих сошлись на волнующихся ягодицах блондинки.
Начальник охраны негромко крякнул.
– У нее маленькая, – заметил офицер, глядя на шефа.
– Да не такая уж и… – завороженно пробормотал начальник охраны, крякнул вторично и сказал, с усилием отводя глаза: – Видите ли, господин Габуния… Собаки, они… э-э-э… как бы это выразиться поточнее… разные собаки и…
Мастино склонил голову в другую сторону. Соответственно этому перевесился и язык.
– Собака – она и есть собака, – вполголоса заметил Найденов и проговорил с грубой ласковостью: – Что, не пускают? Ну сиди, сиди, красавец…
Пес перевел на него свой печальный взгляд и облизнулся, влажно клацнув челюстями.
– Вот именно! – обрадовался Габуния, тем же пальцем упираясь в грудь нежданного сообщника. – Слышите? Собака – она и есть собака!
Шеф в тяжелом раздумье посмотрел на Найденова.
– Но, господин Габуния, поймите, в зал мы ее в любом случае не пустим. Поэтому лучше бы вам, так сказать… э-э-э… в порядке…
– А в зал мне и не надо, – перебил тот. – Я ее в холле оставлю. Ну, сами посудите, Константин Сергеевич, не в машине же бедняге три часа париться? Мы и так едва доехали! Вы в городе-то давно были? – наступал Габуния. – Вы гляньте, гляньте, что на улицах делается!
Пес тяжело моргнул коричневыми глазами и потянулся было полизать себе брюхо. Габуния поддернул поводок. Пес страдальчески вздохнул и понурился.
– Ну просто как на вулкане, – с горечью заметил начальник охраны. Завтра кто-нибудь с крокодилом заявится… И при чем тут город? – Махнул рукой и приказал недовольно: – Пропустите!
Однако когда Габуния двинулся к арке пластометаллоискателя, возникло новое осложнение: сделав несколько тяжелых шагов (шкура, которой хватило бы на два таких тела, елозила по мощной спине и шее), собака уперлась и села.
– Тамерлан! – сказал Габуния. – Ты чего? Пошел!
Он тянул поводок, однако его усилия приводили лишь к тому, что затылок пса покрывался новыми складками все той же гладкой шкуры.
– Ну же! – крикнул Габуния.
Пес глухо зарычал и уперся круче.
– Я ж его у дрессировщика забрал, – пояснил Габуния, отдуваясь. Должно быть, гад, тиранил чем-то похожим… Ты пойдешь или нет, мерзавец?!
– Да ладно, – офицер махнул рукой. – Не мучьте его. Я вижу. Он же гладкошерстный, ничего не спрячешь. Пройдите между стойками. Хоть и не положено…
И с достоинством отвернулся.
* * *
– Ишь, фараоны! – ворчал Габуния. – Габунию не пускать! Да я бы их в бараний рог свернул!.. Собака. Тоже мне. А та – не собака? Спасибо, что словечко замолвили… Тоже мне – собака!..
Почему-то он то и дело озирался. Цветозона светилась тревожным малиновым цветом, снизу и вовсе наливаясь пурпуром; зона турбулентности, необычайно широкая, яростно бурлила, плеща яркими синими сполохами; базовая часть ее горела неровным нервным багрянцем, в котором плясали беспокойные синие искры, – ну прямо электросварка.
Шли медленно, поскольку складчатый Тамерлан почему-то едва волочил лапы. Габуния фыркал в густые усы, хмурил такие же густые и черные брови, но собаку не торопил.
– Ишь, нагромоздил Топоруков, – гудел он, поглядывая по сторонам. Деньги ему некуда девать! Смотреть противно… Сколько хожу, никак не привыкну… Вот мерзавец, а?
Они стояли при входе в большой круглый зал. Кобальтово-синий свод украшали золотые светила зодиакальных созвездий. Под куполом, сходящимся в сияющий плафон, под тягучие звуки пижжака порхали полупрозрачные фигурки ангелов и гурий.
– Ну-ка, взбодрись, – сказал Габуния, дергая поводок. Тамерлан упрямо норовил добраться языком или зубами не то до бока, не то даже до живота, должно быть, чтобы выгрызть блоху. Габуния почему-то делать этого ему не разрешал, всякий раз пресекая его попытки рывком поводка. – Я т-т-тебе! Сидеть!.. Вы один?
Найденов кивнул.
– Ну и куда направитесь? – спросил Габуния, не сводя глаз с собаки. Могу составить компанию, если хотите.
– Буду рад, – Найденов оглянулся, рассматривая разноцветные порталы. А куда надо?
– Там Золотой, – махнул свободной рукой Габуния. – Тот Серебряный. Вот Бронзовый. Самый вкусный – этот, Железный. Тут попроще. По-человечески. Без особых изысков. А то, знаете… – Он осуждающе покачал головой. – Посуды наставят, а жрать нечего. Я так не люблю. По мне – пусть одна тарелка, да зато чтоб мясо горой. Я т-т-т-тебе!..
Возле каждого из ресторанных входов стояли два официанта в одеяниях соответствующего цвета и мамелюкский офицер в привычной черно-синей форме, при палаше.
Когда огромный складчатый Тамерлан доковылял и понуро сел, свесив мокрый язык, у порога Железного, официанты опасливо отступили. Мамелюк не дрогнул, только пуще вытянулся.
– Попрошу билетики, – сказал он и добавил: – С собакой не положено.
– Это ты Горшкову-то объясни, – буркнул Габуния. – Укажи ему на ошибку. Мол, так и так, Константин Сергеевич, зря вы тут всяких с собаками… Что молчишь? Габунию не признал?
– Простите, Сандро Алиханович, – стушевался мамелюк.
– То-то, – ответил Габуния. – В другой раз смотри. Я т-т-тебе! Пошел!..
Найденов показал билет (мамелюк поклонился и прижал руку к груди) и двинулся следом.
Стены Железного зала сплошь заплетала кованая вязь стеблей и цветов. Огромное окно – стрельчатое, в форме плоской луковицы – было обрамлено густой и звонкой путаницей колючих роз и мелких лилий. За прихотливыми завитушками оконного переплета вдали по яркому небу Рабад-центра ползли белоснежные облака.
– Куда? – спросил Габуния, озираясь. – К окошку, что ли?..
Два или три десятка железных, без скатертей, столов, за которыми тут и там посиживала публика, стояли негусто, на довольно значительном расстоянии друг от друга. Возле каждого рос из пола причудливый стебель кованого торшера.
– Прошу вас!
Стараясь не греметь, официант отодвинул железный стул. Найденов сел. Стул сквозь штаны ощутимо холодил тело.
– Собачке мисочку прикажете? – уже приветливо спрашивал официант, усаживая Габунию.
Найденов им просто залюбовался – цветозона у официанта была ровного светло-голубого цвета, турбулентность отсутствовала вовсе. Судя по всему, он пребывал в состоянии редкостной безмятежности. Возможно, это было связано с тем, что угощение входило в стоимость билета кисмет-лотереи; следовательно, поскольку чаевых не предполагалось, его душевного покоя не смущала даже мысль о том, как велики они окажутся.
– Может быть, водички песику? Не желаете?
Тамерлан поднял на него взгляд горестных глаз и глухо завыл.
– Э! э! – сказал Габуния. – Ты чего?.. Вот я тебе! Лежать!
Он дернул поводок, и пес нехотя положил голову на лапы.
– Давай-ка, брат, вот так, – пыхтел Габуния, внатяг привязывая поводок к основанию торшера. – Не криви рожу, не криви… Подружка-то твоя, собачонка-то эта визгливая, небось, в Золотом сидит, с фифой-то этой толстозадой… а? – Путаясь в поводке и бормоча, Габуния все зачем-то оглядывался – как будто ждал окрика. Найденов тоже невольно осмотрелся. Бесшумно скользили по залу темно-серые, со стальным проблеском, фраки официантов, маячили в стороне два или три синих мундира. – Вот так… лежи теперь, не журись… Сейчас похлебать чего-нибудь принесут. Или не будешь?
Тамерлан закрыл глаза.
– Ну и кляп с тобой, – сказал Габуния, недовольно кривясь. – Убери.
Официант захлопнул приготовленное было меню и убрал за спину.
– Теперь нарзану давай первым делом. Вот. Сузьмы давай. Кинзу помельче пусть рубят. Рейханчику побольше. В общем, как всегда. Потом… Уйгурские как?
– Выше всяких похвал, – поклонился безмятежный официант. Исключительные.
– Вот, – Габуния удовлетворенно кивнул. – Пару уйгурских. Да чтобы сильно не прожаривали… Мастава… э-э-э… нет, маставы не надо… что нажираться-то, да? – Он вытаращился на Найденова, будто ожидая поддержки. Найденов пожал плечами. – Не надо маставы. Пить… нет, пить нам сегодня ни к чему. В другой раз выпьем, понял?