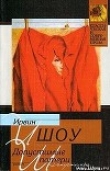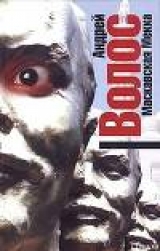
Текст книги "Маскавская Мекка"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Голопольск, четверг. «Са… са…»
В темноте шагали молча, друг за другом. Скоро под ногами захрустел мокрый гравий. На станции горели два подслеповатых фонаря, дождь косо падал в желтых кругах света. Со стороны депо доносился какой-то скрежет, стук, звон железа. Двери нескольких ангаров были раскрыты, в глубине горел свет, шарахались огромные, под крышу, тени.
– Что это они зашевелились? – удивленно спросил Твердунин, останавливаясь у прорехи забора. – Смотри, Кирьян, – паровозы, что ли, раскочегаривают? Ну дела!..
– А как же! – хмыкнул Кирьян. – Куда ж без паровозов, если мобилизация…
Твердунин хотел было спросить, что еще к чертям за мобилизация, но вовремя спохватился. Ему было не к лицу задавать такие вопросы. У него жена секретарь райкома; он, по идее, все всегда раньше других знать должен… Однако обычно Игнатий Михайлович почему-то узнавал новости последним, и делать хорошую мину при плохой игре ему было не привыкать стать.
– Ну да, – кивнул он, пожевав губами и сердито взглянув на Кирьяна. – Я и говорю…
– Ты только вот что мне растолкуй, – смиренно попросил Кирьян, шагая за ним. – Шура-то, небось, разъясняла. Вот говорят: мобилизация добровольческих отрядов. А я не пойму. Какие же добровольческие, если мобилизация? Добровольческие – это когда добровольно. А мобилизация – это хочешь, не хочешь, а повестку в зубы, и пошел.
Твердунин ответил не сразу. Сделав несколько шагов, буркнул:
– Ладно, не умничай… Какие! Такие вот именно… добровольческие.
В депо что-то ухнуло, зашипело. Над одним из ангаров поднялось плотное облако пара.
– Ресиверы продувают, – сказал Кирьян, потом добавил неуверенно: – Да мне уж сорок семь, не загребут, наверное… А тебе сколько, Михалыч?
– Сорок два.
– Смотри-ка… Молодой еще.
Твердунин только хмыкнул и почесал в затылке.
Они перешли два рельсовых пути и свернули налево вдоль одного из них. Гравий скрежетал под ногами. Мокрая трава пахла острой полынной прелью. Кирьян часто спотыкался.
– Эх, бесхозяйственность! – вздохнул он. – Лежат, ржавеют…
– Ты о чем?
– Да о рельсах.
– Тьфу!
– Ты глаза-то разуй! – запротестовал Кирьян. – Ведь сколько добра пропадает! Все ржа поест!.. Поговори ты, за ради господа, с Шурой! Ну не самому же мне к ней на прием идти? Неужто нельзя по-родственному? Который год толкуем! Так, мол, и так, рельсы лежат, гниют без всякого толку. Лучше их снять и использовать. В крайнем случае – людям раздать. Эх, мне бы парочку рельс! Я б тогда…
– Рассказывал. Не хочет она, – прогудел Твердунин.
– Да почему?
– Потому что нельзя рельсы разбирать.
– Почему нельзя?! Сейчас-то нельзя, это верно… В Маскаве революция, надо помогать, им без нас никак… паровозы в порядок приведем, в Маскав двинем… дело добровольческое, без паровозов никуда… согласен. Ну а после-то, после, когда утихнет! Думаешь, всегда будут эти паровозы ездить? Да не будут они ездить… Сам знаешь, вон, в Сосновке-то – давно уже разобрали.
Твердунин фыркнул и некоторое время шагал молча, хрустя гравием и напряженно сопя. Со слов Кирьяна он уже составил приблизительную картину происходящего в мире, но ясности в деталях еще не было.
– Вот и видно, что ты дурак, – сказал он. – Разобрали в Сосновке… было дело. Да что разобрали? Запасной путь разобрали. И основной разобрать хотели, да. По близорукости. По политической недальновидности. А потом им Клейменов Михаил Кузьмич дал по башкам – и как рукой сняло!.. Ты разве не видишь, что делается?! Ресиверы продувают! Топки раскочегаривают! В Маскаве революция! А ты со своими рельсами опять. Как же без рельсов? Ты чего-то, Кирьян, того! Политически близорук, вот какое дело.
– Ну, начинается, – вяло пробормотал Кирьян.
– То есть, ты что же, – спросил Твердунин, почему-то останавливаясь. Не веришь в победу гумунизма?
– Да верю я, верю! – плаксиво возразил Кирьян. – Верю, конечно! Кто ж не верит! Очевидная вещь. Тоже, конечно, наворочено… – осторожно добавил он. – Нет, ну не всему же верить-то, Михалыч? Или всему?
– Всему, – кивнул Твердунин, трогаясь.
– Ну да… а мне бабка рассказывала, что Виталин был пяти метров росту…
Твердунин снова засопел.
– И что левой рукой трактор поднимал… а когда враги гумунизма его заморили, то тело положили в хрустальный гроб и повесили в одной укромной пещере где-то за Нижневолоцком. И когда час пробьет, он проснется, встанет, выйдет на волю и наведет порядок, и тогда все пойдет гораздо лучше, и талоны будут отоваривать совершенно без задержек… да? Тоже, что ли?
– Ну, хрустальный не хрустальный… – проворчал Твердунин. – И пять не пять. Где это видано – пять. Пять – это уж слишком. Ну – три! Ну – три с половиной! Три семьдесят, в конце концов… А пять?.. м-м-м… не знаю. И что ты мне, вообще, бабкой своей голову морочишь! – неожиданно взъярился он. – Ты бабок-то меньше слушай! Надо к действительности критически. С пониманием. Есть научная теория гумунизма. Там точно сказано: выйдет за пределы края и победит во всем мире. Что непонятного?
– Да понятно все, чего там… я вот только про рельсы хотел, а ты…
– И, между прочим, все подтверждается. Как по писаному. Вон, в Маскаве уже началось и… Стой! – сказал вдруг Твердунин и, пошатнувшись, снова остановился – на этот раз так резко, что Кирьян ткнулся носом ему в воротник.
– Чего?
– Ты вот все трандычишь, – с осуждением сказал Игнатий Михайлович. Рельсы, рельсы!.. Рельсы тебя волнуют. Дурь одна в голове. А о деле не думаешь.
– О каком деле?
– О каком… Не знаешь?
– Не знаю.
– Вот придем мы сейчас к Горюнову… а?
– Ну, придем.
– А я к нему в первый раз… а?
– Ну, в первый.
– То-то и оно, что в первый.
– Ну и что?
– Не понимает, – хмыкнул Твердунин. – Простая вещь – а не понимает.
– Так а чего же мы тогда к станции поперлись? – обиженно спросил Кирьян.
– Это ты сказал – к станции! Вот и поперлись.
– Ну ты даешь, Михалыч, – Кирьян поежился, озираясь. – Теперь назад, что ли, тащиться?..
Потоптавшись, повернули назад и скоро вышли к площади.
– Вон, видишь, – показал Твердунин на четыре ярко горящие окна райкома. – Днюет и ночует. А ты, понимаешь, говоришь – балочки! Говоришь, понимаешь, – рельсы!..
Они поднялись по ступенькам и вошли в магазин. Минут через десять дверь снова раскрылась, и разгоряченный Твердунин в облаке пара, как из бани, вывалился на крыльцо.
– …глупости-то болтать! – криком заканчивал он фразу. – И-и-и-ишь, вороны!..
Кирьян вышел следом. Двинулись направо – в сторону старого сада.
– Да уж, – бормотал Кирьян, качая головой и бережно придерживая оттопыренные карманы ватника. – Дела. Чего только в этих очередях не наслушаешься.
– Да ну! – недовольно гремел Твердунин. – Что несут? С Дону с моря несут, вот и все. Болтает Верка! Ой, болтает. Не может этого быть!
– Кто ее разберет, – отвечал Кирьян. – Может, как говорится, сорока на хвосте принесла…
– Поукоротят им хвосты-то, будьте уверены! Мелет невесть чего. Мели Емеля, твоя неделя. Домелешься, по статье пойдешь. Лесов-то много. Рук не хватает. Теперь и кочегары нарасхват…
– Кто ее знает, Михалыч. Может, как говорится, за что купила, за то и продает.
– Напродается она… такое-то языком трепать. По головке не погладят. Пятерик – и до свидания. Тут вон в Маскаве невесть чего делается!.. уже ресиверы продули!.. а они знай городят. Башками-то лучше бы поворочали! Вороны! Дождутся, пропишут по первое число. Зеленую улицу, как говорится… а не балаболь.
– Это верно: что балаболить-то? Ну, а с другой-то стороны подумать – и впрямь: куда его девать?
Некоторое время Твердунин, шумно дыша, шагал молча.
– В переплавку, – решительно сказал он в конце концов. – И отлить новый.
– В какую переплавку, Михалыч? Он же гипсовый… Постой-ка. Не спеши. Этот, что ли, дом-то? Ничего не пойму. У Савельича, вроде, штакетник…
Твердунин заворчал что-то.
– Тут разве? – бормотал между тем Кирьян, озираясь. – Хрен его знает. Я сам к нему пару раз всего и заходил-то. Ладно, сюда давай.
Они принялись стучать в ворота. Собаки во дворе не было, поэтому стучали долго. Наконец скрипнула дверь и грубый голос спросил:
– Ну какого ты там колотишь?! Я вот по башке сейчас кому-то поколочу!
– Савельич! – обрадованно крикнул Кирьян. – Слышь, Савельич! Это я, Попонов! Я Михалыча привел!
– Ну? – так же обрадованно отозвался голос. – Сейчас, погодите…
Долго топали на крыльце, потом чертыхались и гремели ведрами в темных сенцах.
Горюнов был бос, завязочки галифе волочились по полу, а голубая майка плотно облекала мощное тулово.
– Дык, понимаешь, – смущенно толковал Твердунин, оглядываясь. – Я говорю – может, не надо. А Кирьян говорит – чего там. Ну, вот… принимай. Мы вообще-то за сапогами.
Кирьян протянул бутылки.
– За сапогами? – удивился Горюнов. – Вы чего? Да я бы сам принес, Михалыч. Ира! Где Михалычевы сапоги? В кладовке?
Из кухоньки, вытирая руки о передник и приветливо улыбаясь, выглянула жена Горюнова.
– Ой, какие гости-то у нас! – умильно пропела она. – Митька, ну-ка вынь сапоги! Под кроватью!
– Вот! Так и знал. Теперь сапоги, – не пошевелившись, угрюмо отозвался золотушный мальчик лет двенадцати.
– Батя, подвиньтесь, – приказал Горюнов.
– Уж вы извините, – трандычила жена. – Уж теснота у нас, теснота!.. не повернешься!
– В тесноте, да не в обиде, – отмахнулся Кирьян. – Мы на минуточку.
Старик, сидевший у стола, оглядел гостей сощуренным взглядом прозрачных глаз, закряхтел и стал послушно перебираться в угол, повторяя с выражением натужной приветливости:
– Добро пожаловать… конечно!.. с нашим удовольствием… пожалуйте!..
– Ира! – воодушевленно продолжил хозяин дома. – Давай-ка нам капустки, огуречиков! Да картошечки поставь!.. Садитесь пока, садитесь. В ногах правды нет. Ну-ка, батя. Опять вы не у места. Подвиньтесь… или сядьте вон на сундук. Не видите? – не пролезу. Я стакашки… вот они, родимые.
– Сынок, да ты меня загонял, – сказал Савелий Трифонович, но все же закряхтел и вновь принялся пересаживаться.
Твердунин осторожно попробовал стул – не шатается ли.
– Стройными рядами, – весело толковал Горюнов, расставляя объемистые граненые стаканчики и небольшие тарелки. – Как на параде. – И вдруг всполошился: – А помидоры-то! Тещины помидоры-то!.. Ну-ка, выложи в мисочку!
Буквально через минуту появились и огурцы, и капуста, и лоснящиеся помидоры, томно лежащие в прохладном рассоле.
– Хороша закуска – кислая капустка, – балагурил Горюнов, тасуя миски по столу с целью, видимо, опытным путем отыскать схему их оптимального расположения. – И подать не стыдно, и сожрут – не жалко! А, Кирьян? Подсаживайся, подсаживайся! Что ты как просватанный! Михалыч! Помидорчика!
Кирьян придвинул стул, а Игнатий Михалыч уже крякнул, поиграл ноздрями и выщупал себе самый большой, к которому прилипла укропная веточка.
– Ты бы китель накинул, – сказала Ира, любовно оглядывая мужа.
– Подожди! – озабоченно отмахнулся тот. – По скольку наливать-то?
Твердунин поднял брови и вопросительно посмотрел на Кирьяна.
– Ты, Савельич, наливай по полной, – посоветовал тот. – Лучше не допьем.
– Батя, вы будете?
– Ой, Витюша, его же потом не остановишь, – страдальчески сморщилась Ира.
– Ну что ты, Ира, – жалобно сказал старик. – Ну почему? Немножко-то… У меня и день сегодня такой неприятный. Я же рассказывал: пришел с калэсом, честь по чести… а она меня теорией этой дур… – поперхнулся, испуганно посмотрев на Твердунина; но его все равно никто не слушал, – и Савелий Трифонович только с горечью махнул рукой, беззвучно дошевеливая губами окончание фразы.
– Батя есть батя, – рассудительно произнес Горюнов. – Ничего не попишешь.
И налил еще один стаканчик.
– Будем, – сказал он затем.
– Будем, – согласился Твердунин, сразу же запрокидывая голову: только движение кадыка отметило, что жидкость пролилась по назначению; зажмурился, присосавшись к помидорной кожице, с хлюпаньем втянул сок и, мыча, утерся тыльной стороной ладони.
– Будем! – кивнул Кирьян, мелко выпил, значительно посопел и стал без спешки накручивать вилкой блондинистую прядь квашеной капусты.
Ира жеманно задышала, маша ладошкой, и тут же принялась бойко хрустеть огурцом, а старик безмолвно проглотил водку, потянулся было к закуске, да так ничего и не выбрал.
– Да-а-а, – с сожалением протянул Твердунин.
– А я считаю – правильно! – сказал Кирьян.
– Что – правильно? – спросил Горюнов.
– Да про мавзолей-то этот.
– Да не может этого быть, – сказал Твердунин.
– А! Мавзолей-то? Есть такое дело! – почему-то обрадовался Горюнов, разливая по второй. – Почему неправильно? Почему не может быть? Я еще на службе узнал. Клопенко распорядился: шестьдесят голов на бетонный. Я говорю – да вроде недавно брали? А он: так и так, говорит. Мавзолей, говорит. Такие дела. Надо, говорит, помочь. Завтра пораньше двинусь. Часикам к шести, закончил он и приосанился.
Старик что-то пробормотал. Ира бросила на него испепеляющий взгляд, и он сделал вид, что поперхнулся.
– Опять тебя! – сказала Ира, вновь глядя на мужа. – А почему ты? Почему к шести? Ты же к восьми должен! Как что – сразу тебя! Других-то нету, что ли? Козельцов почему не может распорядиться?
– Ай, перестань! Ты что, не понимаешь? Это дело серьезное. Козельцов! Козельцов так и будет в капитанах всю жизнь сидеть. А я майора скоро получу. Есть разница?
– Ну прямо так и тычут во все дырки, – с горделивым недовольством заметила Ира. – Ужас один. Ни с ребенком заняться, ни чего. Чуть что Горюнов. Через день на ремень.
– Да ладно тебе, – вздохнул Горюнов. – Будем!
Выпили по второй, и разговор чрезвычайно оживился. Твердунин настаивал на том, что строить мавзолей для памятника – нелепость, и делать этого не следует; что, конечно, если бы монумент был бронзовым, можно было бы пустить его в переплавку; поскольку же речь идет о гипсовом, он видит только один выход – разжулькать напильниками в пыль, а затем из этой пыли, замешав на воде, слепить новый. Кирьян осторожно поддакивал, однако часто повторял, что там тоже, мол, не дураки сидят, – и всякий раз Твердунин хмурил брови, словно чего-то никак не мог вспомнить. Горюнов твердил о трудностях погрузки бетонных плит в отсутствии тельферных кранов. Кроме того, он то и дело подтверждал правдивость сведений о мобилизации, не забывая всякий раз отметить, что у него, к сожалению, и в тылу работы хватает, а то бы он по-солдатски: скатку на плечо да и айда. Ира испуганно ойкала, прикладывала ладони к щекам и жалостливо на него смотрела. Мальчик ковырял в носу, а то еще бросал шкурки от сала кошке, и тогда все поражались ее прожорливости. Старик помаргивал, не пытаясь вставить слова, только время от времени вздыхал и бухтел что-то себе под нос; Твердунин расслышал: «Час от часу не легче», но не понял, к чему это относится. Разрумянившаяся выше всяких мер Ира подала картошку с возгласом: «Маслица! маслица!..» Выпили по третьей, и Твердунин веско объявил, что о переплавке не может быть и речи, поскольку памятник гипсовый, а только дураки не знают, что гипс не плавится ни при какой температуре и огнем его не взять; но уж если строить мавзолей, то двухэтажный, потому что в первом этаже можно устроить магазин и обувную мастерскую. Кирьян по-сорочьи встрепенулся и закричал, что если двухэтажный – так пусть Михалыч попросит Шурочку пригласить его на этот объект прорабом; и пусть, в конце концов, позволят ему снять с путей несколько ржавых рельс для перекрытий, тогда будет и разговор, а без рельс разговора никакого не будет. О втором этаже и рельсах толковали довольно долго. В конце концов Горюнов высказал мнение, что разбирать рельсы позволят, можно не сомневаться, дело это хорошее, полезное, вон Кирьяна-де послушать, – но только уже после революции в Маскаве, когда гумунизм выйдет за пределы. А пока, наоборот, дана команда в разрезе мобилизации следить за путями, горками и подвижным составом, какового, паровозов то есть, на его взгляд, много не понадобится: до Маскава рукой подать, можно и пару рейсов сгоношить – был бы только уголек, а воды в любой луже сапогом почерпнуть. Сказав это, он потянулся было наливать по четвертой, как вдруг старик, до той поры безмолвно поглощавший водку, раскрыл рот и громко заговорил дребезжащим голосом – так, словно в нем с какого-то случайного места пошла крутиться пленка:
– …ибо не веруем ни во что, кроме безграничности материи, и не видим вместилища, где могла бы скрываться какая-либо иная нематериальная сила, кроме единственно признаваемой нами – человеческой мысли. Если угодно, материя – наш Бог, однако слово Бог здесь является всего лишь аббревиатурой выражения «без определения границ». Не следует относить нас ни к вульгарным материалистам, ни к механицистам. И те и другие стоят на позициях принципиальной познаваемости мира, в то время как мы полагаем мир принципиально непознаваемым. Сами себя мы называем религиозными материалистами. Поясним термин…
Твердунин поперхнулся, откашлялся и, вскинув брови, посмотрел на старика.
– Ну-у-у-у, понеслась душа в рай, – стукнув о стол вилкой, с досадой сказал Горюнов.
– Вы не обращайте внимания, – сконфужено попросила Ира. – Он как выпьет, такую чушь начинает нести – ужас один.
– Да ладно… что уж.
– Савельич, передай-ка помидорчики.
– Капустки, капустки возьмите. Своя капустка-то.
– Ну, будем.
– …хотя бы сотворение мира. Говоря общо, возникновение идеи Бога является всего лишь актом интеллектуального произвола, направленного на то, чтобы сгладить противоречие между присущим человеку стремлением познать мир и фактом его, мира, принципиальной непознаваемости. Таким образом…
– Может, ему таблетку какую? – недовольно чавкая, спросил Твердунин. Чего он несет? Ну в самом деле: сидят люди. О серьезных вещах… а тут на тебе.
– Я тебе говорила! – взвинченно отозвалась захмелевшая Ира. – Видишь, Игнатий Михайлович недоволен. Я говори-и-и-и-ила!..
– Да ладно, ну чего вы, – добродушно рассмеялся Горюнов. – Батя есть батя. Давайте его отодвинем, и дело с концом.
Он поднялся и, придержав старика за голову (тот не переставал монотонно говорить), отвез вместе с сундуком на полтора метра к комоду.
– Ну, вот. Делов-то куча.
– Помидорчики, помидорчики берите.
– Савельич, передай-ка огуречик.
– …помидорчики!
– Ну куда, куда… уж на одном, как говорится, сижу, другой изо рта торчит.
– Ха-ха-ха! Ой, вы скажете, Игнатий Михайлович!
– Михалыч ска-а-а-ажет…
– Картошечки.
– Ну, будем.
Все замолчали, поднося ко рту стакашки, и стало слышно:
– …заключить, что идея Бога и само слово Бог является всего лишь обозначением и поименованием той части мира и той части законов его развития, о которых человек не может, но хочет иметь представление. Возвращаясь же к вопросу…
Шум устанавливаемых стаканов, хруст огурцов, хлюпанье и чавканье заглушили последующее, а еще через секунду все и вовсе загомонили хором, потому что вслед за хлопком входной двери на пороге комнаты появилась новая фигура.
– А что это у вас все нараспашку? – лукаво и весело спросила женщина и тут же сорвала с кудрявых черных волос покрывавший их цветастый платок. Была она худенькой, с мелкими чертами физиономии и мышиной мелкозубой же улыбкой, что, впрочем, не мешало ее лицу оставаться довольно смазливым. – Не поворуют вас тут всех?
– Лизка! – громко воскликнула Ира. – Ну-ка, быстренько!
И принялась усаживать ее за стол.
– Да я за солью, – жеманилась Лизка. – Что ты, Ирка! За солью же я на минуточку. Что же я вам стану портить!
Твердунин встал и, каменно пошатнувшись, галантно взял ее под локоток.
– Ой, да что ж это! – смеялась и лепетала Лизка, зыркая по сторонам подведенными зелеными глазками. – Куда ж вы меня тянете, мужчина! Вы же меня сломаете! Больно же! Вы меня еще ударьте!
– Больно? – удивился Твердунин и возразил, смеясь: – Нет, я никогда не бью нежного женского тела!..
А Ира мельком прильнула к ней и что-то шепнула.
– Эх, мороз, мороз! – пунцовея и совершая руками взмахи, похожие на те, какими дирижеры управляют большими оркестрами, что есть силы закричал вдруг Кирьян. – Не морозь меня-я-я-я-я!
– Не морозь коня-я-я-я! – отозвался Горюнов и тоже начал дирижировать. – Моего… черт… опять, что ли, коня?
– У меня жена-а-а-а! – лукаво заголосила Лизка, усаживаясь наконец рядом с Твердуниным и кокетливо поправляя юбку. – Ой, ревнивая-я-я-я-я!
– Ждет да ждет меня-я-я-я! – протянул, словно вынул кишку, Кирьян.
– Моего коня-я-я-я! – закончил Горюнов совершенно впопад.
– Отлично! – крикнул он затем. – Васька! Ну-ка, музыку нам сооруди!
Мальчик захлопал в ладоши и закричал «ура», торопливо поснимал с салфетки слоников, сорвал саму салфетку, поднял крышку радиолы, пощелкал – и что-то вдруг громко зашипело, и высокий мужской голос запел: «В парке Чаи-и-и-и-ир-р-р-распускаются р-р-ро-о-о-озы, в парке Чаи-и-и-и-ир наступает весна-а-а-а!..»
– Картошечки! – не уставала напоминать Ира. – Огурчиков!
– Позвольте! – сказал Твердунин. – На танец. Не желаете?
– Да где ж тут танцевать? Тут же негде! – сказала Лизка кокетливо, но потом расхохоталась и положила руки ему на плечи.
Твердунин широко улыбался, стесняясь смотреть ей в глаза. Они стали перетаптываться посреди комнаты на квадратном метре свободного пространства, стараясь не наступать друг другу на ноги. Твердунин держал ее за талию, чувствуя, что под блузкой есть еще какая-то одежда, какая-то скользкая ткань, – и почему-то именно это волновало его еще больше.
– Так сказать… хорошо танцуете, Лиза, – выдавил он. – Вообще, вы такая…
Лизка снова вдруг бесшумно расхохоталась, и тело ее внезапно ослабло настолько, что Твердунину стоило немалого труда удержать партнершу. Смеясь, она ткнулась лицом ему в шею, и, вся мягко подрагивая от этого обессиливающего смеха, стала сползать по нему, тесно прижимаясь и позволяя почувствовать все свои выпуклости и мягкоты.
– Ой, не смешите, – сказала она через несколько секунд, более или менее выправляясь.
Но стоило покрасневшему Твердунину буркнуть что-то о том, что он вовсе и не смешит, как Лизка снова затряслась и опять начала желеисто сползать, как будто теряя сознание.
Когда музыка смолкла, Твердунин только тяжело дышал и пошатывался и все никак не мог разжать рук, но в конце концов с сожалением отпустил, сел за стол и, счастливо ловя ее смеющийся взгляд, налил себе полный стаканчик.
– Давайте, Лиза! – сказал он. – Будемте, Лиза! Вы такая веселая!
Потом снова танцевали, шумели, пили. Когда Лизка вышла зачем-то в кухоньку, Твердунин побрел за ней, и там она снова смеялась, терпеливо отводя его руки, но время от времени позволяя все же коснуться груди, а потом неожиданно и кратко впилась в губы, и тут же, ловко вывернувшись, со смехом ускользнула. Ночь глубоко наползла на город, когда Игнатий Михайлович обнаружил, что стоит в прихожей, и Кирьян надевает на него плащ.
– А сапоги-то! – воскликнула Ира.
– Да, сапоги, – сказал Горюнов.
Он наклонился за сапогами, едва при этом не повалившись, и повесил их, связанные бечевкой за ушки, на шею Твердунину.
– М-м-м-му-у-у-у… – сказал Твердунин, озираясь, и наткнулся, наконец, взглядом на двоящееся Лизкино лицо. – Ты… иди…
Он хотел сказать «иди со мной, мы будем счастливы», но Лизка поняла его иначе, сделала шаг, сдвинула мешавшие ей сапоги и чмокнула в щеку, сказав:
– До свидания, Игнатий Михайлович.
Кирьян начал толкать его к двери, а Твердунин упирался и тянул назад, потому что ему хотелось объяснить ей, что жизнь его до этого вечера шла зря, а теперь, наконец, обрела смысл, – но стало темно, а под ногами зачавкало. Они шли медленно, то и дело останавливаясь, потому что Твердунин все куда-то рвался, и Кирьяну приходилось держать его за грудки. Было скользко, и в третий раз Игнатий Михайлович упал возле самого крыльца, шумно расплескав большую лужу, которая, впрочем, немедленно пополнилась, поскольку дождь хлестал не переставая.
Дверь распахнулась перед ним, опалив светом, и он сказал, в изумлении обнаружив перед собой Шурочкино лицо:
– Са… са…
Она ахнула, прижимая ладони к щекам.
– Сапоги, – выговорил Твердунин.
Александра Васильевна взвизгнула, сорвала с него эти проклятые сапоги и, размахнувшись, хлестанула по морде голенищами со всей силой бушующего в ней смятения.