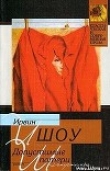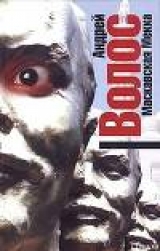
Текст книги "Маскавская Мекка"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
– То-то и оно, что будущее, – дрожащим голосом сказал Горюнов. – То-то и оно!
– Вот видите, вы согласны! А все эти, – усмехаясь, она снова вкрутила лампочку, – селениты все эти ваши, все эти ваши тыщи лет под землей, – пусть уж другие. Нам не до того. Пусть кому делать нечего. А мы прямой дорогой. Согласны?
И весело хлопнула ладонями по столу, показывая, что разговор окончен.
Маскав, четверг. Пропажа
Было похоже, что сегодня этот троллейбус целый день только и делал, что стоял в пробках да тратил время попусту, заправляя в провода сорвавшиеся усы, и только поздним вечером смог, наконец, насладиться роскошью свободного движения. Он гремел, содрогался, расплескивал лужи и выл; подкатывая к остановкам, издалека распахивал двери, а остановившись на секунду, тут же рвал с места, заставляя пассажиров падать друг на друга и матерно браниться; и снова выл, набирая скорость, и снова бешено хлопал не успевшими закрыться дверями.
Крепко держась за поручень, Настя стояла у заднего окна и смотрела в темноту, где шумел дождь и маячили какие-то огни.
Мысли бежали все по одному и тому же кругу, как собаки, надеющиеся найти в глухой загородке хоть какую-нибудь щель и выбраться наружу. Но щели не было.
Господи, ну откуда он взялся, этот проклятый билет? (Иногда, сама того не замечая, она начинала беззвучно прошептывать все то, что вертелось в голове.) Ведь мог бы пройти, не заметить, мог не понять, что это такое… Какой-то паразит потерял билет… Нормальный человек бы от этого билета бегом… так нет же: я пойду на кисмет-лотерею! Я готов идти на кисмет-лотерею!
И зачем, зачем она так глупо вспылила? Как будто в первый раз… Давным-давно известно: уж если что-нибудь втемяшилось – все, хоть кол на голове теши. Тысячу раз зарекалась. Надо было как-то иначе… да что теперь об этом думать!
Заринка не расспрашивала, слава богу… умная, добрая… лишнего слова не скажет. Начнешь сама – выслушает сочувственно, поможет, чем может, а не хочешь – в душу не полезет. Сколько институтских подружек было – и где теперь? А они всего месяца четыре в одной бригаде «скорой» работали – Настя врачом, Зарина Махкамова сестрой, – сколько уж лет прошло, а все как родные. Чай. Сушки. Варенье из кабачков, будь оно неладно… вся на иголках… Заринка уже прикидывала, как ложиться, удобно ли Насте на кухне… и вдруг ее как шибанет! – ведь Леша-то, пока она тут чаи распивает!..
Троллейбус летел по улице, шатаясь из стороны в сторону. Соединительная гармошка скрипела и весело прихлопывала.
Ничего, ладно. Сейчас она приедет – и все будет хорошо. Он не мог уйти. Конечно же: он дома. Сидит на табуретке у окна. Смотрит на дождь. Он любит смотреть на дождь. Я тебя очень прошу: сиди на табуретке и смотри на дождь. Ты любишь смотреть на дождь. Дождись меня. Ну пожалуйста!..
Она поглядывала на часы, испытывая давно забытое детское отчаяние. Тогда было так же. Время текло своим порядком, а отец все не возвращался. Солнце садилось за ряды многоэтажек и дальние дымы, уходило, на прощание вызолотив всю комнату и чудесно преобразив немытые стекла в радужные витражи. Холодное питерское небо из серо-голубого становилось сначала просто серым, потом возникали на нем, темнеющем, белесые пятна. Но не скрежетал ключ в замке, не хлопала дверь… Если прижаться щекой к стеклу, можно увидеть дорожку к дому от квадратной арки соседнего. В желтом пятне фонарного света блестел снег. Вот снова черный силуэт. Нет, это дядя с портфелем… нет, это мальчик с собакой… нет, это просто пьяный дядя… нет, это тетя с сумкой… нет, это опять пьяный дядя… нет, это две чужие тети с сумками… Где же, где? Она отходила от окна, делая вид, что не чувствует тревоги и страха, не замечает, как меняется комната. А стены уже кривились, нависая; повсюду начинали незаметно напрягаться опасные мускулы. Стол сгущал под собой враждебную тень, из-под шкафа медленной лужицей вытекала гуталиновая тьма, плоской лапой тянулась к дивану…
Она поджимала ноги, закрывала глаза, чтобы не бояться, и начинала думать о том, как они с папой соберутся и уедут в Гумкрай. Да, да! – ведь уехал же в Гумкрай дядя Федор! Это будет скоро, скоро! Здесь зима, снег, метель… надоело! Они соберут кое-какие вещи – не забыть бы желтого зайца! – сядут в поезд и поедут, поедут! Будут мелькать дома и заборы, дороги и деревья… Питер останется позади. Дальше, дальше – ту-ту-ту-ту-ту!.. Смеющийся дядя Федор встретит их у железных ступеней вагона с букетом красных цветов, тетя Зоя прижмет к себе, и от нее будет пахнуть духами и пудрой. И все кругом будут такие радостные, счастливые. Смеясь, дядя Федор поднимет чемодан, папа тоже рассмеется и подхватит второй – и они пойдут по солнечному перрону, над которым свежий ветер плещет флагами! И жизнь начнется такая хорошая, такая счастливая и веселая, что она даже не будет вспоминать, что у всех есть мамы, а у нее нет.
…Бог ты мой, как же его мотает!
– Ух ты! – восхищенно произнесла рожа, возникшая из-за спины. – Какая де-е-е-евушка! Девушка, а девушка… вам время сказать?
Принесла нелегкая.
– Время сказать? – настаивала рожа. – Мы с вами не опаздываем?
– Да пошел ты, – лениво процедила Настя, не поворачивая головы.
– Эх, девушка, девушка! – горестно произнесла рожа. Махнула рукой и нетвердо побрела между рядами сидений.
…А главное: ну при чем тут деньги? Деньги совершенно ни при чем. Разве мы боимся с голоду умереть? Ерунда, никто в Маскаве с голоду не умирает. Можешь лечь и не шевелиться – и все равно будешь получать четыре дирхама социального пособия. Правда ведь? На Майорку не поедешь, конечно… но на еду хватит. И на одежонку кое-какую – тоже. Зачем же ты говоришь деньги! Я понимаю: тебе нужна лаборатория! Если бы ты знал, как я хочу, чтобы у тебя была лаборатория! Чтобы ты мог спокойно работать!
Был бы у них ребенок, Алексей не собрался б ни на какую кисмет-лотерею!..
Троллейбус дергался и выл совершенно по-волчьи. Вот он снова разогнался и с размаху въехал в озеро лужи – фонтаны черной воды шумно взметнулись, залив стекла. Еще наддал, пеня воду, – и тут же стал люто тормозить, целя к новой остановке.
– Де-е-е-ргает, – нетрезво ухмыльнулся ледащий мужичок, сидевший на заднем сидении.
– Зулька! Зулька!..
В переднюю дверь взобрались две девочки-подростка и смеясь побежали по салону. Меньшей бежать было трудно, однако она все же не отставала от товарки – косолапо ковыляла, торопливо переставляя изуродованные полиомиелитом ноги в красных ботах. Первая, дегенеративно-смазливая блондинка, хохоча, повисла на поручне у гармошки – закинулась, продолжая громко смеяться и гыкать, то и дело высовывая при этом длинный розовый язык. Вторая дошкандыбала до задней площадки. Запрокинув голову и оскалившись счастливой гримасой веселья, она обессиленно повалилась на сиденье возле ледащего мужичка. Над грубовато-красивым лицом пышной шапкой курчавились влажные волосы, карие глаза влажно блестели.
– Зулька! – пронзительно крикнула она. – Хочу! Хочу! Ой, хочу, Зулька!
И, корчась от смеха, несколько раз сделала такое движение, будто быстро отталкивалась лыжными палками.
Мужичок поднял голову и мутно на нее посмотрел.
Вторая зашлась ответным хохотом; потом с восторгом выкрикнула:
– А вот ничего! До одиннадцати жди! Султан в одиннадцать только! – и тоже несколько раз толкнулась лыжными палками.
Этот простой жест совсем ее доконал – она повисла на поручне, визжа и постанывая.
– Ой, не могу! Не могу ждать! – Хромая откинулась на спинку и засучила ногами в красных резиновых ботах: – Уже все, все! Бешенство, блин! Хоть огурцом!..
– Огурцом! – прыснув, блондинка оторвалась от поручня и скачками кинулась к задней площадке. – Огурцом!
Она обняла подругу и стала тормошить ее, хохочущую:
– Огурцом давай, огурцом!
Хромая вырвалась, соскочила и стремительно проковыляла к дверям. Троллейбус тормозил, вихляясь всей длинной своей колбасиной.
– Огурцом! – орала высокая, вываливаясь вслед за подружкой. – Ой, блин, огурцом!..
– Дело молодое, – со вздохом пробормотал ледащий и закрыл глаза.
Двери закрылись; снова мелькали какие-то огни, снова качало и дергало.
Она смотрела на часы и думала: нет, конечно же, он еще не успел уйти.
Кренясь, троллейбус вылетел на круг и затормозил. Двери разъехались, а лампы салона погасли. Дождь низко висел над землей. Огни верхних этажей едва проглядывали сквозь белесый штрихованный туман.
Фонари не горели, улица освещалась лишь отраженным сиянием центра: где-то там полыхали миллионносвечовые лампионы, заливая площади пронзительным, ярче дневного, светом ночной жизни; коснувшись низких туч, эти лучи отражались и мутным белесым струением достигали окраины.
Дома здесь стояли, сбившись тесной гурьбой. Бесконечные окна, окна… сотни, тысячи окон. Большая часть была освещена. Окна причудливо перемигивались – одно гасло, на смену ему зажигалось другое. В этом подмигивании было что-то праздничное. За каждым из них живут люди: наверное, сидят за столом и пьют чай… и говорят о простых и понятных вещах… И она тоже могла бы сидеть и пить чай с каким-нибудь близким и понятным человеком, который, конечно, не поступил бы с ней вот так…
Вздохнув, поправила капюшон и прибавила шагу.
Справа тускнела асфальтированная площадь. При свете дня там кипела торговля, а сейчас дождь барабанил по пустым прилавкам да разломанным ящикам. Оттуда, где лепились друг к другу базарные забегаловки, тянуло дымом, слышалась музыка – должно быть, торговцы на ночь глядя подкреплялись самбусой и водкой. Слева темнели поставленные в ряд крытые грузовики-траки. У крайнего был откинут задний борт. Гортанно перекрикиваясь, несколько мужчин в мокрых телогрейках и сапогах сгружали сетки с капустой.
У первого же дома горстка пассажиров рассеялась – большая часть двинулась направо, к тридцатиэтажкам, в седьмую махаллю. Ей нужно было прямо, в десятую.
Впереди чернел остов сгоревшей весной мечети.
Дорожка выскользнула к заплеванному пустырю, по краю которого стояли ряды железных гаражей.
Мокрые кусты справа глухо шумели.
Плоский кирпич детского сада на фоне горящих окон дальнего дома был молчалив и темен. Зато сам дом казался чрезмерно ярким.
Дорожка поднялась на холмик.
Теперь дом был виден целиком – низ фасадной стены этажа до четвертого мягко озаряло розовое сияние пожара, и мерцающий отсвет гулял по стеклам.
Пожара не было, просто на детской площадке полыхали два больших костра.
Возле первого кричали и прыгали дети; некоторые с муравьиной сноровкой волокли к огню разный хлам от помойки.
Огромные тени, размахивая руками, прыгали по окнам.
У второго костра группа человек в шестьдесят слушала какого-то долговязого горлопана. Тот часто и резко отмахивал рукой – как будто беспрестанно совал кулаком кому-то в рожу. Мокрые волосы лоснились и отливали оранжевым светом костров.
После одного из его выкриков все заорали и стали поднимать, как он, сжатые кулаки.
На краю площадки визжала электрическая болгарка – там в неверном мерцающем свете пламени несколько человек споро резали на метровые куски гнутые трубы низкой металлической ограды. Возбужденные подростки суетились возле них, пособляя.
– Во! – сказал один, подхватывая новый обрезок и ловко им помахивая. Раз – и квас!
– Ты рукоять-то тряпкой обмотай, – посоветовал другой. – А то как дашь – все руки посушишь.
– По столбам-то не лупи, мля, так и не посушишь, – ухмыльнулся коренастый широкоплечий мужик, что держал болгарку. – Бей по мягкому…
Снова приладился, нажал курок механизма – опять завизжал диск, посыпались искры…
Настя невольно замедлила шаг, всматриваясь.
Точно – Володька Бабец, сосед с первого этажа. Известный в махалле человек. Вокруг него вечно клубился визгливый скандал: то жены тащили мужей из Бабцовой конуры, то сам он кого-то пинками изгонял, то православная милиция в лице казацкого патруля являлась по его грешную душу, то шариатский надзор ломился в некрепкую дверь. И что? – да ничего. Ну просто железный был этот Бабец – когда отбрехивался, а когда и отбивался.
Никогда прежде Настя не видела в его медвежьих лапах ничего, кроме авоськи с бутылками: с пустыми – когда Володька Бабец слоновьим шагом рулил к универсаму, с полными – когда возвращался. Окно его квартиры зимой и летом было настежь, оттуда тянуло табачной кислятиной, грязью, летел пьяный гам, песни или шум быстротечной драки. Единственное, чего никогда не происходило – так это хоть сколько-нибудь осмысленной трудовой деятельности.
Жизнь Бабца протекала во хмелю, в дымном пьяном безделье, которое, по логике вещей, должно было разрушить здоровье и подорвать силы. Тем не менее, он был необыкновенно силен – силен природной, зверьей силой, какой никогда не наработаешь упражнениями и спортом. Позавчера, например, Настя наблюдала, как Бабец вел к магазину кореша – тоже известную в махалле личность, сантехника Толика Хаматова по прозвищу Джин-Толик. Джин-Толик идти не хотел – вис и кособочился. На Бабца его судороги производили не большее впечатление, чем если бы это было колыхание воздушного шарика: шагал себе, изредка только покрякивая да мыча: «Ну чо ты? чо ты, мля, вихляешься?..»
Несколько лет назад она, случайно услышав его лениво-недоуменную фразу: «Вот блин, даже хлеба не на что купить!», механически сунула руку в карман и извлекла рубль. Бабец тогда в хмурой задумчивости стоял у подъезда и если к кому и обращался, то уж точно не к ней. Когда Настя протянула бумажку, он удивился: «Не надо, зачем!» Потом буркнул: «Ну, спасибо… Завтра отдам». Завтра это так и не наступило, однако с тех пор Бабец при встрече кланялся и приветствовал уважительно: «День добрый, Анастасия Александровна».
Надрывно воющая машинка казалась игрушечной в тяжелых, с неестественно широкими запястьями, руках. Снопы искр бросали сполохи на скуластое нахмуренное лицо. Доведя распил до середины, Бабец положил болгарку на землю, взял трубу обеими руками и сломал по надпилу.
– Ну ты даешь! – восхитился напарник.
– Диск кончается, – пояснил Бабец. – Поберечь надо…
Подбадривая друг друга руганью, подростки взялись за новый кусок загородки. Кое-как раскачав, выдернули стойки. Скрежеща по тротуару, поволокли к разделке. Болгарка визжала. Искры сыпались…
Оглянувшись напоследок, Настя потянула полуоторванную ручку двери парадного. Мощно шибануло мочой, грязью, кухонной гарью и луком. Потолочный плафон нелепо висел, но лампочка все еще горела, освещая размашистые разноцветные надписи на стенах. Она поднялась на несколько ступеней и остановилась в оторопи. По пластику лифтовых дверей струилась влага. Лифт протек? «Что за бред?» – пробормотала она. Что это значит – лифт протек? Должно быть, дождь был слишком сильным и… и что? Шагая по ступеням, она все еще искала хоть какое-нибудь объяснение этому феномену; однако никакое объяснение не избавляло от необходимости взбираться на восьмой этаж. Она миновала лестничный пролет и снова запнулась. На площадке второго этажа, приникнув к дверям лифта, стоял какой-то жирдяй – ссутулившись, наклонив голову и переминаясь с ноги на ногу. Казалось, он подсматривает в щель… или ковыряет ключом в низко расположенной скважине… Присмотревшись, она съездила по лысой башке сумкой.
– Что? П-почему? – пьяно спросил он, вжимая голову в жирные плечи и поворачивая к ней слюнявое лицо. И вдруг взревел, багровея: – Да я тебя сейчас!..
– Сунься-ка! – недобро предложила Настя. – Ширинку застегни, скотина!..
Задыхаясь, взбежала еще на этаж и там нажала кнопку вызова. Далеко вверху визгнул и загудел двигатель. Прислушалась – жирдяй, матерно ворча, топал вниз.
Через минуту она уже захлопнула за собой дверь и привалилась к обивке.
Этажом выше гудели трубы. Потолок волновался и мерцал – дворовое пламя достигало его розовыми бликами.
– Леша! – позвала она. – Леша!..
Щелкнула выключателем. Зеркало выпрыгнуло из темноты. Лицо бледное, волосы растрепались и намокли.
Так… что же делать?
Выдвинула ящик стола. Ни копейки.
На полочке в ванной лежало три жетона. Посовала в счетчик. Загорелись зеленые циферки: 18. Восемнадцать литров. Отлично. Только не надо транжирить. Переступила падающую на кафель одежду, пустила воду – не очень тонко, но и не слишком толсто. Пока стояла под душем, думала об одном и том же. Вода все-таки кончилась. Поймала в ладони последние капли и отжала волосы.
Скоро она уже слюнила карандаш, подводя брови, морщила лоб, трогая щеткой ресницы; вытрясала на ладонь последнюю каплю из пробного флакона «Проказницы Жанэ».
Раскрыла шкаф. Собственно говоря, раздумывать приходилось только об обуви, – что касается платья, то выбирать было не из чего: вот оно маленькое красное шелковое платье на бретельках. Впервые она выходила в нем на аспирантский вечер; то, что наденет его сегодня, лишний раз подтверждало, что за эти восемь лет – или сколько там? девять? – ее фигура не претерпела серьезных изменений. Тем не менее, платьице уже давно не вызывало у нее ничего, кроме раздражения. Хоть и было как нельзя более к лицу. Туфли… с туфлями такая же история; критически осмотрела лаковые мыски и темно-вишневые бархатные банты с алмазной искрой на каждом. Размышляя, покусывала палец; проблема заключалась не в туфлях, а в дожде: по такому дождю в них далеко не уйдешь. Решительно сунула в пакет и обулась в мокрые ботинки. Надела куртку. Взяла зонт.
Когда она выбежала из подъезда, костры догорали.
Давешний долговязый горлопан с треском рвал на тряпки какие-то серые простыни. Вокруг него шла торопливая деятельность. Юнцы суетились больше всех. Кто уже намотал лоскуты на обрезки труб и прихватил проволокой, поливал теперь бензином. Несколько канистр стояли у стены. Тревожные тени плясали на тротуаре и стенах.
Не оглядываясь, Настя поспешила к остановке.
– Построились, построились! – хрипло командовал кто-то у костров. – С факелами – вперед!
В ответ нестройно галдели.
– А чо тут с двенадцатой махалли лезут?
– Алиевские-то куда?
– Да куда ж ты, м-м-мать!..
– Двенадцатая отдельной колонной пойдет! – гремел командный голос. Сто раз повторять? – двенадцатая отдельно, от магазина!
За дальними домами что-то вдруг плеснуло сине-красным светом – где-то в Братееве… не то еще дальше, в Капотне…
Малиновый отблеск ступенчато метнулся в низкое небо.
Яростно ухнуло… покололось на крупные гроздья…
И долго еще потрескивало, погромыхивало, хлопотливо рассыпалось на мелкие ягодки.
Голопольск, четверг. Сапоги
Чувствуя, что возмущение клокочет в нем, словно вода в кипящем чайнике, Игнатий Михайлович брякнул трубку и вышел из каморки главного технолога в цех.
Он направился было к выходу, но потом замедлил шаг и остановился возле сверлильного станка, кожух которого с обеих сторон украшали медные вензели и круглая надпись: «Акц. об-во бр-въ Фрицманъ».
Станок сломался недели три назад, и с тех пор с ним возился слесарь Никишин.
– Та-а-а-ак, – угрожающе удивился Твердунин. – Ты еще здесь?
– Ну…
– А я тебе что говорил?
– Что?
– Я тебе шабашить говорил? А? Говорил или не говорил?!
– Сейчас пошабашу, – пыхтел Никишин, погружая руки в масляное нутро. Сейчас я…
– Нет, а я спрашиваю – говорил?
– Ну, говорили…
– Давай без «ну»! Говорил? Что нужно Живорезова на пенсию провожать, говорил?
– Ну, говорили…
– А ты что?!
– Да сейчас же, сейчас… – пробормотал Никишин, загнал языком окурок в угол рта, сощурился и, закатив глаза, словно слепой, снова стал нащупывать непослушную резьбу.
– Тьфу, чтоб тебя! – в сердцах сказал Твердунин. – Вот попробуй только не приди – прогрессивки лишу!
Цех был небольшим и располагался в переоборудованном здании церкви, невесть когда приспособленной под нужды расширяющегося производства. Станки смолкли, но вой и скрежет еще несколько секунд трепыхался под темным сводом; потом стало слышно, как там же, под сводом, чирикают воробьи – ничто не мешало живому жить.
Твердунин пересек двор и скоро оказался в административном корпусе.
В актовом зале стоял на возвышении длинный стол, застеленный линялым кумачом. За столом уже сидела Рита Захинеева, председатель профкома. Сердито громыхнув стулом, Твердунин сел напротив графина.
– Сегодня у нас, как говорится, торжественный день! – сказал он, когда кое-как расселись. – Мы провожаем на пенсию нашего дорогого Илью Константиновича. Ну-ка, встань, Живорезов, покажись!
Живорезов встал, смущенно улыбаясь, сложил руки под животом.
Полупустой зал одобрительно загудел.
– Да знаем мы его! – крикнул кто-то. – Садись, Константиныч, не маячь!
Живорезов пожал плечами и сел.
– А где непосредственное руководство? – спросил Твердунин, всматриваясь в зал. – Почему не вижу? Древесный! Где тебя черти носят?
– Здесь я, Игнатий Михайлович! – начальник участка помахал ему рукой. Здесь!
– Ага… Ну, ладно… Илья Константинович провел на производстве более сорока лет. Сорок лет – не шутка. Можно сказать, Илья Константинович стоял у колыбели нашего современного производства. Если его спросить, я думаю, Илья Константинович мог бы рассказать, как работали здесь в те годы, когда он впервые пришел на фабрику. Какое было оборудование. И какое теперь! Теперь мы, можно сказать, оснащены по последнему слову техники. И немалая в этом заслуга нашего дорогого Ильи Константиновича!
Твердунин сделал паузу и обвел зал взглядом.
– Илья Константинович трудился добросовестно, этого у него не отнять. Какие бы трудности ни встречались руководству фабрики, оно всегда могло обратиться к Живорезову. И Живорезов руководству не отказывал! Этому мы все можем у него поучиться… То есть, Живорезов работал не за страх, а за совесть.
Твердунин помолчал, словно вспомнив что-то, а потом сказал:
– Да, а что касается заслуженного отдыха, то мы, конечно, все страшно огорчены, что подошло его время… Тише, тише! Синюков! Тише! Нечего болтать! Лучше послушай!
– Да я слушаю, – сказал Синюков.
– Плохо слушаешь! Слушаешь, а все мимо! Я вот что сейчас про безотказность говорил? А тебя попросил вчера втулочку выточить, ты что сказал? Помнишь?
– А что я сказал? – удивился Синюков. – Сказал, что мне не до втулочки.
– Не до втулочки! – повторил Твердунин, багровея. – Это куда же мы так уедем?! Это что же за дисциплина производства такая?! Ему говорят русским языком: втулочку точи! а он в ответ: не до втулочки! Это где же авторитет руководства?
– Да была у меня работа-то, – вяло возразил Синюков. – Вон у Зимянина работы не было, его бы и попросили…
– А руководству виднее, кого просить! – рявкнул Твердунин, наливаясь пуще. – Руководству не надо указывать, кого просить, кого не просить! Руководство само знает! В общем, так, Синюков: в следующий раз за такое лишу прогрессивки, вот тебе и будет втулочка! И из списков распределения выброшу к чертовой бабушке!
– Из списков не имеете права!
– Вот узнаешь тогда, имею или не имею!
Твердунин помолчал, шумно дыша и переводя взгляд с лица на лицо.
– В общем, всем понятно, с каким чувством, и так далее, – сказал он затем. – Долго языком чесать тут нечего. Как говорится, долгие проводы лишние слезы. Короче, в этот торжественный день мы хотим пожелать Илье Константиновичу долголетия и счастья! Будь здоров, Илья Константинович!
Он поднял руки и тяжело похлопал. Захлопали и в зале.
– Теперь общественность, – сообщил Твердунин. – Слово предоставляется товарищу Захинеевой Маргарите Петровне.
Захинеева удивленно подняла голову, словно не ожидала услышать своего имени. Затем порхнула к трибуне и, глядя в зал влажными, трогательно распахнутыми глазами, затараторила:
– Я хочу выразить несколько слов, что Илья Константинович всем нам знаком и дорог, и много лет мы бок о бок!.. Позвольте без лишних, потому что никто более отзывчивого, более трудолюбивого!.. Всегда мы со своими, кому о радостях и печалях, кто мог в трудную минуту!.. А ведь есть и с которыми лыка не свяжешь!.. Я горжусь, что столько лет бок о бок, и на нашей фабрике такие вот – открытые, у которых не только душа настежь!..
На секунду она оторопело замолчала, по-рыбьи ловя ртом воздух. Какая-то женщина в зале растроганно хлюпнула. Живорезов озирался, и на лице у него было написано глубочайшее изумление.
– Илья Константинович нас, – трандычила Захинеева, часто моргая, – быть хорошими и брать пример!.. И было с кого, потому что очень жаль, что Илья Константинович на отдых!.. И позвольте от тех, кого сейчас нет в зале… и от всей души!.. и кто остался в эту минуту на трудовом… и от профкома пуговичной фабрики!..
Она махнула рукой, и тотчас два дюжих моториста из механического Зайцев и Шалапуров – выкатили из-за кулисы огромную пуговицу.
Зал грянул аплодисментами.
Пуговица была как настоящая – шел полированный валик по ее краям, имелись отверстия, в каждое из которых прошел бы мужской кулак, и, очевидно, при желании ее можно было бы к чему-нибудь пришить корабельными канатами.
– Вот здесь, – крикнула Захинеева, указывая на какую-то неровность по краям, – наш художник Евсей Евсеич Емельянченко изобразил сцены из жизни фабрики! Поздравляю вас, Илья Константинович! Вы стали обладателем ценного, очень ценного подарка!
Зал снова грянул.
Вдруг молчавший до сей поры Живорезов вскочил и дико закричал:
– Вы же обещали мясорубку! На хрена мне эта пуговица?!
Зал загудел. Кто-то повторял: «На хрена ему эта пуговица? Ну правда, на хрена ему эта пуговица?» Кто-то бормотал осуждающе: «Душу люди вложили, душу! А он вон чего!..» «Мясорубку! – слышалось из угла, откуда прежде доносились всхлипывания. – Дождешься от них мясорубки! Ты вот еще повыступай – будет тебе мясорубка!..»
– Тише, тише! – сказал Твердунин, снова выходя к трибуне. – На этом позвольте наше маленькое торжественное собрание объявить закрытым! Да, вот еще… Петро! Тебе, тебе говорю, Зайцев! Я замечаю, ты обрезки с фабрики выносишь. Чтобы этого больше не было, понял? А то живо дело заведу! Валера! – Он поманил к себе Древесного. – Давай-ка покомандуй в цеху до конца смены. Мне к руководству.
Народ гомонил, вытекая из зала.
Твердунин хмуро посмотрел на часы и, кивнув напоследок Захинеевой, двинулся к выходу.
Поежившись, он поднял воротник плаща, поглубже нахлобучил кепку и шагнул под дождь. Две нахохлившиеся вороны сидели на воротах. Твердунин шикнул, чтобы согнать. Одна лениво ворохнула крыльями, делая вид, что вот-вот полетит, а вторая и вовсе лишь уперлась угрюмым взглядом.
– Тьфу, зверюги, – сказал он. – Не шевелитесь уже.
Миновав пекарню, переулком вышел на площадь.
Во втором этаже райкома, где располагался Шурочкин кабинет, ярко горели четыре окна, и Твердунин, проходя мимо, неприязненно на них покосился.
Возле памятника торчали две старухи. Одна то и дело крестилась.
– Осподи, осподи. Что с человеком сделали, людоеды!
– Прямо с корнем отворотили, – заметила другая.
– Что такое, мать? – строго спросил Твердунин, останавливаясь и так же, как они, задирая голову. – В чем дело? Что отворотили?
По-арестантски сгорбившись, культяпый Виталин угрюмо молчал, и капля висела на носу, а когда падала, собиралась другая.
Старухи попятились.
– Да руку-то, – испуганно пояснила первая.
Вторая дернула ее за рукав, и они, сутулясь, с овечьей поспешностью посеменили к магазину. Левая озиралась.
Виталин строго смотрел прямо перед собой. Известка лежала полосами, и дождь медленно, но верно смывал остатки. Куцее, матрасной раскраски тело в скользких сумерках казалось покрытым блестящей тиной.
– Что плетут? – пробормотал Твердунин, обходя памятник. – И буровят, и буровят… Какая рука?
Еще раз пригляделся, но в сумерках так ничего и не разглядел.
Недовольно бормоча, он двинулся дальше, и минут через десять толкнул знакомую калитку. Кое-как обойдя большую, оплывшую от дождей яму, похожую на подкоп под фасадную стену, побалансировал на доске и взялся, наконец, за ручку.
Дверь заскрипела. В темных сенях Твердунин больно налетел на козлы и едва не ступил в таз с чем-то маслянистым; выругался, нашарил вторую дверь и ввалился в комнату.
– Можно, что ли?
Большую часть занимал верстак, засыпанный стружкой; стояло растворное корыто, валялся кое-какой инструмент. Из-за перегородки слышался звон посуды, а сам Кирьян задумчиво глядел на доску, которую, видимо, только что стругал.
– О, Михалыч! Заходи, – сказал он, вовсе не удивляясь, отлепил от губы окурок, пустил небольшое облачко дыма и вернулся к своему занятию продолжил рассматривание доски.
– Да что заходить-то. Я спешу, – недовольно сказал Твердунин. Мормышки сделал?
– Мормышки? Какие мормышки?.. – задумчиво переспросил Кирьян. – А, мормышки, что ли? Нет, не сделал…
– Опять не сделал! Как так? Ты же обещал сделать!
– Что? – все так же задумчиво переспросил тот. – А, мормышки, что ли? Да недосуг было мне, Михалыч. Видишь вот – занят.
– Тьфу! – Твердунин плюнул в кучу опилок. – Занят! Да как же ты можешь обещать, если все время занят? Что за свинство! Полгода обещаешь!
Кирьян молча пожал плечами, не отрывая взгляда от доски.
– А когда сделаешь?
– Сде-е-е-елаю, – успокоительно протянул Кирьян. – Доделаю одно – за другое примусь. Нельзя же все сразу! И тебе мормышки, и тебе строительство… Это разве работа, если все сразу, без разбору? Нет, надо по очереди, – и чиркнул ногтем по доске.
– Это ты себе, себе скажи! То-то и оно, что семь пятниц на неделе. Нельзя с тобой ни о чем договариваться. Обещал мормышки, а сам вон чего – за гараж опять схватился! Зачем тебе гараж-то, Кирьян? Ну какой дурак гараж прежде машины строит?
– Э! гараж! – задумчиво ответил Кирьян. – Что ты все про гараж? Подожди с гаражом! Сейчас не до гаража! – и еще раз чиркнул.
– Не гараж? А что же? Ты бы хоть яму тогда засыпал, деятель! Не пройти во двор-то. Сам когда-нибудь шею свернешь.
– Зачем же я тогда копал? – удивился Кирьян. – Ничего, не пропадет. Яму тоже когда-нибудь в дело пустим… У меня покамест другой план появился. Что гараж? На черта он нужен, если и впрямь машины нет? Гараж подождет, – балкон буду делать.
– Балкон? – переспросил Твердунин, озадаченно глядя на низкий потолок.
– Запросто! – вспыхнул Кирьян. – Смотри-ка! – он снова стал черкать желтым ногтем по доске. – Тут у меня мысль такая: мост я порушу к дьяволу!
– Какой мост? – спросил Твердунин, досадуя, что завел этот разговор: Кирьян был известный мастер входить в подробности.
– Ну, сенцы… – поморщился тот. – По-нашему, по-строительному, – мост. Порушу я его, потому что толку от него никакого нет. Да и все равно ведь скоро пристраиваться. Сюда – пару балочек. Балочки я уже присмотрел… Крышу придется маленько разобрать… да ты смотри, Михалыч, смотри! Разобрать крышу и два венца снять. Вот так балочки лягут… а на них балкончик приспособлю! Там, правда, столярка кое-какая нужна… да что я, не сделаю, что ли?