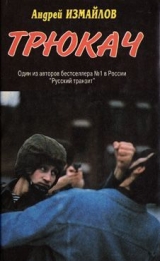
Текст книги "Трюкач"
Автор книги: Андрей Измайлов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Он вжался в кафель и распахнул дверь: врывайтесь, гады!
Никто не ворвался. Коридор не затаился, был просто пуст. Нервы, Ломакин, нервы! Спать, пора!
Он еще выждал, вслух усмехнулся и, распугивая темноту-пустоту, затопотал по уже изученному маршруту. К себе, к себе! Спать! Он еще и что-то такое радостное мурлыкал – взбрело где-то слышанное: День сегодня был такой хороший! Угу! Просто день хороший был!… Ведь доброе утро и день неповинны в том, что дел переделано лишь половина!. Если б хоть половина, а то и вовсе ничего! А кто повинен? А никто! День такой…
Никто не подстерегал его за углом – ни за этим, и ни за этим, а также ни за этим.
Ид-диот! Не мнимого следует опасаться, а сущего!
В отместку самому себе он не затворил дверь на засов, просто прикрыл. И улегся. На топчаны. Полагал, что и голову не донесет до подушки – уснет. Х-х-хрен в сумку! Он бы и уснул, но все и всяческие ночные звуки проснулись. На кладбище ветер свищет. На кладбище нищий дрищет. Невинно убиенная старушка шуршит? Тень. Пиковая дама. Три карты, три карты. Час бубны. Просто день хороший был! Угу! Просто день хороший был!
Ломакин проваливался в сон, но голова застревала в проломе и пучила глаза, хотя ноги уже отнялись, не чуя опоры. На новом месте никогда не спится. Прошлая ночь не в счет, тогда было спьяну. Лишние шорохи, щелчками сшибали сон. Старушка шелестит, старушка. Стой, слышишь? Испуганно присел на подстилке. Слышишь? Нет! Ходит! Слышишь? В зале. Слышу. Ходит? Ходит. Затворить али нет дверь? Затворить… Ломакин, преодолевая вязкий, желейный мрак, будто по горло в воде, доковылял до двери и задвинул засов. Опять улегся. Лежал неподвижно, но глаза его ярко блистали сквозь темноту и были совершенно открыты и неподвижны. Просто день хороший был! Угу! Просто день хороший был! Завтра будет лучше, чем вчера… Надраться, что ли? Чтобы как вчера. Отключиться и – ку-ку! Осталось после Елаева-Елдаева? Большой ведь был Смирнофф! Надраться и почувствовать разницу. Бессонница машет крылами в окне! Не спится, не спится, не спиться бы мне!
Он так и заснул – с открытыми глазами. Или все-таки закрыл? Не понять. Потому что…
… полуночные кошмарики продолжились. Только стало светло. Косые, набитые пылью, солнечные лучи упирались от окна в пол и… в дверь. А кошмарики продолжились. В дверь кто-то скребся. Робко, бестелесно.
Ломакин подскочил, стряхивая дрему, будто нагло взобравшуюся на грудь мышастую или насекомую погань. Сгинь!
Дрема сгинула. Но в дверь кто-то скребся. Робко. Бестелесно. Кто-то.
– Хорошо бы, петрыэлтеры… Дожил, Ломакин! Петрыэлтеры ему уже хорошо! Ну да, они либо бесшумно впали бы, либо взревели бы: на манер омоновцев при штурме террористов. А тут…
– Кто?! – взревел Ломакин на манер омоновцев при штурме террористов, бесшумно подкравшись к двери.
Хыр-мыр-быр… – невнятно отозвался КТО-то. Пожалуй, все же не КТО-то, а просто кто-то. День-деньской, третьи петухи давно свое отпели, злые духи давно упрятались в подкорку. Открывай, Ломакин, человеческим ведь языком просят, хыр-мыр-быр… Робко…
Он открыл.
Нечто подобное он и полагал. Однако на какое-то мгновение остолбенел. Старушка! Живая? Ожившая? Зомби?
Ломакин невольно уставился под грудную клетку зомби, откуда вчера торчал нож. Ни дырочки, ни кровиночки. Балахон иной, не вчерашний. Тоже рванье-старье, но иной. Переоделась? Переодели?
Это ктой-то? – скрипнула старушка, обдав Ломакина перегарным выхлопом?
Это я это! – ответил ей Ломакин тем же – Кушать хочу! – затребовала старушка! Ну точно, дежавю. День сурка. Дурная, бесконечность.
Погодь, бабань, ща, сообразим чего-нито, хлебушка-маслица. Водицы испью, омоюсь, и сообразим… – Он почему-то переключился на деревенщинку, почитаемую кретинами за исконно-посконную русскую речь.
Старушка по-прежнему стояла не пороге… плохо соображая, кто она, откуда и почему здесь.
– Погодь, сказал! Посторонись, сказал! – повысил голос Ломакин. Иди пока к себе! Забыла, куда?!
Ой, забыла милок, забыла. Старая совсем, совсем старая стала! – обрадовано зачастила зомби.
Пошли покажу, – предложил Ломакин и высунулся из комнаты, все еще не решаясь вот так вот запросто коснуться зомби и отвести за ручку. Куда? Гурген говорил, четвертая дверь, зеленая.
Которая тут зеленая? Старушка семенила следом, бестолково бормоча хыр-мыр-быр и очумело вертя головенкой.
Маразм с возрастом неизбежен. Маразм – это, впадение в детство, в младенчество. Младенцы все похожи, неотличимы – недаром байки-рассказки о путанице в родилных домах. Старушки тоже все похожи, неотличимы – впав в детство, в младенчество. Но не до такой же степени?! И если она в маразме, то Ломакин пока нет. Пока.
Да, сегодняшняя бабка Ася похожа на вчерашнюю бабку Асю, но различия имеются. Имеются различия. ЭТО – другая старушка. Немудрено, что заблудилась. Вот откуда скрипы-хрипы в ночи. Вероятно пошла по нужде и не сориентировалась, – скреблась в каждую дверь, вдруг откроют-откроется. И доскреблась до Ломакина. Что ж, есть резон, есть. У петрыэлтеров.
Престарелая бомжара, подобранная у вокзала? В переходе метро? На паперти? Принцип подбора: чем сумасшедшей, тем лучше, желательней помешательство тихое и алкогольное. Чего-чего, а этого добра теперь в Питере – хоть автобусы загружай.
И надо же, отыскались добрые люди, привезли, поселили, посулили, дай вам бог здоровья, дай вам бог здоровья, дай вам бог здоровья.
– A y тебя как со здоровьем баба Ася? Со здоровьем как, баба Ася?! Со слухом плохо?! Баба Ася!
А хорошо у нее со здоровьем, хорошо. Баба Ася, так баба Ася… Хоть Арафатом зовите, только не гоните из родных палестин, если уж привезли и поселили. Еще бы ей с утречка здоровье чуток поправить, и вообще она готова многия лета просуществовать и бога молить за добрых людей, ноги мыть и воду пить… а ежели не воду, то и вовсе рай земной.
Многия лета петрыэлтерам не требуются, и здоровье у новопреставленной перед Ломакиным – хорошее, значит? Ненадолго. Прежняя баба Ася – трезвенница была? Почему была? Она и есть. Только не трезвенница. Запьешь тут с жизни такой.
Вот и жилец, подтвердит: это она. Конечно, подтвердит. Какое ему дело?
A еще был такой Елаев, вчера-недавно освободился. Не забегал? Ну, забегал. А потом? А кто его знает?! Обнаружат когда-нибудь – на берегу пустынных волн. Утоп алкаш. Ныне распутины перевелись, хлипче стали мужики – черпнешь ведерко из канала и мордой туда, в ведерко, ткнешь на пять минут: готово! Воду из ведерка обратно в канал и алкаша туда же, в канал. И наличие трупа, и отсутствие криминала. Не так ли?
Прежнюю жиличку-старушку, правда, необходимо зарыть подальше и поглубже – нож, кровь, рана. Так не исключено, – Елаев и рыл до воды в неуточненном лесочке, дабы покойнице спалось покойней… Не петрыэлтерам же пачкаться. А уж после хлебнул лиха полной грудью из канала. И пусть правоохранители хоть до воды роют – не докопаются.
Новоявленная жиличка-старушка шаркала за Ломакиным, бормоча свое хыр-мыр-быр, – или у нее такое громкое дыхание?
Ага! Зеленая дверь. Ломакин дернул на себя. Нищая каморка: бывшая роскошная софа, в изголовье – веерно прикнопленные картонки, вырезанные из всех и всяческих коробок Китикэт, кошачьи мордашки, мрачно-зеленый сундук, табурет, уставленный пузырьками-баночками, и… все.
А я торкаюсь, торкаюсь, – пожаловалась баба Ася, – и никак.
– На себя надо! На себя! – внезапно впал в раздражительность Ломакин. – Собственную дверь не узнать, а?!
Узнала, узнала, узнала! – вспугнулась старушка: вдруг сейчас погонят?! С неожиданной прытью шмыгнула в каморку и коряво забралась на софу, утвердилась.
То-то! – изрек Ломакин, – Сидеть здесь и носу не высовывать, ясно?!
Старушка истово закивала.
А я – хлебушка-маслица. Ну, там… чего-нибудь… – от щедрот соврал он.
И попугайчика! – затребовала бывшая бомжара.
И попугайчика! – согласился он с маразмом, шагнул вон, закрыл дверь. И попугайчика, и слоника, и бегемотика, и зайчика– гулика… Да! Вот еще что!
Он вернулся обратно. Бабка Ася вороватро спрятала руки за спину. Ломакин уловил: стоило ему за порог, как она бросилась обнюхивать пузырьки-баночки – вдруг повезет? A-а, попугайчик – не маразм, попугайчик есть попугайчик, он же красная шапочка, он же «Cameo». Да, недолго протянет жиличка при таком режиме-меню, ровно столько, сколько нужно петрыэлтерам. Только избавьте Ломакина от собственноручной доставки яда, делайте что хотите, но без меня. Он, Ломакин, в конце-то концов тоже будет делать что хочет. А хочет он пройтись по улице, позвонить Октаю-Гылынчу-Рауфу, потом он хочет добраться до Кудимова-старшего, потом он хочет… Не многовато ли он хочет?! Может быть. Но чего он определенно не хочет – это возвращаться в ближайшее время с хлебушком-маслицем-попугайчиком к жиличке-старушке, это дожидаться звонка петра-первого и обоюдно морочить мозги.
– Вот еще что! – распорядился он, не заметив старушкиных утаек. – Если телефон, все равно не высовываться, трубку не поднимать, ясно?
Старушка истово закивала. В руках, спрятанных за спину, предательски брякнуло морскими камешками-пузырьками.
Я и говорю! – зачастила она, отвлекая внимание, – Я – никуда! И, куда я? Дом нехороший, нехороший дом. Ночью слыхал, топот чертячий, иго-то, песни распевают. Ой, нехороший дом, нехороший. Ты давай скоренько…
Не обещает Ломакин, не обещает – только после вас, петрыэлтеры, только после вас.
Топот чертячий, иго-то, песни распевают. Хм! Кто кого вчера в ночи больше напугал? Старушка его? Он старушку?
КАДР – 8
«Вольво» – хоть и неблагозвучно, однако надежно. Иномарка безопасней не только в смысле управления (не отвалится, не заклинит, не прохудится), но и в смысле наезда. Наезда не в смысле ДТП, а в смысле бандитского наезда. Бандиты предпочитают наезжать на новенькие жигулята. Логика проста: на жигулятах– так сказать, богатеющие работяги, обретшие наконец-то свои колеса, на иномарках – так сказать, крутые парни. Работяге можно подставиться, а после сочувственно вымогать: У-у! Ну ты попа-ал. У тебя что естъ-то? Машина, понятно. A еще? Квартира? Дача? Зеленые? – Я ж не виноват! – Будешь виноват, понял?!. А подставишься иномарке, так не факт, что за рулем лох, что не кто-либо покруче, с крышей покрепче.
Так что новенькие жигулята – выигрышней. Так что «вольво» для Ломакина надежней. Гургеновская вольво. Имеет право? Имеет право. Он, Ломакин, правда, не предупредил Гургена, что машина может понадобиться… Он, Гурген, правда, не предупредил Ломакина, что старушка нуждается в уходе. Квиты.
В любом случае вероятность целости-сохранности вольво выше, когда за рулем Ломакин. Проверено. Сколько он их перевернул?! Несть числа. Но АККУРАТНО! Детство давно в заднице отыграло. Каскадер не тот, кто может перевернуть машину, – это может любой мудак-неврастеник. Каскадер тот, кто может сделать это точно, по месту – и уехать. И… чтобы на экране было эффектно, а эффективность определяется тем минимумом (не максимумом!) усилий, которые ты приложил. Для чего нужно необходимое количество мази в башке. Как у Саши Мысляева, к примеру. До мысляевского уровня Ломакин, допустим, чуть-чуть не дотягивает, Мысляев – узкий спец по автомобильным трюкам, а Ломакин как-никак широкого профиля. Однако мази в голове у Ломакина все же побольше, чем у небезызвестного пижона Томилова. Тогда, давно, в Киеве – привез с собой, пижон, ролик! Знаменитый трюк, который Томилов представлял как трюк: грузовик на скорости пробивает ограду и с набережной бухается в воду. За рулем, – я! – громко объявляет Томилов. И не менее громко кто-то (да тот же Мысляев, Мысляев!) в темноте объявляет: Так не видно ж ни… чего! Оно и верно, на кой хрен ты там за рулем, если этого не видно? Воткнул бы передачу, пустил бы машину самоходом-само… падом! А в следующем кадре после перебивки всплыл бы, герой. Ну?! А то ишь: «За рулем я! Смертельный трюк».
Так что за вольво Гургену не стоит волноваться. Это лишь в бойких закордонных фильмах ежели молодец расколошматил менее трех машин, то вроде и не молодец вовсе.
Вот охранную гуделку-свиристелку, да, Ломакин, пожалуй, отключит. Она срабатывает намного чаще, чем действительно нужно: достаточно пнуть по колесу из куража или просто хлопнуть по стеклу-крылу-багажнику, хоть куда. Угонщики-профи навострились делать свое дело беззвучно: ни пинков, ни похлопываний, вот она была и нету. Следовательно, чему быть, того не миновать – если речь об угоне. Но! Не быть тому, не быть! Пусть Гурену не икается, в Баку. Зря ли пришлось Ломакину в доброй половине своих фильмов мозговать над конструкциями: ни одна зараза не вскроет, ни спицей, ни отмычкой, ни Магниткой, ничем. Стой тихонько, вольво, чуть поодаль от улочки Раевского, и не пикни. Удачно, что вольво не одинок. У Позитрона, бывшего ящичного предприятия на берегу квадратной лужи, – некое подобие служебной стоянки. Ломакин, увы, не служит на Позитроне, ну да он ненадолго – только поинтересуется одним глазком, как там у него в квартирке, и сразу обратно. Да-да, гуделку-свиристелку отключил. Истеричный алярм только привлечет ненужное внимание. Мол, как так?! Вольво надрывается на все лады, а хозяин начхал и не мчит со всех ног?! Страннннно…
Ломакин не мчит, он… э-э… прогуливается. Он… э-э… наблюдает – нет ли наблюдения? Всегда подспудно завидовал: точечный кирпичный дом – всего в тридцати метрах, а ему досталось – в железобетонной змейке. Но именно сегодня, именно сейчас поладил с собой: что ни делается, все к лучшему. Достанься ему квартира в точечном, не попасть бы именно сегодня, именно сейчас к себе. Подъезд – один. И если за ним, за подъездом, наблюдают, то могут срисовать – без бороды ли, с бородой… Риск. Змейка же хороша чем? Подъездов чертова уйма, а по крыше пройтись до нужного окна, опасно свеситься и заглянуть, – не очень просто, но и не столь сложно, если приспичило. А приспичило!
… Ломакин отыскал таксофон, покинув Достоевскую квартиру, набрал себя и дождался: трубку сняли. Но молчали. Но дышали. Слушали.
– Октай? – подбодрил Ломакин. – Молчали. Дышали. Слушали.
– Гылынч? – подбодрил Ломакин.
Молчали. Дышали. Слушали.
Они смущаются, предупредил его вчера Газанфар. Они не смущаются. Смущаются не они. НЕ ОНИ не смущаются.
И тогда Ломакин не стал бессмысленно окликать Рауфа, понял, что и Рауфа окликать бессмысленно. Он, Ломакин, не своим, не ломакинским голосом, а тоном базарного рыночника сообщил:
– Вятяна дага аз мясряфля… дата чох вя дага кейфийятли мяхсул веряк! – в скандальном темпе заждавшегося напарника с лотка, мол, фиг ли вы там возитесь, а мне одному отдуваться?!
И громко бросил трубку. Сказать по-азербайджански действительно это – язык, отказал, из головы напрочь вылетело. А времени на то, чтобы вспомнить и грамотно выстроить упрек, не было – пауза бы затянулась до подозрительности. Потому он и выпалил Вятяна дага… на автомате, что засело, то засело. На всю жизнь: лозунг, настырно призывающий, как ни глянь в окно, с бакинского детства-отрочества-юности.
Ежели у НИХ есть еще и специалисты-полиглоты, знающие фарси, то-то охренеют!! С чего бы это напарник азерботов вдруг заявил своим гардашам: Дадим Родине больше продукции лучшего качества и с меньшими затратами!. Да еще таким тоном! Но, скорее всего, нет у НИХ знатоков фарси. И решат ОНИ: объявился еще кто-то из азербайджанской мафии, то, ли с собой звал, то ли сам сейчас явится. И в том, и в ином случае пора делать ноги. Впрочем, не мешает и пронаблюдать издали за подъездом: явится?
Потому Ломакин не спешил. То есть он спешил, он даже покусился на гургеновскую вольво. Но, прибыв на место, уже не спешил, Поспешишь… Смешно, согласился он, вчера с Газафаром. Гурген у Газика, Ломакин у Гургена, а у Ломакина?… Кто у Ломакина? Ключ-то, он специально оставил у соседей: ишь, суккуленты поливать! Да им, суккулентам, одного полива в месяц достаточно, и за то спасибо! Приучены к апшеронской суши. И эфедра. И очиток. И молодило. И гармола… иначе – могильник. Могильник, значит.
Ключ он оставил с упреждением: если поинтересуются, то убедятся, он улетел, он в Баку.
Кто же первым обратился к соседям? Гости от Газика или гости от Слоя-Солоненко? Дышали в трубку определенно солоненковцы. С чего бы газанфаровцам дышать и молчать? А с чего бы солоненковцам торчать в квартире? Зашли, убедились, ушли. Нет? Час бубны, само собой, давно наступил, однако было бы из кого и что выколачивать – хозяин-то далековато, через недельку вернется, через недельку и приходите. Другое дело, то и в самом деле смущающиеся Октай-Гылынч-Рауф. Но не до онемения ведь!
Мнительность? Нет. Наработанный условный рефлекс. Да что там! Безусловный! Двадцать лет съемок! Опыт. А опыт говорит: убрать каскадера, – полсекунды. Либо сам промедлил и – до свиданья, дорогой! Либо по отношению к тебе промедлили и – опять же, прощай! Либо… чудится: скорость авомобиля-лошади-секача-бронепоезда выше расчетной-обговоренной. И мысль, не грохнуть ли решили? Худший случай. Связи утеряны, кураж исчез. Уходи. Так Алик Садовников ушел. От греха подальше.
– Так что не мнительность. Ему, Ломакину, не чудится, он не шизофреник Садовников, он, черт побери, почти осилил «Час червей»! И не осилил по совсем иным причинам, чем мандраж перед сложно заряженными трюками. И теперь надо бы, осмотревшись по месту, сделать не весьма сложный трюк, всего-то полюбопытствовать: как там, в квартирке, без хозяина живется. И кому, собственно?
Квадратная лужа у Позитрона кишмя кишела бронзой и брынзой обнаженных тел. Ненормальные, сказано же: купаться категорически запрещено! Мало вам кишечных палочек и прочей дряни типа цветов на воде, так и позитроновцы сливают сюда же всяческое, божась, что не сливают. Вряд ли, вряд ли. Среди свихнувшейся от жары голытьбы – вряд ли. Хотя… этот… с пузиком и биноклем? Этот человек высматривает на пляже… Н-нет, этот человек высматривает на пляже голо… систых девиц. Раскованность и естесственность, да, ура! Миновали времена, когда родитель предъявлял учителке претензию. Вы сказали моему ребенку: будем рисовать чучело Пушкина?! а та, рдея, оправдывалась: Не могла же я ребенку сказать – бюст!. Нынче дамочки на пляже предъявляют бюст хоть кому. Голосистые. Но ощущаешь себя не в секс-шопе, а в общественной бане, куда ненароком заскочил не в свое отделение. Красивый бюст – еще поискать и поискать. Редкость. Вот Антонина…
Стоп! До тоголь, голубчик, было? Проследи траекторию, Ломакин, и решай.
Проследил. Н-нет. Который с пузиком ни по какой траектории за твоим подъездом не может следить, не может. Следи дальше – и ты, с пузиком, и ты, Ломакин. Каждый о своем.
Машин у дома несколько. Волгу он знает, сам помогал владельцу починять этот примус. И Оку – знает отставник на ней. Вот Москвича такого не припомнит, но тот пуст. И жопик незнакомый, ярко-оранжевый жопик, приметный. И внутри паренек. Пиджак зеленый, прилизанность русого ежика – имидж, сменивший грубые турецкие кожаны и почти лысый бокс.
Станет ли уважающий себя бандит разъезжать на жопике? Почему нет? Если он – простая шестерка, коей велено: сидеть и глаз не спускать! Закончится смена, хоть на БМВ уезжай, а пока… Да и не так плох жопик, как его малюют. Зазря, что ли, в Шансе то и дело мелькает: Возьму на выгодную работу шофера с Запорожцем?! Маленькие хитрости большого бизнеса: кто не поленится грабануть жопик? всякий поленится! что с него возьмешь! не мешки же с деньгами он перевозит! Во-во… Почему бы?
Итак, жопик. Кстати, у жопика траектория как раз подходящая – ломакинский подъезд на контроле. Даже если он, жопик, случаен, наблюдение запросто может вестись из окон того же точечного дома рядом. И обсмотреть окна, как полагается по науке, – никак. Не исключено, заметит, но и будет замечен. Ломакин, если угодно, все же каскадер, а не опер.
Значит… Действуй в силу своих каскадерских возможностей, не в свои сани не садись, не опер, чай!
Ломакин вошел в крайний с торца подъезд. До собственного – четыре. Пятый. Хорошо, что его окна выглядывают на противоположную сторону. Хорошо, что тополя вымахали в полный девятиэтажный рост. Хорошо, что этаж у Ломакина последний под крышей. А он уже на ней, на крыше.
Ч-черт. Внизу-то безветрие, а здесь – рвуще, сдергивающе. Была бы талька… Вчера только Улдиса поминал, вчера только про кирпич, склонный к выкрашиванию. Да-да, лучший каскадер – тот, кто может совершить трюк, не совершая трюка. Что ж, обстоятельства вынуждают поступить не лучшим образом.
Он шел, пригнувшись, считая подъезды по коллективным антеннам. Ступни ненавязчиво, но вязли в размягченном жарой битуме. Это плохо, сообразил он. Это следы, если что. А что – если?!. Сейчас узна-аешь. Если не сверзишься. Не должен…
Он поискал глазами какую ни есть крепежку – обрывок антенного кабеля, веревки. Вылизано ветром. Разве вот проволока, которая внатяг, шатром, удерживает антенну? Это даже не проволока, скорее прут. Берите прут каким секут. Эх, нет с Ломакиным его, с позволения сказать, спецснаряжения! Рукавицы очень бы не помешали. И плоскогубцы. Ну, и шлем:… М-да, расхожая каскадерская, шутка-прибаутка: прыгаю из-под купола, лечу и чувствую, что вниз недокручиваю, недокручиваю, и тогда начинаю вверх выкручивать, выкручивать… Девять этажей, шлем – защита психологическая. Да что ему – впервой?! Эх, был бы внизу не асфальт, а была бы там хотя бы подушечка из обувных коробок… Впрочем, Лешу Гарина подушечка не застраховала – в Тулузе. Всего не предусмотришь, даже если предусмотришь все. Тот самый злополучный лет со стрелы башенного крана – вниз, оземь. Не оземь, разумеется, – на коробки из-под обуви. Наши всю жизнь пользовались для подушечки коробками обувной фабрики Восход или там Скороход. Спецснаряжение… понимаете ли! Растолковали французам, сколько нужно коробок, – те привезли. Сложили, скрепили. Пошел!… Позвонок пополам, Леша Гарин инвалид, жена возит на каталке… Коробок – расчетное количество, высота – расчетная, траектория – расчетная. А вот картон у них, у французов, помягче. Впрочем, насчет коробок – лишь одна из версий. Прыгали-то вдвоем, а калека – один Гарин…
Не время и не место, Ломакин, вспоминать Тулузу! Он отогнал видение распластанного Леши Гарина, делом надо заниматься, делом. Дело – он вязал крепежку из неподатливых металлических прутьев, прикидывал угол сгиба, чтобы крюки не разогнулись. Проверял на прочность, мыча от усилия. Мычи, не мычи – одно дело тянуть руками, другое дело повиснуть, зацепившись носком ноги, вниз головой, скрадывая вес притиркой к стене. Выдержит? А что, есть иные варианты? Нeт.
Готово. Две… скобы, прихваченные прямыми прутьями, заведенными за каменный барьерчик-бордюрчик. Этакие стремена, только наоборот. Не такая уж дурацкая штуковина. Голь на выдумки хитра. А он, Ломакин – голь. Перекатная. И здесь, на крыше, и вообще по жизни – по жизни, начавшейся одномоментно, с решением взяться за «Час червей». Только Ломакин в тот момент и знать об этом не знал. Воистину, во многом знании многия печали. Ха-арош, Ломакин! Пора перекатываться, голь перекатная! Вспомни, как ты работал на Абсолютном взломе, на Батые, на Изверге, на «Не бойся, я с тобой!». Тогда, правда, ребята страховали вмертвую. Ну да что уж тут…
Ежели крепеж не выдержит, то – сгруппироваться в клубок и хоть разочек достать стену, толкнуться. До тополей метров шесть – можно попасть, спружинить по кривой, соскользить. Вывезет кривая? Пронеси нелегкая! Ха-арош Ломакин!
Он перекатился через край крыши, ступнями – в стременах. Ладони шершавились бетоном. Межблочный паз не заделывался с той поры, как дом был сдан. Нарушение технологии? Ура бракоделам! Есть возможность не скрести ногтями отвесную плоскость, а ухватить трещину на глубину полупальцев, на весь сустав.
Он использовал эту возможность. И хотя стремена гадко скрежетали, поуспокоился.
Угадал точно – вот оно, окно. Ломакин никогда не запирал форточку, ее чего-то клинило, да и воздух должен быть свеж, невзирая на температурные минусы в любое время года. И тем! более – летом.
Так. Обратной дороги нет, Ломакин. Ты уже повис, ты уже висишь. А теперь, продолжая цепляться полупальцами, хлестни другой рукой влево, ухватись за верхний выступ оконной рамы. А теперь перестань цепляться полупальцами за трещину-паз. Вечность, что-ли, намерен висеть эдаким вверхтормашным распятием? Перестань цепляться, ПЕРЕБЕРИ руку! Ну?! На, раз!
Раз!
Справился. Получилось. Вот она, форточка. Не нашумел он? Вроде нет. Сползал вкрадчиво, даже не пыхтел, мягонько. Ветер, конечно, подвывал, давил на психику. Пусть бы ветер остался единственным фактором, давления на психику. Ерунда.
Ломакин привстал в стременах, если подобное применимо к человеку, спутавшему небо и землю. Заныл, дал о себе знать давнишний частичный разрыв ахилла. Ломакин, чтобы не бросить тень внутрь, не насторожить, самую чуть, по брови, заглянул в комнату.
Было пусто. И был полный разгром…
Та-а-ак! А на кухне? Он паучьи переместил ладони. Отнюдь. До кухонного окна не дотянуться, – стремена не пустят. Значит, надо вползти в комнату. Иного не дано. Жаль, что до кухни не дотянуться. Посиделки обычно кухонные. По размышлении здравом, устроителям разгрома – не до посиделок. Однако…
Рискнуть? Что он теряет? Разве равновесие?! Ломакин отжался на руках, выпрямился в локтевых суставах, в струнку, лишь стремена держат. Потом с тя-а-жким трудом отлепил одну ладонь от бетона, сложил пальцы клювом цыпленка и тюкнул в форточку. Та подалась. Он Мгновенно поджал ноги, исчезнув из поля зрения, Если из кухни рванутся в комнату, то – ветер, вот и форточка хлопнула. А в оконном проеме – никого, только даль и ширь, и верхушки тополей. Но Ломакин-то услышит, как рванутся. И… что ж, помучается на обратном пути. Очень не хочется мучаться на обратном пути! Он предполагал худшее, все-таки надеялся на лучшее, когда начинал стенолазную авантюру.
Никто не рванулся. Ломакин не услышал, чтоб рванулись. Он услышал тишину. И то ладно.
Дальше – голая техника. Пронырнув в форточку до лопаток, он по очереди высвободил ноги из стремян. Ч-черт! Еще бы на парочку сантиметров протиснуться, и Ломакин вполз бы хрестоматийно, КРАСИВО. Но стремена коротковаты – бросай, пока ноющий ахилл не стал воющим. Так что пришлось по– балансировать на грани, Дрыгая пятками, ловя центр тяжести. Поймал! Не до красот. Нас что, снимают?! Вас не снимают. Команды мотор не было. Никто не увидит суматошного трюка. Гордость по-прежнему паче унижения. До гордости ли?! А действительно, никто не увидит (не увидел) трюка? Хорошо бы.
Никто. Некому. И ладушки!
Он усидел уже на ягодицах, уже оконно-рамочная грань – под коленками. Ап! Полусальто. Вот мы и дома…
Было пусто. Строго говоря, пусто не было! Строже говоря, ни единой живой души, это да. Но не пусто. Болтаясь червячком на крючке за окном, Ломакин сосредоточился на главном – попасть внутрь. Не до внимательного рассматривания. Вот… попал внутрь, осматривай-рассматривай.
Трупов было три… Двое (два!) – в прихожей. Третий – на пороге сортира. Сортир площадью в квадратный метр плюс встроенный стеллаж с инструментами. Дверь в сортир сорвана, створки стеллажа распахнуты. В кулаке третьего хватко сжат альпийский топорик. Пытался защититься, прыгнул в ближайшую дверь, до чего рука достала, на стеллаже – цап… Не успел. Третьего нагнали выстрелом в затылок, практически в упор. Двоих в прихожей– тоже в упор, но в горло и в грудь.
Оно и понятно. То есть, по меньшей мере, объяснимо. Возможно, с точки зрения Газанфара, троица гостей – хорошие люди, которые, смущаются, но физиономии у них специфические – кавказской национальности. У двоих… у двух – у тех, что в прихожей. Лица третьего не рассмотреть он спиной, он затылком. И лучше не рассматривать. В квартире витал мощный дух: мощного растворителя. Есть такой у Ломакина, стеклянная двухлитровая бутыль на полке в сортире. Есть такой… Был такой!
Бутыль щерилась клыкастой розочкой – донышко и обломки. Капало, капало, капало. До сих пор капало, а в первый миг, когда топорик ненароком расколотил ее, бутыль, – хлынуло. Макушка третьего оползала клочьями – мясная багровость с клочьями сожженные волос. И дыра в затылке… Если пуля прошла навылет, можно представить, что у него с лицом. Лучше не представлять.
Ломакин, ощутил спазм, мячиком прыгнувший из желудка к горлу. Поймал блевотину на взлете, прижав ладонь ко рту. Неимоверно трудно глотнул, затолкав спазм обратно.
Октай-Гылынч-Рауф. Погостить… Кто из них кто? Важно? Неважно. Их нет. Смерть уравнивает.
Многое мог вообразить Ломакин… даже, если память не изменяет, вчера мог вообразить и такую развязку. В качестве бредового предположения. Триллер – так триллер, Но (повторяй и повторяй!) жизнь богаче наших представлений о ней. Смерть тоже богаче наших представлений о ней. Ничего подобного он и представить не мог. В каком-нибудь киношном или книжном боевике – да. Нечто подобное он даже, не соврать, читал. У кого? У Штильмарка? Но то – триллер, а то – жизнь. Хотя…
… вся повседневная жизнь в стране, до недавнего времени именуемой СССР, – это триллер.
Комок исподтишка снова предпринял, попытку движения вверх.
Ломакин попятился назад, в комнату, самым плотным образом закрыл дверь, отсекая от себя прихожую-сортир-ванную-кухню. Под коленками задрожало от недавнего напряжения и от увиденного. Сначала старушка, теперь троица– гостей-ардашей.
Он наткнулся взглядом на сувенирно-подарочную коробку с завитушками, вязью и восьмиугольными орнаментами: Коньяк Азербайджана. Машинально распаковал – пять бутылок, в картонных гнездах, на подбор: Апшерон, Гянджа, Баку, Гекель, Карабах. Хлопнуть, что ли, стакан? Большой, привет с родины предков. Не винтовой самопал – подлинник доморощенного разлива. А значит, никакой грузинский-армянский-дагестанский – в подметки не годится!
Но в сию минуту он не только бы спутал ароматические букеты одного-другого… – пятого, он, хлебни глоток, не отличил бы вкус и запах от скипидара-ацетона. В комнате и при открытой форточке тяжело давил запах растворителя. Зажмурился полы только что окрашены, среди комнаты стоят кадочка и черепок с краской и мазилкой. Маляры-рабочие красили, а теперь, как нарочно, ушли.
Никто никуда уже не идет. Не маляры – гости– гардаши. И не уйдут, лежат. По его милости. Сначала старушку теперь… Старушку – не он, не убил. Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда шел! Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел. Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!… А старушку эту черт убил, а не я… Довольно, довольно! Сгинь! Елаева-Елдаева тоже черт утопил? Нет. Ты! Косвенно. Заранее предположив исход еще тогда, когда усмирял зэка кнутом и пряником, защитными тычками и водкой. Пусть. Пусть кошкоед Елаев – скот, и никогда совесть не загрызет Ломакина… Не загрызет, нет, – это сейчас, не совесть, это изжога от въедливых летучих испарений. Неудачную недельку Ломакин выбрал, чтоб бросить нюхать химию! И для рюмочки коньяка – тоже неудачное время. Ломакину вскорости предстоит возвращаться строго прежним путем, координация не должна быть нарушена ни на градус.








