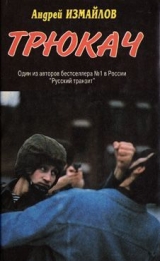
Текст книги "Трюкач"
Автор книги: Андрей Измайлов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
– Охренела?! – заорал чистюля непреклонного возраста, сидевший справа от нее через проход. Шейный платок, сорочка – мятый беж, белоснежный пиджак… уже не белоснежный, уже в крапинку. – Испачкала, дура! – но не отпрянул подальшe, а чуть было не кинулся на тетку – отомстить за поруганный блейзер. Крапинок крови на белом прибавилось. – Нарочно, да?!
Тот самый случай, когда за шмотку можно убить и… быть правым… по-своему. Ничто не существует в мире – ни заложников, ни террористов. О-о, пиджак, пиджак! Какой пиджак! Какой БЫЛ пиджак!
Но заложники существуют, и чистюля – в их числе.
Но террористы существуют, и, чистюля – не из ИХ числа.
Сказано было: не двигаться! Сказано: лицом вниз! внятно: молчать и ни звука!
Так что? Еще выстрел? Еще труп?
– На место! – просипел в спину чистюле «задний», – На место, гет.
– Белый ведь был! – обернулся пижон к заднему, ища тоном справедливости, мол, сам. посуди…
– Тапочки у тебя тоже белые? – угрожающе пообещал «задний», клацнув татэшкой.
– У меня сапоги… – о своем, о пижонском произнес чистюля и… понял намёк, – Понял! Я понял, понял! – прыгнул в кресло, как в окоп, сжался.
– И сиди! И не двигайся! Гет… в сапогах!
Грузная тетка попритихла, вполголоса колдуя над пальчиком: «Ой, мамочки-мамочки-мамочки! Ой, мамочки, мамочки!».
– Кончай стрельбу! – прогремело с небес… Условия?!
… Условия таковы: один человек, один и без оружия, выносит на полосу саквояж с баксами и дурью. И без глупостей. На прицеле держим. Он оставляет баксы и дурь в ста метрах перед автобусом и возвращается к своим. Автобус подъезжает, подбирает посылочку. И если все честно, если все без обмана, десять заложников могут быть свободны. Даже двенадцать, считая переростка и небритого кавказца.
– Остальные?!
– Об остальных поговорим, когда обменяемся. Да! Начальник, учти! Баксы и дурь подберет пассажир. Не погасите его случайно, когда он выйдет.
– Добро!
Неглупо, подумал ОН. Итак, террористы заранее решили не засвечиваться – чтоб и по силуэту их не срисовать. И за добычей, пойдет кто-то из нас. Из НАС? Или из НИХ? Не «передний» и не «задний» – это ясно. А сколько же их всего?! И кто?! Небритый кавказец, выяснилось, не из НИХ. Рискнул украдкой выглянуть, занавесочку одернуть, знак подать – и заработал пулю. Своих не стреляют. Во всяком случае, до поры до времени, пока дележка не началась. Делить добычу – это скользко, это хрупко. Но сначала ее надо добыть. И это тоже скользко, это тоже хрупко. Кто пойдет?
«Передний» вязко бродил взглядом по пассажирам. Не ты. И не ты. И ты тоже нет.
ОН был почти уверен, что выбор остановится на том, пока невидимом, скрытом спинкой, – на том самом, у кого дрогнула занавеска справа. Если небритого прикончили за попытку проявиться, почему аналогичный грешок справа не был искуплен… аналогично? Значит, если небритый – просто неосторожный пассажир, то его сосед через проход – осторожный террорист-сообщник. Он и должен поднять саквояж с полосы и втянуть в автобус. Доверить столь ответственную миссию случайному заложнику – это… безответственно. Еще откажут нервы, шмыгнет в сторону, рванется к «альфистам» – спасителям. Стреляй потом по нему, патроны трать, раскрывайся снайперам противника!
Эх, выбери террорист ЕГО, он бы знал, что делать, – не в сторону шмыгать, не к «альфистам» рваться, а нырнуть с пробросом под дно автобуса. Мертвая зона. Поди угадай, куда целить, хоть весь пол в решето превращай. А под дном, на полосе, есть возможность обменяться знаками со спецназом: куда выкатиться, где прикроют, когда отвлекут маневром. Секунд пять-шесть у НЕГО было бы, это метров сорок петлять-кувыркаться – это для НЕГО не задача. Шансов поймать на мушку – практически никаких, ОН ведь удалялся бы от автобуса, да еще с непредсказуемой стороны. «Альфистам» сложней, им надо приблизиться к автобусу, и откуда они пойдут – видно заранее, как на ладони… ОН бы с ними, со спецназом, поделился соображениями: не двое террористов, нет, не двое, а значит, наблюдение из автобуса ведется по всей поляне, на все триста шестьдесят градусов. Да? И сколько их? Н-не знаю, н-не уверен.
ОН ошибся и на сей раз. Взгляд террориста перевалил через намеченную ИМ кандидатуру, побрел дальше, остановился.
– Почему я?! Опять я! Почему все время я?! – заканючил устрашающий панк.
– Почему – ты? – издевательски удивился террорист, – Кто сказал, что ты?
– Вот и я говорю: почему я? – взвизгнул панк.
– Не гони волну, Боб – подтолкнул локтем панка сосед, друг-товарищ-и-волк, панк. – По-хорошему ведь с тобой. Иди!
– Ты иди! – указал бандит стволом на соседа.
– А я – почему? Вы же сказали, он! Почему – я?!
Хороший мальчик, на вы обращается, воспитанный. А так и не скажешь, на первый-то взгляд.
Террорист улучил брезгливое, но удовольствие. Крутой по сути, тычущий носом в дерьмо эту парочку, пародию на крутых. (Э! Вы поняли, почему нас не обоссали?! Да потому что мы – ком-мманда-ааа!!!) Команда распалась, стоило чуть тронуть.
– Ты! – повторил бандит и… перевел ствол на первого, на Боба.
Тот влип в кресло (может, и не обоссали, но он как нибудь уж сам…).
– Не понял? – участливо спросил бандит. Сунул ствол в горло панку и, зацепив за подбородок, выдернул того, как рыбу на крючке, повел-повел к передней двери.
Спокойней-спокойней! – подал голос задний террорист. То ли напарнику, то ли идущему на заклание панку.
Правы психологи: жертва с какого-то момента начинает сопереживать палачу, то есть искать у него сочувствия и… находить. Да его и в помине нет! Находят…
– Не бойся, не бойся! – приговаривал бандит, подтягивая панка к выходу. – Не бойся. Когда подъедем к чемодану, дверь откроется. Ты просто хватаешь и – обратно. Ничего страшного, да? Не страшно?
– Н-н… – панк Боб скованно кивнул. Ствол по-прежнему цеплял его за подбородок.
– Вот молодец! – поощрил бандит интонацией. – Мотоцикл у тебя есть?
– Д-д…
– А у него – тоже? – эдаким взрослым дядей поинтересовался террорист.
– Т– т…
– Видишь, как хорошо! Сумочки срываете?! На ходу?… Видишь, как просто. Сейчас то же самое. Почти. Только не бойся. И не промахнись. Мы едем, проезжаем мимо чемодана, ты хватаешь и – все! Он тебе поможет. Эй! Иди! Сюда, сюда! Иди! За руль сядешь!
Второй панк, недоуменно прижимая руки к обклепанной груди, ежесекундно оглядываясь, кроличьи пошел на удава. Вы мне? Вы меня? Или не меня?
ОН чуть не скрипнул зубами… Выбери меня, выбери меня! Можно мне?!
Поздно. Вернее, пока рано.
Тоже неглупо. Ветровое стекло занавесочкой не прикроешь, вслепую не поедешь. Обзор нужен, но и сам засветишься. Тогда за руль сядет пассажир-заложник. Лихой ездок! И дружбан его – на подхвате. Без глупостей, ладно? Без виражей, без гонок по вертикальной стене, без… глупостей! Ствол, в сантиметрах от лопаток, понял?!
– Ты ему поможешь, да? Он же твой дружбан! Смотри, не подведи его. И меня не подведи!
Саквояж стоял в сотне метров. Человек, принесший его в оговоренную точку, был оговоренно один и без оружия. Он поставил саквояж на бетон полосы, показал пустые ладони, показал голую спину и – оговоренно вернулся к… своим, за триста метров.
Триста метров для снайпера – не расстояние.
Оба панка знали, пусть и только по видюшным боевикам, что триста метров для снайпера – не расстояние. Они мандражировали настолько стыдно, что у НЕГО по позвонкам пробежал озноб. Тот самый, который возникает при наблюдении за отчаянно фальшивящими актерами в плохом театре.
Впрочем, панки мандражировали искренно. Зато АКТЕРЫ отнюдь не фальшивили. Настолько не фальшивили, что ОН так пока и не вычислил, кто здесь актеры, а кто просто почтенная публика. Не самый плохой театр. Хороший…
Соседка нетерпеливо еще и еще раз сжала пальцы. ОН еще и еще раз ответил пожатьем: терпение надо иметь. И не объяснишь вслух, черт побери! Сочтет трусом? И ладно!
Трусить стыдно, храбриться глупо. Силенок-то должно хватить. Но! Сила есть, ума не надо… Таков девиз узколобых качков. У НЕГО иной девиз. Учитель сказал:
Противник не знает, где он будет сражаться. А раз он этого не знает, у него много мест, где он должен быть наготове. Если же таких мест, где он должен быть наготове, много, тех, кто со мной сражается, мало. Поэтому, если он будет наготове спереди; у него будет мало сил сзади, если он будет сзади, у него будет мало сил спереди; если ОН будет наготове слева, у него будет мало сил справа, если ОН будет наготове справа, у него будет мало сил слева… Мало сил у того, кто должен быть всюду наготове; много сил у того, кто вынуждает другого быть всюду наготове… – сказал Сунь-Цзы.
Древнекитайская монотонная ритмичность – для непосвященных убаюкивающа. Для посвященных – мобилизующа. Повторяй. Не страшись повторить слово, страшись упустить слово. Упустишь слово – упустишь дело.
ОН не хотел ничего упустить. Но обстоятельства вынуждали быть наготове – всюду: слева-справа-спереди-сзади. Мало сил у того, кто должен быть всюду наготове.
Когда и если авантюра с подхватом добычи удастся, неизбежен второй этап переговоров, неизбежен выпуск на волю десятка заложников, то есть дюжины, считая трупы. Значит, пассажиров станет меньше. Круг сузится. Потом, скорее всего, террористам понадобится вертолет – не на автобусе же они намереваются упорхнуть. Значит, еще одна порция заложников отойдет в безопасность. Круг еще сузится.
Лить бы ЕМУ, самому не попасть в число пассажиров, которых выпихнут на свободу. Без соседки он – никуда! Он ее одну не оставит. А задний бандит явно помнит, не забыл о своем обещании показать ей… Вот и дождемся, поглядим еще, кто кому, что покажет.
Не бойся, не бойся… – подбадривал бандит и того и другого, панка. – Я с тобой… не бойся…
– А… вы успеете? – робко спросил панк Боб.
– Успею, успею! – успокоил террорист, – И он тоже успеет! – кивнул в конец салона. – Только вы успейте! Ты можешь, я тебе, верю!
Да уж! Слияние жертвы и палача. Панки покорно скрылись под крылом бандита. Они боялись не бандита, они опасались снайперов, альфистов, спецназа. Посторонние, отвлеченные фигуры там, далеко, в трехстах метрах. Обученные стрелять на поражение. Кто их знает, что у них там, в мозгах творится, – им бы только цель поразить! А цель – это панк Боб, это панк-дружбан. Может, впервые пожалели о собственном поколенческом маскараде. Устрашить старались? Страшитесь – альфистов не запугаешь хайратниками, серьгами, заклепками, значками, свастикой. Для спецназа подобная боевая раскраска – лишнее подтверждение: они, ублюдки!
Не взревешь ведь благим матом: Дяденьки! Это не мы! Мы это не они! Мы мирные люди! И наш… мотоцикл… А нас заставили! Там, сзади! Во-первых, не расслышат. Во-вторых, не поверят. В-третьих, нельзя же подводить тех… которые сзади. И ствол под лопатку целит. И… сказал же им дяденька: Ты можешь, я тебе верю!
Мыслимо ли обмануть доверие старших?! Немыслимо! Может, если они, Боб-и-дружбан, справятся, то им тоже перепадет? В конце концов, они старались, они помогли. Мы ведь команда, а? Команда?
Вряд ли, вряд ли. Тогда хотя бы отпустите, в первой десятке, дяденьки! Пожалуйста!
Да пожа-а-алуйста! Катитесь на все четыре! Но сначала: ты кати во-он туда, а ты хватай во-он то!
А если снайперы на прицел возьмут, вы успеете… первыми… того самого?
А как же! Ты же понимаешь, парень, это в моих интересах даже больше, чем в твоих, соображай! Сообразил?
Д-д…
Молодец! Давай иди! И ты иди!
… Боб свернулся гордиевым узлом в ступенчатом приямке, таращась в щель между дверными прорезиненными губами: не прозевать бы миг, когда мимо мелькнет саквояж.
Дружбан усаживался в кресло водителя будто хронический миазитчик. Глаза не отрывались от панели управления – вдруг взглянет наружу, на саквояж в сотне метров, и моментально грянет выстрел. Слюдяная сеточка разбитого стекла, дыра во лбу. А тот, сзади, дяденька… не успеет!
– Вперед смотри! – приказал бандит… – Мужчина?! Заводи!
Дружбан повернул ключ. Автобус сдержанно зарычал…
– Двигай!
Дружбан хватанул рукоятку скоростей. Автобус подался вперед и тут же откинулся назад, застрял.
– Убью! – просипел бандит. – Двигай!
– Я двигаю, двигаю! – виновато зачастил панк– дружбан. – А он не двигается!
– Рука затекает! – сообщил гордиево-узловатый панк Боб. – Могу не схватить!
– Я тебе не схвачу! – посулил жути террорист.
Меньше всего панки мечтали о лаврах героических саботажников. Больше всего они мечтали: чтобы все это побыстрей кончилось. Но кончиться все это могло только после того, как автобус преодолеет сотню метров, а саквояж окажется внутри.
– Ты вообще умеешь водить?! – занервничал бандит.
– Умею я, умею! А он не хочет!
– Сдвинься, я хочу видеть, как ты умеешь. Давай снова! Э! Не так сдвинься! Меньше! – террорист явно хотел и за процессом проследить, и на мушку не сесть. – Вот так! Давай снова. Начинай!
Панк-дружбан дал снова, начал.
Все правильно он умел. Только автобус повторил препинание и замер.
– Зажигание нормально… – виновато извинился панк-дружбан, – Искра…
– Зажигание-то нормально… – озадачился бандит. – А что же с ним тогда?
– Скоро вы?! – крякнул панк Боб…
– Э! Что там?! – проконтролировал ситуацию «задний», не покидая позицию.
– Я знаю?! – досадливо рявкнул «передний», – Не хочет!
– А зажигание? – запоздало присоветовал «задний».
– Аур-р-рх! – издал междометие «передний». Будь его воля, спихнул бы панка-дружбана, мол, ну-ка дай – я! То есть, конечно, вольному воля: на – ты! Охота подставиться? Неохота! – Еще пробуй! Еще!
– Я пробую! Я – еще! Ну, не хочет он!!!
Прощенья просим, это уже фарс! Заблудившийся автобус! Импортные кинозвезды, кого бы ни изображали, слабо вам! Вы там у себя – в тепличных условиях! Только и знаете, что прыгать со скоростного поезда, цепляться за шасси взмывающего аэроплана, вплавь догонять уходящий лайнер в океане, а ежели на авто – и тогда оно у вас трижды перевернется, но дальше помчит. И алиби всегда обеспечено! Потому как – расчет: в 00.17– экспресс, в 03.24 – рейс такой-то на Гонолулу, в 07.01 – лайнер из Гонолулу.
Сюда бы вас! Гонолулу вам всем во все места и припека сбоку. Левитана вам в кошмарный сон: Вся апппаратура ррработает норррмально!
А тут… Что русскому хорошо, то немцу (французу-американцу-итальяцу… любому нерусскому!) смерть. Да уж! Вот только это еще как посмотреть – русскому хорошо.
Пока – плохо.
Нервы могли сдать теперь не обязательно у террористов, но и у спецназа. Если точней, не нервы, а просто кончится отпущенный срок, примут решение, пора штурмовать, а то мы с ними по-хорошему, а они финтят…
Заблудившийся автобус застыл на полосе. Полуразвалина на честном слове, слезно требующая ремонта, доходяга из пункта А в пункт Б. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Гром грянул:
– В чем дело?! У тебя совесть есть?!
– Нету! – огрызнулся террорист. – Куда торопиться?!
Торопиться им было куда, само собой, однако не признаваться же, что транспортное средство – ни тпру ни ну, куда и как бы кто ни торопился.
– Дело твое, – якобы равнодушно рокотнул гром. – Нам тем более некуда торопиться.
И это была скрытая угроза, предупреждение. С наступлением темноты наступление спецназа на бандитов облегчается, задача упрощается.
Последнему дураку и то ясно! Террористы – не дураки. А пассажиры в массе своей – дураки. Им бы, пассажирам, молчать в тряпочку, злорадствовать втихомолку. Но бездействие тягостней любого действия, даже когда это оскорбление действием. Потому, игнорируя внушительный приказ на предмет молчать и не шевелиться до особого распоряжения, то там, то сям подавал голос очередной знаток. Полуось… Наверно, полуось. Скорее всего…
– Тебя не спросили! – раздраженно отмахивался террорист, но без прежней агрессии.
– Да кардан полетел. Точно, кардан!
– Если кардан, то мы засе-е-ели…
– Не каркай.
– Или, может быть, засор карбюратора?
– Тебя не спросили!
– Тогда фильтр тонкой очистки топлива засорился, а?
– Тебя не спросили!
ОН поймал себя на мысли, что жаждет поучаствовать в мозговой атаке, пока не началась иная атака, спецназовская. Тебя не спросили! Спросили бы ЕГО! ОН бы предположил: катушку зажигания у вас пробило, грамотеи! Катушку зажигания!
Впрочем, тоже не факт. И полуось, и кардан, и карбюратор, и фильтр, и катушка – все одинаково возможно. Куда пальцем ни ткни, везде болит. Может, просто палец болит?
– Совесть у тебя есть?! – повторил гром небесный.
КАДР – 4
Сказано: совесть – тайник души.
Душа Слоя-Солоненко для Ломакина была – потемки. С какой-такой радости-печали Солоненко согласился на проект «Час червей»? Деньги некуда девать? Грех надо замолить? Да, но в таком случае необходимо прежде всего признать: грешен. Человек же устроен так, что непременно отыщет аргумент в свою пользу: как бы там ни было, я честный-бескорыстный-справедливый. Даже если «я» – бандит, грабанувший лоха, это самое «я» оправдается перед собой: дерьмо – не «я», а лох, не заслуживающий отъятого, на то и лох, зато «я» часть отъятого передаст детскому дому или вложит в нечто богемное, в нечто просветительское. Нет?
Нет. Бандит – даже выросший в благообразного коммерсанта – всегда осознает: он был, есть и остается бандитом. Именно потому он так стремится подружиться с писателем-художником-музыкантом. Именно потому он так приосанивается, если на какой-нибудь организованный им самим междусобойчик приходит хотя бы один изголодавшийся артист, котого все знают. Именно потому он стремится вложить часть награбленного во что-либо благотворительное, дабы о нем говорили: вот добрый человек. И комплекс неполноценности всегда будет при нем. Из грязи никогда – в князи. Даже облачившись в княжеские одежды, не истребишь запаха немытого тела.
Однако Ломакину, абсолютно ничего не было известно про стиль и методы сколачивания капитала Евгением Павловичем Солоненко, когда на коктейле в Доме кино их познакомили.
А познакомила их Антонина. А с Антониной он, Ломакин, познакомился всего за два часа до Слоя-Солоненко, перед премьерой «Изверга». Нездешнюю мулатку знобило то ли от здешней весенней мозглости, то ли от, всегда унизительной, очереди-толчеи гардеробного зала, усеянного опилками. Короткая шуба (или манто?) не унимала озноб, а, наоборот, усиливала – ведь ради того, чтобы сдать ее, шубу, и приходилось длить и длить бессмысленное и медленное топтание, ближе-ближе, к вешалкам. А местная шатия-братия со смутно знакомыми лицами привилегированно просачивалась к барьерам.
Ломакин отчасти принадлежал к местной, шатии– братии, да и в «Изверге» играл не последнюю роль, пусть и замещая в кадре звезду Ярского на сложных трюках. Он мог просочиться к вешалкам без очереди-толчеи. Собственно, так и сделал минуту-другую назад. Отчего же не помочь нездешней даме.
– Помочь?
– Чем?
– Позвольте вашу… ваше манто. Я сдам.
– Без очереди?
– Без.
– Лучше скажите громко этим… этим всем: В очередь сукины дети, в очередь!
Нездешняя мулатка, знающая Булгакова. Без акцента. Наверно, все же здешняя – но не местная шатия-братия. Даже странно! С такими данными – и не местная, не дом-киношная. Обязательно (моргнешь глазом – проморгаешь) кто-нибудь позарится. Публика еще та! Мол, я, если не узнали, режиссер эх-ма такой-то. Нет, я! Нет, я! Не узнаете? Еще в Кинопанораме недавно показывали! – Да что – ты! А вот я… А я – спецкоррр! Пусть хорохорятся, но все они в моих руках – не напишу, и знать никто не будет! Эт ничего, что я прыщавый, это от бурного обмена веществ. Обменяемся на досуге? Веществами? Красавицы обычно клюют на убогих. Клюнет? О! Клюет, клюет!
Витающие флюиды. Щас только княжеские шубы– пальто – пыльники скинут и – густопсово примутся благовонять мыслями, оформляя их в слова.
– В очередь, сукины дети! В очередь! – гаркнул Ломакин, рискуя репутацией. Попереть не попрут, но затаят обиду.
А пошли вы все! В очередь!
Местная шатия-братия отпрянула было – уж сильно трубно провозгласил Ломакин, – но тут же ринулись на прежние позиции. Мало ли, ненормальный!
Да нет, он нормальный, просто делает скандал. А вот фиг ему! Не получит!
М-м, а кто это?
Это? Черт знает. A-а! Каскадер это! Он уже в тираж выходит, потому, видишь, на все идет, лишь бы общее внимание привлечь. Не обращайте внимания!
А кто это с ним?! Обратили внимание?!
Нельзя не обратить, но только… знаете ли, верно подмечено: кто бы то ни был, но – с ним!
– Достаточно громко? – осведомился Ломакин, светски склоняясь к спутнице (хотела испытать? испытания прошли успешно! а ты, дама, теперь – спутница, даром ли за локоток придержал в момент шариковского взрева!).
– Достаточно. А можно здесь этого не снимать вообще? – осведомилась мулатка, светски поведя плечами.
– ЭТОГО можно не снимать… завсегдатаем уверил Ломакин. Слово – не воробей. Запоздало цапнешь двусмысленность за хвост, ан уже выпорхнула, оставив в кулаке парочку перышек.
«Изверг» – так себе. Проходная фильма, вокруг которой устраивают ажиотаж, премьеру в Доме кино, шумиху в оплаченной спонсорами прессе: Первый российский супербоевик! Герой, – русский Рэмбо! Но назвать его так – значит, польстить не герою Изверга, а – Рэмбо! Впрочем, трюки Ломакин на фильме, зарядил действительно недурственные. Если бы все решали трюки!… В общем, средненько, средненько. Но публика инерционно валила валом: не посмотрим других, так себя покажем. Тусовка с бесплатными бутербродами и бокалами того-сего.
Обычная картина! Четыре категории тусовщиков. Первая – шнырливые жратики-халявщики, зубодробительно жующие один за другим квадратики с ветчиной-сервелатом-сыром-икрой, взахлеб глотающие один за другим порции шампанского-водки-ликера-сухача… а-а, что, еще и кино показывают?!
Вторая – насмешливые новички, с зубовным скрежетом сожаления отказывающиеся от навязчивого сервиса дурновыглаженных официантов-разносчиков: спасибо, пока не надо! Интонация и взгляд проститутки, на которую (из которой?) обрушились месячные: сегодня-нет. И хочется и колется. Как бы так исхитрится, чтобы выглядеть достойно?
Третья – зубры, хохочущие напоказ. Напоказ – мутно знакомые профили и фасы по невнятным отечественным фильмам. Неужели это он?! Вроде бы он! Уй, ка-акой старый! И лысый! Может, не он? Да он, он! А – она? Ой, перестань, не может быть! Почему? Посмотри на нее – швабра и есть! Хочешь сказать, что это – ОНА?! А кто?… М-мда, она… Элита, хохочущая напоказ, элегантно снимающая бутербродики с подносов – напоказ, выбирающая из полукруга бокалов единственный (А тут что у нас, дружочек?) – напоказ.
Четвертая – озабоченные домочадцы, виляющие от подноса к подносу: время разбрасывать комплименты, время собирать бутерброды. Боком-боком – квадратики с деликатесами стряхивать в деловые, на ремнях, сумки (целлофан заранее подстелен). Жаль, напитками флягу не напитать – заметно будет. Да!
И салфетки! Фирменные, пусть и бумажные, с эдаким вензелем. Каждый бутербродик надобно на салфетку. Салфетки тоже – туда же, в деловую, сумку, в отдельное… отделение. Промокнуть губы для виду и – туда, туда. С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Ни к одной из четырех категорий Ломакин не принадлежал. Ни к одной из четырех категорий дама в манто не принадлежала.
Они попробовали дурной кофе в одном из стоячков задрипанного (что уж там! да, задрипанного!) холла Дома кино. Они прошли в зал.
По обыкновению, некто изобразил конферанс, представляя создателей, а также исполнителей, а также вдохновителей, а также вспомогателей (гримеров– костюмеров-монтажеров). Ломакин на просцениум не поднялся. Хотя ему всячески сигнализировали сверху вниз: А вот среди нас есть еще человек, без которого… Нет, не поднялся. Он смахнул два блокнотных листочка с кресел, обозначающих – кресла заняты. Усадил даму, уселся сам. Если он подчинится манящим жестам, то, вернувшись, вполне может обнаружить, что возвращаться некуда: занято. И даму сгонят, лиши ее опекунства. Вы разве не видели – тут листочки были!
Ерунда! Неизбывная традиция: кто первый встал, того и тапочки, кто первый сел, того и кресло. А всяческие метки (занято! занято!) – подзаконны.
И вообще красоваться перед вполне равнодушным залом в непонятном качестве… Человек, без которого! Правда, вы его на экране вряд ли увидите, вряд ли узнаете. Но – похлопаем, похлопаем, дорогие друзья! И – спорадические, вежливые аплодисменты. В отличие от поощряющей долгой овации любимцу публики – благообразному, респектабельному старцу, мастеру эпизода. Особенно после его аффектированного признания: Я очень люблю этого режиссера! Я влюблен в главного героя! Я люблю вас всех! И действительно, мастер эпизода – эпизода охмурения юных дамочек собственной породистостью… из фильма в фильм. Нужно быть большим мастером, чтобы убедить всех и каждого в своем сердцеедстве при том, что только ленивый не в курсе: мастер… – м-м… Голубой, как… как Левис. В таком контексте микрофонное воркование насчет любви к режиссеру, к герою, ко всем – н-неоднозначно.
Потом – фильм. Надо сказать, Ломакин смотрел его не без любопытства – какой бы средненький он, Изверг, ни был, но углядеть его в первый и последний раз не помешает. Перед тем как Изверг ввергнется в черную дыру небытия. С отечественными лентами нынче так и только так: куда деваются? кому нужны? на кой?…
А вот дама-мулатка не досидела до финала. Минут через двадцать она чутко дрогнула лицом в сторону сумрачного колыхания портьеры (одна из выходных дверей с красным обозначающим плафоном сверху приоткрылась, хлестнул сабельный узкий световой луч). Настойчивый полушепот опоздавших, не менее настойчивый полушепот церберши: уже началось, давно началось, все равно мест нет!
Сабельный луч сверкнул и, – погас. Портьера успокоилась. Никого не впустили. Смотрим дальше! Есть на что посмотреть! Вот сейчас, как раз сейчас.
Дама интимно провела ладонью поверх его ладони – извинилась. И – бесшумно-бестелесно, выскользнула. Надо же! При самолетно-салонной тесноте между рядами – и ног никому не отдавила, и приподняться с втянутым животом никого не вынудила, и не зашипел никто!
То есть именно Ломакин чуть было не зашипел: куда, мол, вы, сейчас самое интересное, ради чего и стоило приходить! Вот досада-то! Именно вот сейчас, как раз сейчас… ни раньше, ни позже!
Вот ведь начинается: СПРИНТ ПО КРУТЫМ КРЫШАМ! Одним кадром, без перебивок, без монтажа! Сверху снимали, с вертолета, чтобы видно всем: без дураков!
Снимали в Риге. Тогда прибалты уже отделились, уже занеслись. А фильм уже почти снят. Только по крышам надо еще пробежаться в спринтерском темпе. Коллеги! Вы коллеги или кто?!
Эсшайтэ ф Российу, топчите сапокаами сфой крыши!
Да мы столько денег вбухали! Вы ж понимаете!
Фаши рупли нас не интэрэсуууют. У нас – латы– литы-кроны. Эсшайтэ! Наши крыши – этто музеееум, а фаши сапокиии…
Да мы… мы на цыпочках! Мы тихохонько! Мы подложим что-нибудь твердое – не проломим, не помнем!
Эсшааайтэ!
Спасло то, что вместе с Ломакиным по крышам должен был прыгать Улдис. Собственно он, Ломакин, Улдиса и догонял. Нелегкая это работа – догнать и перегнать Улдиса, прыгая по крутым крышам. Надо признаться, Ломакин перед спринтом перебросился парой-тройкой слов с Улдисом: Ты споткнуться можешь? У флюгера? – Да? Тогда я по черепице скачусь и – вдребезги. – А вон, глянь, там, карниз. Надежный, сам проверь. – Не стану я проверять… Ты проверил? И хорошо. А зачем? – Иначе я тебя не достану. – Да. Это – да. Что да, то да!
Благодаря Улдису мэрия милостиво соизволила позволить. Но только один раз… И если что-нибудь будет повреждено, наши экспееерты оппределяаат ущееерп и… не в руплях.
Они тогда ничего не повредили, кроме собственных ступней, спринт пришлось бежать в комбинированных ботах, сверху грубое-тяжелое-внушительное, снизу балетно-пинеточный подбой. Иначе ущееерп неминуем.
– Почему, кстати, у тебя сразу акцент проявляется, Улдис? Ты же по-русски – Как я!
– У нас в кооротее фее кофоряаат на сфоеоом.
– Только улицы называются по-кавказски. То– есть по-русски, но с кавказским акцентом.
– В каком смысле?
– А вот…
Они как раз прогуливались неподалеку от Домского собора, и улочка в Старом Городе именовалась (еще не латиницей, а прежней, не замененной еще кириллицей), грозила: Атриежу!
– Ax-так! – притворно вскипел Улдис. – Тогда сам иди в мэрию и сам договаривайся. На русском. С кавказским акцентом. Иди, иди!
– Нет. Уж лучше ты. Боюсь, не выдержу и что– нибудь у кого-нибудь там… атриежу!
Но спринт по крутым крышам у них получился славно. – И с оператором повезло – профи. А то ведь как бывает? Делаешь трюк – на экране туфта… Не потому, что плохо сделал трюк, а потому, что оператор отснял под таким ракурсом – проще было не делать трюк. Все впустую… Но тогда, в Риге, – получилось. И пусть Ломакин, – только тень звезды Ярского (тень, знай свое место), только каскадер-дублер. Но он то, Ломакин, знает. И Улдис знает. И сам Ярский знает.
Досадно, что мулатка не знает, не видит. И… Ломакин не знает, не видит. Он последовал за ней. Правда не столь изящно – и ногу кому-то отдавил, и шипения вслед наслушался. Зато успел.
Вышел из зала – посреди холла она. И никого. Запоздавшие гости исчезли.
Это для нее они исчезли. Ломакин моментально сообразил куда они исчезли. Церберши тоже нет, значит провожает дорогих гостей куда надо. А куда надо?
– Помочь? – уже играя игру, спросил Ломакин.
– Чем? – чуть улыбнулась она.
– Их проводили в директорский зал. Могу проводить.
Директорский – просто небольшой зальчик с двумя телевизорами, на экраны которых подается изображение то же самое, что и на всю аудиторию. То ли эдакий кабинет только для избранных, то ли вариант плебеи пускай на кухне жрут!
Дорогим гостям церберша внушила: избранные, вы, избранные. Экранчик, само собой, не такой большой, звук, само собой, не такой громкий-объемный, цвет, само собой, не такой яркий-контрастный. Зато – в креслах, зато можете курить (вообще-то не рекомендуется, но вам можно), зато обмен впечатлениями – да ради бога, хоть в полный голос.
Ах, вам не столько кино, сколько отыскать даму? Где же вы в темноте ее найдете. Вот кончится, тогда… Скоро, скоро. Еще час десять – и конец.
Избранные снизошли до согласия. Только нельзя ли тогда что-нибудь сюда же… вот, это вам… принесите.
Вообще-то не рекомендуется, но вам можно.
Дорогие-щедрые гости! Очень щедрые. Ломакин с дамой почти наткнулись на цербершу, которая, шевеля купюрами, шевеля губами, отсчитывала – сколько она в результате поимела. Нет, она честно принесет коньяк (коньяк они попросили) и орешков (орешков они попросили) и честно отдаст сдачу с мелочью (непременно с мелочью – мол, во как, до последнего рубля!), но пятерочку (в тысячах, разумеется), заранее усует к себе – эти буржуи новоявленные совершенно счет деньгам не знают!








