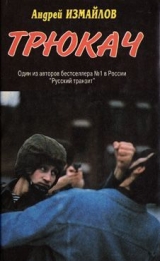
Текст книги "Трюкач"
Автор книги: Андрей Измайлов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Вот только стрельбы не хватало Ломакину! Оно конечно, ствол – больше для понта, для уверенности в себе… но есть у оружия такое обыкновение – срабатывать помимо воли того, кто его держит.
Укрыться бы заранее. Одеяло – не лучшее укрытие. Да. Действуй, Ломакин, как задумал.
– Тук-тук! – игриво прозвучало у дверей, потом «тук-тук» костяшками пальцев о дерево. – Можно?
Ломакин промолчал. Ломакина здесь нет.
Дверь распахнулась под ударом ноги. Но никто не влетел в проем, выжидал: вдруг сюрприз? вдруг огреют сзади по башке?
После затяжной паузы Ломакин угадал резкое вихревое движение – видеть не видел, но угадал: «Петр-первый» в полном соответствии с киношными образчиками небось стволом водит – полуприсев, сжав обеими руками, ловя на мушку… пустоту.
Пустоту, пустоту! Нет никого!
Впрочем, замкнутое пространство само по себе демаскирует: как бы удачно ни спрятался, ищущий найдет, если знает – есть тут, есть, но спрятался. Даже при полной неподвижности, даже не дыша – ты есть. Флюиды.
Но где ты есть, мастер?!
У противоположной окнам стены, вправо от двери, стоял шкаф. Тот самый; чуть сдвинутый. С правой стороны этого шкафа, в углу, образованном стеною и шкафом, стоял Ломакин. И стоял ужасно странно, – неподвижно, вытянувшись, наложив ладони на заднюю крышку шкафа, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене, в самом углу, казалось желая весь стушеваться и спрятаться. По всем признакам, он прятался, но как-то нельзя было поверить. И правильно! Он не прятался, он засел в засаду… если эту позу можно характеризовать как «засел».
Если бы «Петр-первый» предпочитал книжки на досуге читать, а не видик смотреть, то мог бы и ЗА шкаф сунуться, стволом проверить – кто тут у нас? А у нас тут фигура – точно окаменевшая или восковая, бледность лица ее неестественная, черные глаза совсем неподвижны и глядят в какую-то точку в пространстве! Что бы тогда оставалось делать Ломакину? За палец укусить непрошеного гостя? Да? А тот вне себя три раза из всей силы ударит револьвером по голове припавшего к нему «Мерджаняна» – и, кстати, обнаружит: не Мерджанян это вовсе! Так что нельзя показываться на глаза…
«Петр-первый» все-таки предпочитал не книжки, а видик. Потому вместительный шкаф был им воспринят как вместилище тела, ошалевшего от жути, дрожащего тела. Эка! В шкаф забрался, клиент! А выступал-то по телефону, выступал-то!
Ломакин прошершавил ладонью по крышке: ага, здесь я, внутри. (По такому шороху не определить – внутри или снаружи. Ну разумеется, внутри! Книжек «Петр-первый» не читал, все больше – видик, видик…).
Ломакин мобилизовался, и…
… и «Петр-первый» предсказуемо прыгнул к шкафу. Наверное, нацелил ствол. Только не выстрели сгоряча, придурок! Пуля насквозь прошьет и дверцы, и заднюю крышку, и… Ломакина.
Не выстрелил. «Мерджанян» нужен «петрыэлтерам» до смерти напуганный, но, хм, живой!
… и «Петр-первый», наверное, издевательски усмехаясь, взялся за створки шкафа, не выпуская ствола, но вынужденно ослабив хватку, – дернул обе створки на себя!
… и Ломакин разжал пружины мускулов, распрямив руки на полный рычаг.
Шкаф с каким-то древним взвоем, на манер ти-рекса из «Юрасик-парка», пал «фасадом» на пол и накрыл-сожрал «Петра-первого». Пуст был шкаф, голоден…
Ломакин прыгнул сверху, добавив тяжести. Был риск, что поглощенный гость начнет беспорядочно расходовать обойму, вдруг очутившись в «гробу». Не начнет. Ствол не удержался, вылетел, со свербящим звуком нырнул под топчан.
Ломакин выждал с минуту, пока не уляжется пыль, пока не стихнут басовые волны, теребящие селезенку. Ломакин обсмотрел, не прищемило ли гостю что-нибудь жизненно важное. Нет, не прищемило. Иначе писк стоял бы еще тот!
Писка не было. Попавшийся «Петр-первый», вероятно, был оглушен, в беспамятстве. Ну-ну, полежи, парнишка, не рыпайся до поры!
Ломакин сдвинул топчан. Нащупал ствол. Да-а… Это вам не пугач-»поверлайн»! Это… ну-ка, ну-ка… «вальтер». Кажись, П-38. Сцепленный затвор, рассчитанный на патрон 9 мм. Курок расположен открыто, но перед первым выстрелом его можно не взводить – ударно-спусковой механизм самовзводный. Так называемый «офицерский». Немцы вооружали этими «вальтерами» прежде всего офицерский состав. А нынче поисковики-навозники, мародеры, роясь в сегодняшнем окаменевшем говне по местам прежних боев, откапывают и пускают в дело. Огнестрельного добра в земле – избыток. Отмочил в керосине, вычистил, смазал – еще послужит. Как новенький.
Э-э, нет. Не как новенький. Просто новенький. «Вальтер», да, но более тупорыл, чем П-38. Пожалуй, это – П-88. Ну да, съемный магазин, двухрядное расположение патронов – пятнадцать штучек. Однако П-88 никоим образом не мог погрязнуть в питерских болотах, чтоб его нашли через полвека. Ибо П-88 только с середины восьмидесятых стал производиться. Свеженький ствол. Откуда? И что за свеженьким стволом уже числится? И не глупо ли присваивать оружие-трофей? Глупо, глупо. Но очень хочется. Пригодится, учитывая события истекших суток. Надо лишь бумаженцию накропать: мною, таким-то и таким-то, на скамеечке в Летнем саду обнаружен пистолет; будучи законопослушным гражданином, добровольно сдаю находку правоохранительным органам. То на случай внезапной проверки, какого-нибудь общегородского «Сигнала». Вот шел сдавать… Дата? Ах, дата нужна? Дык… сегодняшняя дата! Как я проморгал, не поставил!
Опасения же, что ствол «грязный» – пожалуй, напрасны. Социализм кончился. Социализм – это учет и контроль. Какой, к дьяволу, учет и контроль, когда диктор «Вестей» сардонически хмыкает и сообщает: при ликвидации преступной группы был изъят израильский пистолет-пулемет «узи», по словам одного из задержанных, оружие куплено у случайной пожилой женщины на Тишинском рынке, на пистолете-пулемете обнаружена надпись-гравировка: «Товарищу Манделе от президента Уганды».
Патроны лучше всего вытряхнуть, дабы «вальтер» ненароком действительно не бабахнул сам по себе. Ломакин пока не психопат, могущий нажать на курок в состоянии аффекта, но… лучше вытряхнуть. И ни в коем случае не попадаться при каком-нибудь вышеупомянутом «Сигнале» – формально бумаженция с заявлением о добровольной сдаче является оправдательным документом, но милиция теперь пренебрегает формальностями: сначала отмудохают до полусмерти, обнаружив ствол, а после начинают разбираться, кого они, собственно? И разберутся ли? «Я – такой-то» – в бумаженции. А какой? Мерджанян? Ага! Лицо кавказской национальности, да еще и с «вальтером»! Мало ли что пистолет разряжен. Читайте инструкцию, то бишь учебно-практическое пособие: «Вооруженным следует считать и такое сопротивление, которое оказывается с применением заведомо негодного оружия или имитатора оружия, если в создавшейся обстановке сотрудник милиции не мог и не должен был воспринимать его в качестве негодного или имитированного». «Вальтер», даже лишенный патронов, никак не счесть негодным или имитатором. Сопротивлением же можно счесть, например, вопрос «А в чем дело?», когда вдруг посреди улицы остановят и потребуют: «Документики, гражданин!» – и получишь по полной программе.
Хорошо хоть, пик активности всяческих служб миновал с окончанием «Игр Доброго Толи», как окрестили питерцы спортшоу по имени мэра. После пика активности закономерна полоса пассивности. То-то шпана разгулялась! Ну да Ломакин – не шпана. И «вальтер» вполне пригодится, чтобы как раз шпану пугнуть.
К слову, в том же учебном пособии, которое Ломакину довелось изучать на съемках «Ну-ка! Фас!», сказано: «Не могут рассматриваться как предметы, используемые в качестве оружия, ведро, ботинок, веник, сумка, книга… хотя бы ими и наносились удары».
Эх-ма, теоретики! По роду своей каскадерской деятельности Ломакину довелось общаться-консультироваться со спецами, для коих и сломанная кнопка, и блокнотный листик, и огрызок карандаша – еще то оружие. Но пистолет – внушительней, ведь не как средство поражения Ломакин его будет использовать (чего не хватало!), а как средство запугивания – и не миллиционеров, отнюдь! Чай, не книга… Правда, вчера только он убедился и убедил парочку «шоломовцев» в подвале Гавриша: книга – не всегда лишь источник знаний. А ведро? Если его песком наполнить. А сумка? Если в ней – гантеля. А ботинок? Если он на ногу надет. Эх-ма, теоретики!
Вот и шкаф. Его как считать? Оружием? Или средством заточения? На первых порах – да, но следует позаботиться о чем-нибудь покрепче. Ломакину всю ночь коротать – под сопровождение беспорядочных кулачных ударов по дереву; под крики «выпусти, падла, убью!» толком не прикорнешь. Выпускать тоже нельзя – освобожденный пленник тут же побежит ябедничать. Дайте поспать, неугомонные! После разберемся.
Найти бы для узника узилище поуже, чтоб не ворочался. Связать и в одну из комнат запихать – к тому же Елаеву-Елдаеву? Бельевые веревки, настриженные на кухне, имеют обыкновение махриться и расслабляться. Соседи (даже в единственном числе; даже будучи зомби) имеют обыкновение ходить на горшок и откликаться на призыв о помощи – ведь благодетель призывает! который с улицы подобрал и в тепло поселил, как не порадеть! особливо если налить обещает, только дверь открой и веревку перережь…
Могло быть так? Могло. Могло быть совсем не так, но заранее бы исключить вероятность, пусть самую малую, что «Петр-первый» высвободится – неважно чьими молитвами, собственными, старушкиными.
Ломакин нашел такое место. Дал волю воображению, прокрутил мысленно все ранее виденное кино – чего только не навыдумывают товарищи по цеху, лишь бы ни у кого раньше такого не было! А такого – не было. И выдумывать не надо! Оно есть! Он же сам чудом об это место не спотыкался, каждый раз посещая кухню. Да вот ведь час назад, когда чайник ставил.
Несуразная ванна, выставленная непонятно кем и непонятно зачем в коридорные кишки. Верно! Весу в ней центнера три – старорежимная, фаянсовая. Почему бы не попробовать?
Как Ломакин выгребал тулово «Петра-первого» из– под шкафа – и не напоминайте!
Как Ломакин пёр тулово по коридору, после чего укладывал рядом с ванной – с точностью до миллиметра, – и не напоминайте!
Как Ломакин раскачивал фаянсовое чудище, пыхтел, высунув язык, косил глазом, чтобы она, ванна, не пришлась краем на по-прежнему оглушенное тулово, – и не напоминайте!
Тяжесть-то, тяжесть! Грыжу заработать! Н-ну! Отпускаю! Силы иссякли!
Ванна громыхнула и погребла под собой тулово. Громыхнула – не то слово. Куда там шкафу! Звук был столь мощен, что заставил «Петра-первого» очнуться и заорать.
– Будешь орать – пристрелю! – посулил Ломакин в дырочку для слива воды. – Твоим же «Вальтером», понял?!
Ладно – «Петр-первый»! Не переполошились бы нижние соседи. Впрочем, планировка внизу почти наверняка идентичная – то есть коридор. Глубокой ночью вряд ли кто-то, кроме Ломакина, шастает в темных дебрях, спят небось в кроватках. А отдаленный непонятный грохот – наверно, снова где-то что– то взорвалось, прорвало, взлетело на воздух… завтра сообщат по телику. Главное – над нами вроде не каплет.
Не каплет. И дырочка для слива воды теперь сверху. Удачно, что есть дырочка, – не задохнется, паршивец. Спокойной ночи, Монтрезор!
– Убью! Выпусти! – как и ожидалось, запсиховал пленник.
– Не выпущу. Заткнись! Поспи пока. И не гунди! Я тоже хочу поспать. Время позднее.
– Тебе конец, падла! Не хотел по-хорошему, получишь все сразу! Понял, м-мастер?!
Ага! «Мастер». Замечательно, что «Петр-первый» так и не углядел Ломакина (когда бы это ему?) – «Мерджанян» остается Мерджаняном.
– Напустить на вашу контору моих рыночных армян, что ли? – раздумчиво произнес Ломакин, и…
… хорошо, что «Петр-первый» лишен возможности видеть Ломакина в лицо, – скривило и чуть не вывернуло от омерзения: пусть играя роль, пусть повторяя чужие слова, слова телефонных сявок, мнящих себя крутыми парнями, – проти-ивно! Надо ли уподобляться? Еще скажи, Ломакин: «Нассу в глаза!». Тем более, угроза как никогда осуществима – в ту же дырочку для слива воды, которая теперь сверху, аккурат над башкой узника бессовестности. Однако… иного языка современная генерация умниц-бандитов не воспринимает.
Тогда лучше вовсе помолчать. Молчание иногда пугает изрядней словесной жути. Ломакин придавил слив каблуком, внушительно пообещал:
– А будешь голосить, перекрою кислород. Через полчаса задохнешься. Так что заткнись. Поспи. И я посплю…
КАДР – 5
Метро уже открылось. Но вряд ли геи встают с первыми петухами (о! каламбурчик!) и бегут на конечную станцию, дабы поскорей предаться групповым игрищам. Они погодят, пока народные массы рассосутся по работам, по службам. Что у нас сегодня? Среда? Разгар трудовой недели! Народные массы проспались, умылись, позавтракали…
А Ломакину так и не удалось толком ни поспать, ни умыться, ни позавтракать. Остаток ночи выдался беспокойным.
Вопил телефон. Или это во сне?
Скреблась в ломакинскую комнату мучимая похмельем зомби. Или это во сне?
Загробно трубил в дырочку слива и сбивал кулаки о фаянс «Петр-первый». Отчего ты все дуешь в трубу, молодой человек? Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек! Или это во сне?
Лезли в кухонное окно со двора-колодца плоские бандитские рожи. И такие же рожи крадучись выползали из многочисленных коридорных, ранее опечатанных дверей, собирались в стаю посреди зало, жестами объяснялись: тише, тише, ближе, ближе! на счет «три!» врезаемся тупым клином, «свиньей», к запершемуся упрямцу и сообща делаем ему козью морду! Внимание! Раз… два-а… Три!!! Или это во сне?
Гнетущая атмосферка, достоевская атмосферка старого фонда с примесью современного видео-хоррора. Сон разума.
На счет «три!» Ломакин выпрыгнул из дремы, скатился с топчана и тупо уставился «вальтером» на дверь. Никто не врезался тупым клином. Пригрезилось.
Но обратно на топчан он уже не залег. Сколько сейчас? Пять утра. Часика два с половиной, значит, отмучился. Ночной чай просился наружу. Ломакин выскользнул в зало на полупальцах, вслушался. «Фаянсовый узник» угомонился – во всяком случае, из коридорных дебрей никаких звуков не доносилось. Зато! Зато донесся шорох из-за двери сортира.
Вероятно, Ломакин в тот момент еще не окончательно проснулся, цеплялись за мозги сходящие на нет видения ночи. Он рванул сортирный крючок и…
Бр-р! Дрожь неловкости до сих пор пробирала Ломакина, хотя час с лишним уже прошел. Г-герой! Трюкач-ч!
Старушка-зомби на унитазе лишь чудом не соскочила с зыбкой границы полужизни-полусмерти – на сторону смерти. Нехорошая квартира, нехорошая! Прошлой ночью – черти шалили. Нынешней – и того пуще. Не-ет, это не белая горячка, это если и горячка, то черная! Пустите меня, старую! Я лучше бутылки буду по-прежнему выпрашивать и с милицией препираться, отстаивая право поспать на газетке, расстеленной у вокзального теплого ветродуя. Лучше так, чем… так!
Бр-р! Зомби клекотала – голос исчез. Дурным глазом зомби глядела на ствол – а тот, гад, глядел ей в лоб. Бр-р!
Звезда экрана! Покоритель старушек! Вот уж что ни в коем случае не напоминайте! И не растолкуешь бабке-прим: «Я это! Я! Вспоминаете?!». Ибо про парик с косичкой, про усики Ломакин как-то запамятовал. То-то в голове роилось черт-те что – попробуйте, кто не пробовал, поспать в шапке, и не зимой, когда отопление еще не подключили, а морозы нагрянули… ранним сентябрем попробуйте – кто не пробовал!
Он поспешно содрал с головы парик, сдернул усики: «Я это! Я!». Чем вызвал лишь новый приступ ужаса – шпиен! убийца! пусти-и-ите! Бр-р!
Старушку-зомби утихомирило только весьма нелогичное, применяясь к обстоятельствам, предложение: «Выпить хочешь?!».
Да-а, найдут ее теперь «петрыэлтеры», как же! Бабка дунула от «жигуля»-шестерки с пятитысячной в кулачке столь резво, будто с реактивным помелом в заднице. «Вон киоск открыт!» – показал Ломакин ей, тормознув у Василеостровской. «Попугайчиков» она, разумеется, накупит, но назад к шпиену не вернется, что тоже разумеется. И в нехорошую квартиру ее отныне даже «Абсолютом-курантом» не заманишь.
Впрочем, то проблемы «петрыэлтеров» – а официально: фирмы «Этаж». Папка с бланками и кое-какой документацией лежала на заднем сиденье «жигуля». А еще там, в «жигуле» злосчастного, погребенного под ванной, представителя фирмы «Этаж» был… сотовый телефон. Вот это славно, это кстати, это пригодится. Однако редкостное самомнение у «Петра-первого» – заявиться на квартиру клиента, бросив все необходимое в машине. Хотя… самым необходимым «Петр-первый» счел пистолет. Может, не намеревался рассусоливать в квартире, полагал спровадить клиента под дулом «вальтера» до «жигуля» и доставить «Мерджаняна» по адресу, известному лишь особо доверенным лицам фирмы, – в хорошо оборудованный подвал, в звуконепроницаемый гараж. Там и договорить и договориться на условиях несколько иных, чем ранее. А квартирка не годится для таких уговоров-договоров, она предназначена для солидного офиса солидной фирмы – и так-то нижние-верхние соседи могли насторожиться: крики-ругань-стоны. Не годится…
Самомнение «Петра-первого» объяснимо еще и предварительной обработкой клиента троицей бойцов. Лежит небось пластом, розовые сопли пускает. Кто ж знал, что клиент еще в силах шкафы обрушивать, ванны ворочать! «Петр-первый» не знал…
Ломакин от Василеостровской доехал к Приморской. Там и припарковался. Ждать. Ждать и надеяться. И не заснуть, не проспать группку характерных гомиков. Они очень характерны. Особенно когда группкой.
Солнце стало припекать. В куртке становилось жарковато. Куртку Ломакин подобрал из гургеновского гардероба – надо бы попросторней, чтобы скрыть под ней пистолет, а эта была тесновата в плечах, но… выбор невелик. А в футболке с «вальтером» за поясом особо не сунешься в метро. Это некоторым образом смешает планы.
Какие, собственно, планы? Простые…
Ломакин вливается с группкой гомиков в метро, в вагон, катается до тошноты, пока не вычислит Рябу. После чего изображает внезапно вспыхнувшее чувство и, нежно ластясь, тянет время, пока опять не окажется на Приморской. А там: «У меня здесь «тачка». Поедем ко мне, огонь моих чресел!» А там… под дулом «вальтера» Ряба ему, Ломакину, все-о-о расскажет! Кто заказал шило, сколько приплатил… Не только расскажет, но и напишет – разборчивым почерком, разборчивым, петушок, не дрожи так, не трясись! Потом можно будет и в «Стеллу» звонить – детке– Лере, передай трубочку папе!
Вот насчет внезапно вспыхнувшего чувства – уверенности Ломакин не ощущал. Как бы тошноту на взлете поймать и внутрь затолкать? Крепись, Ломакин! Даже мускулинистый Эдди Мерфи с успехом корчил из себя «голубого», когда дело того требовало. Чем ты хуже Эдди Мерфи?! Негр Мерфи. И Антонина – тоже. Антонина… Где она сейчас? Еще дома? Уже в «Ауре плюс»? Четверть двенадцатого. Наверняка – в «Ауре плюс». Или еще дома?
Сотовый телефон – игрушка даже более заманчивая, нежели «вальтер». Руки сами тянулись опробовать, звякнуть. Почему бы нет? Якобы из Баку. Если питерский номер набирать через восьмерку и код (8-812), то звонок верещит по-междугородному, громко, непрерывно, – будто сам ты вовсе не из Питера звонишь. АОН же высветит абракадабру. Почему бы нет?
Потому. Сотовый телефон в данный момент – заманчивая игрушка, Ломакин, отдай себе в этом отчет. Еще не приспичило, просто хочется. Перехочется! Тем более, что сам он, телефон, вдруг затренькал, затребовал абонента. Ага, «петрыэлтеры» спохватились: куда запропал, дружок Петрушка?!
Нет здесь никакого Петрушки. Трубку никто не снимает. Ищите Петрушу… где-нибудь, но не здесь.
Не снял трубку Ломакин. Но пока глазел на, так сказать, чудо техники, гипнотизируя: «Перестань! Отстань! Заглохни!», чуть было не прозевал своих.
Во-во! СВОИ! Группка – в шортах, в джинсиках, в майках-»из под пятницы суббота», опрятненькие такие, ухоженные.
… Сначала он чуть было не похерил первоначальный план – слишком желтороты, слишком выделялся бы примкнувший к ним Ломакин – сорокалетний дяденька, одетый по принципу «не выделяйся!» в шмотки второй свежести. И не примкнешь – отторгнут: вам чего, дяденька? не поняли, к кому попали? Но чем дальше, тем их становилось больше – и не только отроки, зрелые мужи (мужи, хм!), и не только стерильно чистенькие, грязненькие тоже, грязные тоже, грязнущие тоже.
Приморская – Василеостровская – Гостиный двор – Маяковская – Площадь Александра Невского – Елизаровская…
Вагон полнился. Верно: Первая «приморская» компания – первая, остальные – по мере пробуждения, по мере добредания до ближайшей от них станции, по мере желания-хотения. Никто никого не неволит. А ты откуда? Я прямо из столицы. А я из Нарвы. И как у вас в Нарве. Ой, плохо у нас в Нарве, русских отовсюду гонят. Ну-ну, здесь тебя не погонят, садись… да садись ты прямо на коленки. Тебя как звать? Рафа? Это как – Рафа? А, Рафаил? Слушай-слушай! Ты знаешь, почему у евреев СПИДа не бывает? Потому что их никто не лю-у-убит! Кончай, дурак! О-о-о, в каком смысле? Проти-и-ивный!
И преувеличенные визги, хохот, размашистые падения на соседей при малейшем толчке на стыке рельс. Ай, не толкайтесь вы, здесь же му-ущина сидит. Му-ущина, извините его, он с детства такой. (Во-во! Граждане мужчины, не толкайтесь! Среди вас есть женщины!).
Женщины тоже были. Особенно на Маяковской их подвалило, с баулами-узлами. Московский вокзал. Ну да это были именно женщины, потому от греха подальше они выдавились уже на следующей – господи, спаси, срамота, фу!
Ломакин тоже бы с удовольствием выдавился. Но терпел, хранил снисходительное молчание – резвитесь, молодежь, мне бы ваши годы. Бр-р!
Ломоносовская – Пролетарская – Обухово…
– Дяденька, а вы далеко едете? – существо юное, нахальное. Не люблю я тебя, существо. Не приглянулось ты мне. Не тебя я люблю, существо.
Рыбацкое. Конечная. Высыпали. Перескочили во встречный. Еще с электрички кто-то поспел. Поехали. Катится, катится «голубой вагон».
Рыбацкое – Обухово – Пролетарская…
Гомики раззадоривались. Находили общий язык (а, пакость! двусмысленность! дык ведь находили! язык… общий…).
Да, именно так: Содом и Гоморра на колесах. Скорость, грохот-перестук, страстные мычания и преувеличенные вскрикивания, кромешная темнота – только редкие блики мимолетных огоньков. А на остановках – предвкушающая, давящаяся смешком тишина: кого-то занесет в вагон из числа ОБЫЧНЫХ пассажиров?! До поры Ломакин держался, до поры ему удавалось играть СВОЕГО, который отнюдь непрочь, но дожидается СВОЕГО.
– Ряба! Ряба пришел! – рявкнул кто-то из сплетенья рук, сплетенья ног. Значит, судьба…
Ломакин уже решил было бросить затею, когда по четвертому разу прокатился до Рыбацкого и обратно до Приморской.
Ряба подсел на Елизаровской – дылда в прыщах, а годков ему будет далеко за двадцать, очень далеко. Даже, может, и чуток за тридцать. Не мальчик, но муж… своеобразный, но муж. Пресытился я, друзья мои! Что ж ты, гадюка, запрыщавел, если пресытился?!
Ломакин встал. Поймал глазами Рябу, что вообще– то было нетрудно. Они оба на полголовы превышали общий уровень гействующего сообщества.
Наверное, Ломакину удалась томность во взгляде. Да не томность это, а следствие тяжелого недосыпа. Но удалась. Он абсолютно инстинктивно провел языком по пересохшим губам: наконец-то!
Ряба воспринял инстинктивное движение языком как-то сугубо по-своему. И ответил тоже движением языка, имитируя то ли куннилингус, то ли фелляцию.
Ломакин пересилил себя и кивнул.
Ряба, не отводя взгляда, принялся протискиваться к очень интере-есному му-ущине с пучком на затылке.
Ломакин тоже изобразил попытку сблизиться, но распихивать локтями, извиваться между телами, лишний раз соприкасаться – нет, не пересилил себя. Виновато улыбнулся краем губ, пожал плечами – вишь, сколько их тут! гей-славяне! – дождемся конечной, там и сольемся в экстазе.
Конечная – опять Рыбацкое. Для Ломакина предпочтительней была бы конечная-Приморская. Не пришлось бы тогда слишком долго принимать-отдавать ухаживания («М-милый! Я тебе выдавлю этот ма-аленький прыщичек! Не больно, совсем не больно. Тебе больно? Видишь, приятно. Ой, и рядышком тоже. Дай, ну дай, ну позволь!») – у Приморской «жигуль»…
Придется тянуть и тянуть, терпеть и терпеть от конечной до конечной.
Не пришлось.
На Рыбацком толпа очередной раз высыпала на платформу (Просьба освободить вагоны!), загалдела в ожидании встречного, переминаясь от нетерпения (Терпеть и терпеть!).
Ряба балетно, мюзик-холльно, поводя плечиком, выставленным вперед, пролавировал. Был уже в трех метрах от Ломакина, уже в двух.
Ломакин сделал шаг навстречу.
Ряба вдруг остановился-оглянулся. И снова впился взглядом в «му-ущину». Не тот это был взгляд, не прежний.
Сказано: у геев обостренная чувственность, флюиды улавливают с трех метров! Наверное, не те какие-то флюиды источал Ломакин. Наверное, не так как-то шагнул навстречу.
Секунды замедлились до минутной скорости – будто при «рапидной» съемке.
Ну?! Ид-ди ко мне, проти-ивный!
Ломакин сделал еще шаг. Флюиды охотника он скорее всего разбрызгивал окрест с мощностью ха-а-рошего петергофского фонтана. Сольемся, сольемся! Ну?!
Между ними маячил низкорослый хрупкий организм, завитой такой. Профилем. Опасливо накренясь, поглядывал в тоннель: поезд! ты где! пора!
Ломакин мог достать Рябу лишь пихнув (не стой на пути, сопля!) завитого-такого – и прямиком на рельсы. Обогнуть же мешал с одной стороны слишком близкий край платформы (Говорят вам, кретины, говорят: не заступайте за белую линию у края платформы!), с другой стороны – гомонящие бисексуалы.
Ряба толчком руки швырнул завитого-такого в невольные объятия Ломакина и кинулся в противоположную сторону, в «голову» состава, туда, где выпуклое зеркало и… между прочим, дежурный мент.
– Он! Это он! – заполошно вопил Ряба, с прежней пронырливостью лавируя в толпе себе подобных.
Ломакин поймал завитого-такого, пробалансировал под невозможным углом, все-таки ухитрился качнуться от точки равновесия не вниз, на рельсы, а на платформу. М-да, обнявшись крепче двух друзей… они впилились в толпу геев, повалив пару-тройку из них. Куча мала.
Ряба уходил дальше и дальше. Не нагнать.
Нагнать Рябу мог только долгожданный поезд, вызверившийся из тоннеля. Нагнал и перегнал, снижая скорость, замирая, как и положено, у зеркала. Посадка, граждане пассажиры.
Ряба вопил неугомонно:
– Он! Держите его! Не пускайте его!
Кого держать? Кого не пускать? Помимо геев, на станции поднабралось приличное количество просто пассажиров. Вертели головами, на всякий случай отворачивались – не наше дело.
А Ломакин выпутывался из кучи малы, попутно отдирая от себя мертвую хватку завитого организма – инстинкт самосохранения включился у завитого раньше сознания: держись, а то – на рельсы, а они под напряжением, а еще и поезд!
Но тот же инстинкт сработал – пальцы разжались, как отрубило… нащупали и – разжались…
– У него пистолет! – завопил теперь уже и завитой. – Уберите его от меня! Не надо! Уберите! Это он!
Кто – он?
Тот самый! Совсем не в курсе? Вот вам говорили, а вы…
А что – мы? Мы сами говорили!
Геи, в большинстве своем, охотно верят мифам, сами их создают, приукрашивают или приуродывают деталями, передают (пардон, как хрен) из уст в уста, чувственно удовлетворяются от лишней возможности приужахнуться:
Гошу помните? Кудимова? Закололи. Шилом.
Как?! Когда?! Где?!
В нашем вагоне. Да-да, в нашем.
Нет, только не это. Наши не могли. Наши никогда не поднимут руку на нашего!
Естественно! Это – маньяк. Он рыскает повсюду. Для него не существует ни сложных замков, ни цепных собак, ни вооруженной охраны. Он все равно улучает и убивает наших. И скрывается бесследно. Никто его не видел, даже приблизительно описать – и то…
За что?! Нас-то за что?!
Знать бы. Говорим же: маньяк. Вероятней всего, притворяется геем, заманивает и – убивает. Одно слово, ненормальный. Так что внимательней вокруг, внимательней.
Да мы и так… Вот не было печали!
… Внимание к своей персоне завсегда лестно. Даже внимание маньяка-убийцы. Особенно когда маньяк– убийца рожден воображением. Вроде буки, нагоняющего страх, от которого, правда, закроешься одеялом – и нет его!
То-то иллюзия ужаса сменилась бы безумным кошмаром, кошмарным безумием – материализуйся бука во плоти!
Материализовался! Вот он! Вот он! Видели, как он вдруг на малышонка набросился, столкнуть хотел на рельсы. А теперь! А-а-а!!! Теперь!!! У него пистолет!!! Видели, видели?! Он нас всех сейчас, всех!!!
Ломакин обнаружил, что действительно – пистолет «Вальтер» оказался у него на ладони.
Спасенный от неминуемого падения под колеса состава завитой-такой поспособствовал беспорядочными изворачивающимися усилиями – «вальтер» не усидел за поясом, выпал.
Ломакин поймал пистолет за сантиметр от земли, рефлекторно перехватил как надо, за рукоятку.
И получилось:
Ломящаяся в вагоны толпа пассажиров – скорей, скорей!
Стремительно пустеющая платформа.
Беззвучные точечно-световые секунды на табло: 0-15, 0-16, 0-17… На Рыбацком поезд обычно простаивает еще минут десять после погрузки пассажиров. Как-то сейчас?!
Суетящийся-растерявшийся пацан в милицейской форме у «головного» вагона за мини-турникетом. Командовать машинисту: то ли «стоп!», то ли «полный вперед от греха подальше!»? Где кобура?! Вот кобура! А где рация?! Вот рация! А что – в первую очередь?
И – Ломакин с пистолетом. Кому объяснять, что «вальтер» разряжен? И что это объяснит?!
Ряба улизнул. Свалил с больной головы на здоровую и забился в толпу. Выковыривай его! Ка-ак же!
Вообще нельзя Ломакину в поезд. Объяснять, почему?!
Слева – бетонный забор, через рельсы (попробуй их еще перепрыгни без разбега, будь ты трижды трюкачом!). За ним, за забором, – промзона, а значит работяги, вохровцы, кладовщики. Черт не черт, но Ломакин точно ногу сломит.
Справа – спуск в пешеходный тоннель, узкий– слякотный-извилистый, с выходами-горловинами к электричкам ближнего-пригородного следования.
Он метнулся на спуск в тоннель, побежал.
Уловил над собой дробное, вагонное сотрясение бетонных плит. Электричка! На подходе!
Выскочил наружу. То ли уходят от погони, то ли опаздывает на электричку.
Она подоспела.
Он запрыгнул в тамбур…
Двери за ним сдвинулись.
Он вцепился скрюченными пальцами в губастые, плотно сжатые края противоположной двери тамбура. Напрягся.
Электричка хулигански свистнула, стронулась.
Ч-черт! Эти электрички так быстро набирают ход!
Ну же, Ломакин! Ну же, трюкач! У тебя сильные пальцы, специально тренировал первые-вторые фаланги – полчаса над пропастью способен провисеть без страховки на одних только пальцах, пока не отснимут!
Края разжались. Он раздвинул их на полные руки (однако помощней плечевого эспандера дверки-то будут!). Теперь подгадать необходимую долю секунды, чтобы его не прищемило губастыми краями при спрыгивании. Обидно будет, если ступня останется в «зубах». Обидно – не то слово, не то!








