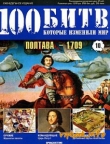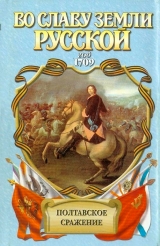
Текст книги "И грянул бой"
Автор книги: Андрей Серба
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц)
– Верно молвишь, полковник, большую угрозу таит для нас Левенгаупт, а потому и меры супротив него следует принимать немедля. – Александр Данилович нагнулся над столом, ткнул в разложенную карту чубуком трубки. – Сейчас на берегах реки Ипуть король Карл собирает воедино свою доселе разбросанную армию и решает, куда двигаться дальше: к Смоленску и затем на Москву, или на юг, в Украину.
Меншиков замолчал, сделал глубокую затяжку. Выпустил из ноздрей дым и продолжил:
– Дорога на Смоленск шведам надежно перекрыта, вслед Карлу, куда бы он не двинулся, будет пущен Шереметев с армией. Ну а Левенгауптом государь велел заняться мне. Но первым для разведки навстречу генералу поскачешь со своими казаками ты, полковник.
– Каковы силы выставляет государь супротив Левенгаупта?
– Под моим началом корволант – летучий отряд: семь тысяч кавалерии и пять тысяч пехоты, которую я також посажу на коней. Для усиления отряда мне приданы тридцать орудий полковой артиллерии на конной тяге.
– Мои разъезды отправятся в путь сегодня же. Но прежде нежели покинуть тебя, князь, дозволь спросить: что гетман отписал государю о появлении своих сердюков у Левенгаупта?
– Измена, – равнодушно ответил Меншиков. – Полковник Тетеря и есаул Недоля, взбунтовавшие их, были тайными сотоварищами казненного Кочубея. И дабы держать казаков в повиновении и не допустить новых крамол, гетман и находится сейчас Не при царевом войске, а на Украине. Государь собственноручно отписал ему, что от него куда больше пользы в удержании своих, нежели в войне со шведами. Гетман стар и немощен, ему ли водить казаков в бой?
Меншиков оперся обеими руками о стол, глянул на Голоту:
– А теперь ступай. И знай, что хотя корволантом поручено командовать мне, всей кампанией по разгрому хваленого Левенгаупта будет руководить сам государь.
И давая понять, что разговор окончен, он склонился над картой, подвинув к себе линейку с карандашом...
Выйдя от Меншикова, Голота не спеша направился к видневшимся на опушке недалекого леса кострам. Глядя со стороны на этого высокого, совершенно седого, слегка сутулящегося и заметно припадающего на левую ногу старика, мало кто мог сразу узнать в нем когда-то лихого, бесстрашного, известного всей Украине батьку-полковника.
Все было у Голоты: громкая слава и богатство, верные друзья и богатырская сила, но имел он и врага-завистника – гетмана Мазепу. Его постоянные жалобы и доносы царю на своевольного полковника, друга-побратима другого злейшего недруга Мазепы, хвастовского полковника Палия, в конце концов сделали свое дело: Голота был схвачен, закован в железо и сослан в Сибирь. Там он находился до тех пор, покуда двадцать тысяч украинских казаков не были направлены на войну со шведами в Лифляндию и царю для командования ими не потребовалась старшина, пользующаяся в казачьей среде непререкаемым авторитетом.
Одним из таких людей был Голота, с чьей боевой славой и популярностью вряд ли кто мог на Украине соперничать. Поскольку вина опального полковника не была доказана, сыск по делу схваченных вместе с ним его товарищей тоже ничего не дал, Голота был возвращен из ссылки, обласкан царским любимцем князем Меншиковым, ему вернули все ранее отнятые чины и звания.
Вначале Голота командовал казачьим полком в Лифляндии, а совсем недавно был отозван в непосредственное подчинение Меншикова и стал его правой рукой по делам Украины, в пределы которой со дня на день мог вторгнуться шведский король. Но не прошли бесследно для Голоты долгие годы в Сибири: трескучие морозы и злые вьюги выбелили волосы, подневольный тяжкий труд в острогах согнул спину и отобрал силу, пудовые оковы-кандалы стерли до костей ноги и руки, а постепенно бередящие сердце горечь обиды и жажда мести иссушили душу. Кто знает, смог ли до конца забыть о своих незаслуженных страданиях гордый полковник, неведомо, простил ли он обидчикам свои унижения, но России – а может, Украине, с которой та связала свою судьбу? – он служил честно, отличившись во многих сражениях в Лифляндии, а сейчас взвалив на свои плечи всю тяжесть далеко не простых казачьих дел на всей Украине.
У одного из костров Голота остановился, устало опустился на предложенное казаком-джурой седло. Некоторое время, раскуривая люльку, задумчиво смотрел на пламя, затем, ни к кому не обращаясь, сказал:
– Полковник и сотник, я к вам от князя Александра Даниловича. Пересаживайтесь ко мне ближе.
Тотчас несколько человек, сидевших вокруг огня, поднялись и молча растаяли в темноте, оставив у костра лишь тех двоих, которых назвал Голота.
Полковник Диброва был высок и статен, на молодом, красивом, по-девичьи румяном лице выделялись большие внимательные глаза и черные усы. Совсем недавно в Лифляндии Диброва был простым сотником и возвратился на Украину раненым. Прослышав о приближении шведской армии к границам Гетманщины, он, не долечившись, покинул родовой хутор и примкнул к русскому войску. Его воинское умение и личная отвага, проявленные в боях, обратили на себя внимание Меншикова, и по ходатайству князя перед царем Диброва получил чин украинского полковника и звание потомственного русского дворянина.
– Полковник, первое слово к тебе.
Красивое лицо Дибровы напряглось.
– Слухаю тебя, батько.
Молодой полковник был не только красив, но и умен: он прекрасно понимал, что мало получить полковничий пернач из царских рук, главное – суметь удержать его в своих. Для этого требовалось многое, но прежде всего уважение в казачьей среде. И широко известный всей Украине полковник Голота являлся как раз тем человеком, близость к которому могла принести славу и его имени, а богатейший боевой опыт старого казака мог многому научить.
– Сколько у нас сейчас сабель, полковник?
– Около тысячи, батько.
– Небогато. Но ничего, я отправил гонцов к своим старым побратимам. Верю, что они отзовутся на мой клич и снова слетятся ко мне. А покуда, полковник, бери всех, кто уже есть, под свое начало и готовь к походу: не сегодня-завтра с царским войском Двинемся на генерала Левенгаупта.
– Благодарю, батько, – дрогнувшим голосом произнес Диброва, опуская радостно заблестевшие глаза.
А Голота уже смотрел на второго казака. Невысокий, плотный, со скуластым, потемневшим от ветра и зноя лицом, с добела выгоревшими на солнце усами и бровями, в простой серой свитке и грубых, смазанных по-казачьему обычаю смальцем чоботах, он ничем не отличался от рядового казака. Лишь большой алый бант на эфесе длинной турецкой сабли выдавал его принадлежность к казачьей старшине. Это был сотник Зловы-Витер, старый соратник Голоты, ускользнувший в свое время из рук сердюков Мазепы и сразу же, лишь услышал о возвращении полковника на Украину, явившийся к нему.
– Твоих хлопцев, сотник, знаю сам не первый год: каждый из них десятка других стоит. Поэтому, друже, ты не станешь ждать выступления царских войск, а сегодня же вечером поскачешь навстречу Левенгаупту и будешь виться вокруг него, не спуская глаз. И еще одно дело будет к тебе. Помнишь ли сотника Ивана Недолю, своего стародавнего друга-побратима?
На лбу Зловы-Витра появились две глубокие морщины, он отвел взгляд в сторону.
– Помню, батько, да только разошлись наши с ним пути-дорожки. Пригрелся твой бывший сотник и мой побратим у гетмана, стал есаулом его сердюков. А я до сей поры не простил Мазепе своих прежних обид.
– Знаю, друже. Молвлю даже то, чего ты еще не ведаешь. Три дня назад прибыл полковой есаул Иван Недоля со своим полковником Тетерей к генералу Левенгаупту и стал служить шведам. Мазепа отписал царю, что Недоля изменил-де России потому, что втайне был сподвижником покойных Кочубея и Искры. Но не верю я этому. Хитрит лукавый гетман... мыслю, что его волю исполняет мой бывший сотник. И не столько он, сколько полковник Тетеря, ближайший поверенный Мазепы по злому умыслу супротив Украины и России. Потому написал я Недоле грамоту, в которой зову его снова честно, как прежде, служить Отчизне. А ты, друже, найдешь человека, который смог бы доставить это послание Недоле.
– Сыскать человека не мудрено, – угрюмо произнес сотник, – да будет ли от грамоты прок?
– Время покажет...
Легко разрезая голубоватую воду острыми носами, по речной глади скользили три стремительные запорожские чайки [18]18
Чайка – большая морская лодка, могла поднимать 40—50 (при необходимости до 80) человек с припасами. Часто была вооружена двумя-тремя легкими пушками
[Закрыть]. Дюжие гребцы, сбросив жупаны и кунтуши и оставшись в одних рубахах, гребли быстро и умело, и суденышки неслись вверх по Днепру словно на крыльях. На корме передней чайки на персидском ковре полулежали двое: запорожский сотник Дмитро Недоля и донской атаман Сидоров.
Сотнику было не больше двадцати пяти лет. На его круглом лице озорным блеском сверкали глаза, с губ не сходила веселая улыбка, он то и дело подкручивал кверху кончики длинных рыжеватых усов. Донскому атаману уже исполнилось сорок. Всю нижнюю часть его лица скрывала густая светлая борода, а на лбу залегло несколько глубоких, никогда не разглаживающихся морщин, придававших лицу выражение замкнутости и отчужденности.
Сотник всего полмесяца назад вернулся на Сечь из морского набега на побережье турецкого Синопа. Целую неделю гулял со своими другами-побратимами по шинкам и корчмам, но затем в казачью душу будто вселился бес, погнавший его в это рискованное путешествие по Днепру. Заодно с ним с полусотней своих донцов и атаман Сидоров, нашедший приют на Запорожье после гибели вожака восставшей донской голытьбы Кондратия Булавина.
Разные цели свели в чайке сотника и атамана, разные лежали перед ними стежки-дорожки, но покуда им было по пути. Устроившись на ковре, запорожец и донец проводили целые дни в неторопливой беседе.
– Эх, атаман, кабы видел ты ее! Краса, а не дивчина! А статью, как ляшская королевна, – зажмуриваясь от удовольствия, говорил сотник. – Так что я задумал твердо: свадьба и кончено.
– А мне сдается, казаче, что одного твоего желания маловато? – усмехнулся в бороду Сидоров. – Сам поведал, что зазноба – полковничья дочка. А такие обычно с норовом и гонором. Им ничего не стоит нашему брату и гарбуза выставить [19]19
Вынесенный жениху гарбуз (тыква) свидетельствовал об отказе
[Закрыть].
– Мне не выставит, – убежденно ответил сотник. – Когда из-за козней Мазепы поначалу взяли Кочубея и Искру, то вскоре стали хватать и иную казачью старшину, что держала их руку. Явились гетманские сердюки и за ее отцом, побратимом Искры. Тот встретил их со своими дворовыми казаками саблей да пулей, а его жинка и дочка спаслись в лесу. Они хотели пробраться к родичам на дальний степной хутор, да напоролись в пути на загон крымчаков. Быть бы полковничьей доньке украшением ханского гарема, кабы тут, на ее счастье, не подвернулся я со своей сотней. И хоть с той поры минуло немало времени, думаю, что не позабыла она нашей встречи, – закончил Дмитро.
– А как сама дивчина смотрит на свадьбу? – поинтересовался атаман.
– Кто знает? – беспечно ответил запорожец. – Когда ее отбил, Сечь готовилась к набегу на турок – не до женитьбы было. А в походе захватил в полон красулю-турчанку и совсем позабыл о полковничьей доньке. Но сейчас получил весточку от старшего брата, есаула гетманских сердюков. Извещает, что сия дивчина рядом с ним и даже спрашивала обо мне. И веришь, атаман, как вспомнил ее, так полыхнуло по всему телу словно огнем, и решил я, покуда время и охота имеются, сыграть свадьбу.
– Хороша Маша, да не наша, – хохотнул атаман. – Думаешь, у нее за это время иных женихов не объявилось? Писаная красавица да еще полковничья дочь – это не какой-то залежалый товар. Такие всегда себе ровню ищут.
– А я чем хуже других? – гораздо выпятил загорелую грудь сотник. – Казачина что надо, а после похода на турок не беднее любого полковника. Эх, и погуляю, атаман! По всей Украине и
– Запорожью молва о той свадьбе разлетится, – мечтательно произнес Дмитро.
– Дай Бог, сотник.
– У меня впереди все ясно, как Божий день, – продолжал запорожец. – Сыграю свадьбу, отправлю молодую жену к своей матери на хутор, а сам снова подамся на Сечь. Слыхивал я от кошевого, что казаченьки опять собираются на море: Крым или Туретчину щупать. А вот чего ты, атаман, у Мазепы позабыл, никак в толк не возьму.
Донец медленно и задумчиво провел ладонью по широкой бороде, перевел взгляд на зеленеющий вдоль берега лес.
– Дабы понять волка, следует побывать в его шкуре. Посему, сотник, вряд ли уразумеешь ты меня. Пожил я на Сечи и вижу, что уж больно весело и вольготно вы себя чувствуете. Царь Русский и король польский далеченько, турки да татары сами вас страшатся, а украинскому гетману и без вас дел хватает. Казакуете, где пожелаете, и мало чего окрест себя замечаете.
– Что надобно, то замечаем, – возразил ему сотник. – Нет нам дела ни до московита с ляхом, не признаем над собой и гетмана с его вельможной старшиной. Ну, а нехристей бьем всюду, где только повстречаем. Для того и собрались на Сечь, дабы хранить казачью славу и боронить веру православную от латинян да басурман. И волю свою никому не отдадим и ни на что не променяем.
– Уж больно далече вы за свою волю бьетесь, – усмехнулся атаман. – Все за синими морями и высокими горами, в Крыму да Туретчине... А стоять за нее надобно здесь, на Украине. И не только супротив татар и ляхов, но главного своего ворога – гетмана и его превратившейся в панов старшины. А не то приключится, как у нас на Дону-батюшке. Сами вскормили змею за пазухой и дождались, что домовитые казаки вкупе с царскими боярами да воеводами согнули в бараний рог казачью бедноту. От их подлых рук наш атаман Кондратий и смерть принял.
Дмитро с удивлением посмотрел на донца.
– А я слыхал, что ваш атаман сам на себя руки наложил, дабы в царские руки живым не угодить.
Сидоров с пренебрежением махнул рукой.
– Враки это, сотник. А разносят их царские слуги, дабы атамана и его дело опорочить. Ведают, что на Руси-матушке самогубцам никогда славы и почета не было, вот и хотят добрую память об атамане отнять. Не таков человек был Кондратий, чтобы самому в себя пулю пустить. С саблей в руке встретил он смерть.
– Не понимаю тебя, атаман, – проговорил Дмитро. – То с Булавиным супротив своей старшины воюешь, а сейчас к такой же чужой старшине в гости поспешаешь. Чудно мне это...
– Без старшины жить нельзя, – убежденно произнес донец. – Да только разная она бывает. Одна милостивая и людям служит, а другая, как дикий зверь, все под себя подмять стремится. И малороссийский гетман прислал к нам, донским беглецам, своего верного человека с вестью, что хочет втайне от московского царя говорить с нами. Желает обсудить, как вернуть нам все старинные казачьи права и вольности. Вот наши атаманы и послали меня погутарить с ним обо всем этом.
Сотник расхохотался.
– Это Мазепа – защитник казачьих вольностей? Перекрестись, атаман. Да будь его воля, он давно бы всех казаков в посполитых обратил. Да только не по зубам ему это! И не о защите Дона от царских бояр и воевод мыслит он, а хочет использовать вашего брата-донца в своих вечных кознях. Сразу видать, атаман, что совсем не знаешь ты нашего хитреца-гетмана.
Сидоров глубоко вздохнул, почесал затылок.
– Много разного слыхали мы о гетмане, хорошего и плохого, а потому и решили сами говорить с ним. Может, на самом деле вложил в него Господь душу незлобивую и заботу о близких своих?
Сотник зло сверкнул глазами.
– Это у гетмана Ивашки душа незлобивая? Да у него и души-то нет, а лишь глаза завидущие да руки загребущие. А самая сладкая и сокровенная мечта его – стать не ясновельможным гетманом, а украинским королем вроде ляшского. Уж мы, запорожцы, знаем его хорошо! Смотри, атаман, как бы не угодить тебе в Мазепину паутину. А плести ее он весьма горазд.
Донец упрямо мотнул чубатой головой.
– Меня послала к гетману громада, и я буду говорить с ним, – твердо произнес он.
– Дело твое, атаман, – пожал плечами сотник. – Только не раз ты еще мои слова о гетмане Мазепе вспомнишь...
Так и плыли они, покуда не пришла пора расставаться. Дмитро трижды расцеловался с атаманом, окинул взглядом полусотню его казаков-донцов, остающихся на берегу. Махнул им на прощание рукой, широко перекрестил.
– Доброго пути, други! И дай Бог всем нам еще свидеться!
Отсветы пламени горевшей невдалеке деревни плясали на стенах палатки. Багровые пятна на тонком полотне соперничали порой с яркостью свечей стоявшего рядом с королем шандала. Откинувшись на спинку складного походного стула, устало вытянув ноги, Карл старался не слышать голоса своего первого министра графа Пипера.
В палатке их было двое: сам король и Пипер. На сегодняшний совет Карл не пригласил даже своих самых ближайших советников: фельдмаршала Ренгшильда и генерал-квартирмейстера Гилленкрока. Юный король, будучи от рождения замкнутым и неразговорчивым, предпочитал принимать решения самостоятельно и не делиться ни с кем своими мыслями. Больше всего в жизни он боялся двух вещей: болтливости «своих» и всепроникающего шпионажа «чужих». Считая себя королем-солдатом, слепо веря в гениальность, непогрешимость и написанное ему на роду воинское счастье, Карл по-детски завидовал личной отваге и воинской славе своих далеких предков-викингов, и сам старался подражать им, что уже не раз ставило его жизнь в опаснейшие положения и совсем недавно едва не привело в русский плен. Отличаясь редкой самоуверенностью, Карл не терпел никаких советов, усматривая в них стремление подчеркнуть его молодость, умалить полководческое дарование и даже ограничить власть.
И сейчас, вполуха слушая первого министра, Карл вновь думал о правоте своих суждений. Разве не знал он сам всего того, что уже битый час доказывал ему Пипер? У его солдат кончилась провизия и на исходе порох, и если в Прибалтике и Литве продукты еще можно было купить, то в Белоруссии крестьяне все прятали по ямам и лесным оврагам. Когда же шведские провиантские команды пытались взять продовольствие и фураж силой, жители встречали их вилами и топорами, предавая огню все, что не успевали спрятать или унести с собой.
Польский король Станислав Лещинский, занявший престол с помощью шведских штыков, обещал в свое время Карлу создать большую шляхетскую армию, захватить Киев и затем, вторгнувшись на Левобережную Украину, соединиться там со своим другом и союзником гетманом Мазепой. Однако теперь Лещинский, боясь своих соперников, придерживающихся ориентации на Россию, безвыездно сидел в Польше и удерживался на троне лишь с помощью шести шведских полков, оставленных ему Карлом. Недаром о новом польском короле в Европе говорили, что одна половина Польши его не признает, а вторая ему не повинуется. И хотя Карлу позарез нужны были те почти девять тысяч солдат генерала Крассова, что без всякой пользы стояли сейчас на Висле, он понимал – спокойствие в тылу тоже немаловажно.
Нет пока помощи Карлу и от украинского гетмана, сулившего поднять против России всю Украину и бросить против царя Петра 25—30 тысяч своих казаков. Предпринять какие-либо действия, которые могли бы облегчить положение шведов, Мазепа обещает лишь в том случае, если Карл придет на Украину со всеми войсками.
Вот они, союзники и обещанная ими помощь! И все-таки Карл продолжал непоколебимо верить в свою счастливую звезду!
Король выпрямился на стуле, глянул на первого министра.
– Где Левенгаупт? – отрывисто спросил он, перебивая Пипера на полуслове.
– Последние сообщения от генерала поступили три дня назад. Он извещал, что приближается к Днепру и собирается форсировать его у Шклова.
Карл удивленно вскинул брови.
– Я хочу знать, где он сейчас, а не трое суток назад.
– Ваше величество, к царю Петру примкнул отряд украинских казаков-добровольцев под командованием полковника Голоты. Их разъезды прервали всякое сообщение с корпусом Левенгаупта.
Карл презрительно скривил губы.
– Меня это не интересует. Если казаки мешают – уничтожьте их, но я должен постоянно иметь связь с войсками. Тем более с Левенгауптом, от прибытия которого зависит ход всей зимней кампании в России.
Пипер почтительно склонился перед королем, льстиво заглянул ему в глаза.
– Ваше величество, по моей просьбе гетман направил к генералу отряд своей личной гвардии, якобы изменившей ему и царю Петру. Казаки Мазепы помогут Левенгаупту выбраться из болот и примкнуть к нам.
– Хорошо, Пипер. А теперь я хочу знать, что происходит у московитов.
– Царь Петр, видимо, смог вовремя оценить опасность, которую представляет для него соединение Левенгаупта с вашей армией. А потому сегодня утром с частью своих сил он выступил на встречу генералу. В этом русском отряде двенадцать тысяч конницы и пехоты, командует им князь Меншиков.
В глазах Карла мелькнуло неподдельное изумление.
– Двенадцать тысяч? Но ведь у Левенгаупта шестнадцать тысяч первоклассных солдат! Неужели русский царь надеется со сбродом своих мужиков в мундирах удержать эту силу?
Пипер неопределенно пожал плечами.
– Ваше величество, московский царь – варвар. Ему неведомы воинское искусство и законы стратегии.
– Что ж, я учил его воевать под Нарвой, придется продолжить науку здесь, – высокомерно произнес Карл. – Уверен, что вначале Левенгаупт всыплет ему как следует. А затем уже мы навсегда отучим московитов браться за оружие. Кстати, каково ваше впечатление от Мюленфельса? Насколько я наслышан, вы прямо-таки влюблены в него.
– Ваше величество, это умный человек. Недаром он одним из первых понял бесплодность борьбы России со Швецией и перешел от царя Петра к нам. Он хорошо знает русских, их армию и предложил весьма интересный план, как...
Взмахом руки король остановил первого министра.
– Я солдат, Пипер, и побеждаю врага силой оружия. Поэтому интригами занимайтесь сами. Вы свободны...
Очутившись в своей палатке, Пипер швырнул на стул плащ и треуголку, дернул шнур колокольчика.
– Человек, о котором я предупреждал, здесь? – спросил он у появившегося слуги.
– Да, ваше сиятельство.
– Зовите.
Бывший бригадир [20]20
Бригадир – воинское звание, промежуточное между полковником и генералом
[Закрыть]русской службы Мюленфельс, изменивший царю Петру и перебежавший к шведам, остановился у входа. Отвесил Пиперу низкий поклон.
– Мой друг, я ознакомился с вашим предложением, – без всякого предисловия начал первый министр. – Нахожу его весьма заманчивым, но, к сожалению, царь Петр покинул свою штаб-квартиру и спешит сейчас наперерез Левенгаупту.
Грузный, с выпирающим животом Мюленфельс сделал шаг к графу, большим клетчатым платком смахнул капельки пота с широкого, обрюзгшего лица.
– Ваше сиятельство, но это нисколько не мешает осуществлению моего плана. Просто необходимо внести в первоначальный замысел некоторые изменения.
– И вы всерьез считаете, что с пленением царя Петра русские прекратят сопротивление? – поинтересовался Пипер.
– Уверен в этом.
– Но царь не одинок, у него имеется целый ряд единомышленников и последователей.
– Именно поэтому я предлагаю вместе с царем обязательно схватить и Меншикова.
– Помню об этом. Но зачем нам нужен сын Петра, царевич Алексей?
– Наследник – прямая противоположность отца. Это как раз тот человек, который может заключить мир на всех угодных королю Карлу условиях. Но чтобы царевич смог избежать неблагоприятного для Швеции влияния, его надобно держать рядом с собой. И лучше всего, если во время мирных переговоров он будет являться гостем его величества короля Карла... Не пленником, а именно гостем, – еще раз многозначительно повторил Мюленфельс.
– Разумно, – медленно произнес Пипер. – Но как вы собираетесь осуществить свой план в теперешних условиях?
– Царь Петр горяч и своеволен. Он часто совершает поступки, никак не приличествующие особе столь высокого происхождения: лично осматривает местность и выбирает позиции для боя, с малым числом людей ведет разведку, а иногда даже ввязывается в стычки с врагом. Главное – не прозевать подходящий Момент и не спутать царя ни с кем другим, поскольку он любит носить одежду простого офицера или даже солдата...
Пипер опустил глаза, скривил губы. Мюленфельс, перечисляя недостатки царя Петра как военачальника, говорил о том, что неоднократно граф повторял королю Карлу: венценосная особа не может вести себя как обычный офицер и подвергать по пустякам свою жизнь смертельной опасности.
– ...Посему мой план прост, – продолжал Мюленфельс. – Я уже докладывал вам о двух офицерах, ранее бывших на службе у царя, а сейчас оставивших его и перешедших к королю Карлу. Это капитаны Саксе и Фок, они хорошо знают царя в лицо. С вашего разрешения я сегодня же отправлю их к генералу Левенгаупту, где они отберут сто – сто пятьдесят лучших солдат, переоденут их в русскую форму и постараются быть рядом с отрядом Меншикова, чтобы захватить царя в плен еще на марше. Если это не удастся, они повторят попытку во время сражения русских с Левенгауптом или в момент бегства царя после разгрома его войск. Я уверен, что благоприятный случай обязательно представится и злейший враг Швеции окажется в руках его величества короля Карла.
Пипер задумчиво потер переносицу.
– Мой друг, но если царь Петр и его сын окажутся оба в нашем плену, почему мирный договор должен будет заключать царевич, а не законный, здравствующий монарх? Ответьте мне...
Мюленфельс учащенно задышал, скомкал в руках платок.
– Ваше сиятельство, я уже говорил, что русский царь храбр и чересчур горяч. Я уверен, что он не пожелает добровольно сдаться в плен и окажет сопротивление. Но ведь и среди шведских солдат имеются горячие и вспыльчивые. А война есть война, на ней случается всякое... Разве может простой солдат понять, как дорога мне и вам жизнь каждого монарха, будь он даже русским царем?
Некоторое время Пипер неподвижно смотрел куда-то в угол палатки, затем, вздохнув, скорбно опустил голову.
– Да, мой друг, вы правы: лишь один Господь знает, как священна для меня каждая капля крови любой венценосной особы. Но разве наша с вами вина, что русский царь так горяч и необуздан? А потому сейчас же заготовьте от моего имени письмо графу Левенгаупту, в котором я наделяю капитанов всеми необходимыми полномочиями. И позаботьтесь, чтобы они отправились к графу как можно скорее.
Под парусиновым верхом телеги у складного алтаря сидел плотный пожилой человек в поповской рясе. В его волосах были заметны нити седины, густая борода опускалась на грудь. Это был священник отряда сердюков, что под командованием полковника Тетери и есаула Ивана Недоли прибыл по тайному приказу Мазепы в распоряжение генерала Левенгаупта.
Сейчас батюшка совершал обряд святого таинства – исповедовал паству. Но вовсе не исполнение обязанностей занимало ум священника: уже несколько дней его голова была занята делами куда более важными. А потому он отпускал грехи легко и быстро, даже не дослушивая большинство исповедовавшихся до конца. Лишь один из них, детина саженного роста с побитым оспой лицом и огромными, закрученными чуть ли не до ушей усами, заставил батюшку внимательно вслушаться в его слова.
– Так что гнетет душу твою, сын мой? – спросил он, отвлекаясь от своих дум.
– Грех несу, отче. С этим и явился к тебе.
– Кайся, сын мой, и Господь внемлет твоему раскаянию. Детина, из-за своего роста согнувшийся почти вдвое, просунул голову под навес телеги, приблизил лицо к священнику.
– В блуде каюсь, отче. Ибо возжелал жену стародавнего друга своего, от коего не видел ничего, кроме добра и верности нашему товариществу.
– Как же случилось сие грехопадение, сын мой? Кто мог совратить такого славного и видного казака, как ты? Неужто какая-то мужичка, ибо иных женщин нет во всей округе?
В глазах священника уже не было равнодушия и скуки. Они смотрели на кающегося с живейшим интересом, тем более что поп прекрасно знал его. Это был один из казачьих старшин отряда полковника Тетери – полусотник Цыбуля, заслуживший звание личной отвагой и неустрашимостью в бою, но никак не умом. Среди казаков он был известен также тем, что имел о себе самое высокое мнение и старался во всем подражать нравам и привычкам выше его стоящей старшины.
– Она не мужичка, – обидчиво произнес Цыбуля, – а настоящая пани, жена моего побратима сотника Охрима. И живет не в этом убогом местечке, – кивнул он на сиротливо покосившиеся избы единственной улочки маленького белорусского села, посреди которой стояла поповская телега, – а в собственном богатом хуторе на самом берегу Днепра.
– Днепра? – удивился священник. – Но кой нечистый занес тебя в такую даль?
– Не он занес меня, отче, а войсковые дела. А хутор...
– Постой, не спеши, – остановил священник казака. – Лучше скажи, что за дела нашлись у тебя на Днепре?
Полусотник нахмурил кустистые брови, кашлянул.
– Не велено о том говорить, отче. Не моя это тайна, а пана полкового есаула Недоли, что посылал меня.
Не ожидавший подобного ответа священник заерзал на скамейке, постарался придать своему лицу самое строгое выражение, на которое был способен.
– Не богохульствуй, раб Божий! Ибо не в шинке стоишь, а в храме Божьем! И не человеку ответствуешь в сию минуту, а пред ликом Всевышнего каешься в грехах своих тяжких и молишь о прощении небесном. Так говори, почему оказался на Днепре и как попал на хутор? Господу знать надобно, привели тебя туда слабость духа, бесовское наваждение или, обуреваемый соблазном и позабыв о святых заповедях, сам стремился к грехопадению?
Заметно оробевший полусотник перекрестился на икону Богоматери, смутно угадывающуюся за спиной священника, тяжко вздохнул.
– Прости, отче, за речи мои дерзкие и непотребные. Поведаю тебе все без утайки. Посылал меня пан есаул по большаку на Шклов...
– Довольно, сын мой, – перебил Цыбулю священник. – Значит, попал ты к Днепру по чужой воли... Теперь поведай Господу, как тебя бес попутал.
– Покуда мои казаки со шведами рыскали по берегу, отыскивая броды и подбирая место для переправы, я наведался перекусить на ближайший хутор. Там и повстречал жену своего стародавнего побратима сотника Охрима.
– А где же сотник? – полюбопытствовал поп.
– На царевой службе в Лифляндии.
– А сотничиха, небось, баба что надо? – спросил священник, стремясь отвлечь внимание Цыбули от только что состоявшегося разговора о Днепре, не имеющего отношения к исповеди.
– Еще какая! – сразу оживился полусотник. – Видна и статна, пригожа на обличье и телом гладка. Поначалу я крепился... даже святую молитву сотворил, страшась соблазна. Но когда сотничиха меня сытно накормила, поставила бутыль наливки и добрый кухоль медовухи, а потом собственноручно постлала постель, дабы я передохнул после обеда, вот тут я и не устоял.
Священник с важным видом перекрестил Цыбулю.
– Сын мой, прощаю тебе сей грех невольный, ибо грешно человека убить, а продолжить род его – святое дело. Совсем в ином грех твой тяжкий! В тот час, как твой побратим сотник Охрим и тысячи других казаков-украинцев сражаются супротив шведов за нашу святую православную веру, ты вкупе с недругами-латинянами собрался пролить кровь братьев своих, россиян. Цыбуля оторопело уставился на священника.