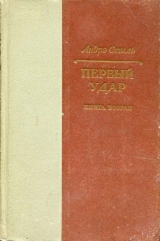
Текст книги "Первый удар. Книга 2. Конец одной пушки"
Автор книги: Андрэ Стиль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Страх Андреани
Второй вопрос – серьезнее. В глазах Анри мелькает сомнение… Но как не верить старику – он говорит так правдиво! Сам он не понял и половины того, о чем рассказывает. Все время задает вопросы. «Это можно объяснить только врожденной порочностью», – говорит он.
– Вы спрашиваете, что за документ? Вероятно, Декуан что-то натворил когда-нибудь, – объясняет Анри. – В полиции сделали вид, что прощают, но заставили его подписать признание. Обычный прием. Теперь они держат его в руках… заставляют делать все, что им угодно, и чем больше мерзостей он делает, тем они крепче держат его в своих лапах и тем больше он увязает в грязи…
– Но вы не представляете себе, как низко он пал! Разве можно пасть еще ниже? Если б вы только знали! Ведь он бьет свою жену!
Анри и Полетта невольно переглянулись. Конечно, Андреани не может даже и подозревать об их отношениях, но он чувствует, какая пропасть лежит между Декуанами и семьей Анри. Полетта поставила кофе на плиту и села на свое место. Когда она вяжет, у нее совершенно такие же движения, как у Карлотты. Просто удивительно! И совершенно так же Полетта вяжет, не глядя на спицы. Взгляд ее часто останавливается на муже. Разве можно представить себе драку между ними! Предположить, что он способен ей нагрубить, обругать ее, как это делает Декуан, который весь день поливает жену грязью? Разве у Полетты были бы такие глаза, разве она могла бы так смотреть на мужа? По глазам всегда видно, унижают ли человека побоями. И не только побоями. Конечно, Анри и Полетта далеки от подобных мыслей, у них такой вопрос и не возникает. Но для Андреани здесь все сплошь – вопросы.
– Я не понимаю, с какой целью они замышляют эту пакость…
Совершенно ясно, что «эта пакость», как он говорит, не находя других слов, для него непостижима. Старик от волнения не мог усидеть на месте – то вскакивал со стула, то опять садился. Его удивляло и даже возмущало спокойствие Анри. Так страшно, а вдруг не успеют предупредить!..
– С какой целью? Вот в этом и нужно разобраться, чтобы сорвать их планы. Помешать мы им можем, но удар надо нанести метко. Вот поразмыслите. Выгоды для себя полиция может извлечь много… И действует она отнюдь не против американцев, как вы думали. Что тут потеряют американцы? Немного горючего да боеприпасов? Если бы началась война, которую они готовят, то на один только их рейд самолета потребовалось бы гораздо больше горючего, не говоря уж об остальном. Вы согласны? А в чем они сыграют на руку американцам? Вы же сами сказали: их заговор направлен против меня. Но не только против меня лично – он направлен против всех коммунистов, против нашей партии. Если бы этот заговор удался, нас бы ославили бандитами, которые ни перед чем не останавливаются; оклеветали бы нас в такой момент, когда все больше людей начинает прозревать и принимает вместе с нами участие в борьбе против войны, против американской оккупации, против перевооружения Германии… Понимаете? К тому же они прекрасно знают, что все, кто живет около склада, боятся взрывов… Если бы им удалось осуществить свой замысел, они стали бы уверять, что опасность представляют не бочки и ящики, которые привозят сюда американцы, а «коммунистические диверсии». Нас начали бы бояться. А господа американцы заранее умыли бы руки: если бы на складе произошел взрыв, они обвинили бы нас. И, заметьте, такая подлая махинация оказалась бы для них выгодной и в других местах. Повсюду, где находятся американские военные склады, они распространяли бы клевету как можно шире и все с той же целью. И, наконец, почему они хотят произвести взрыв у самого здания, которое мы заняли? В надежде запугать нас, чего им не удалось добиться вчера, хотя они пригнали отряд охранников в триста штыков. Вы видели сегодняшнюю демонстрацию? Теперь представьте себе, что их план удастся. Видимо, Декуану обещали дать взрывчатку, раз он вспомнил о Сопротивлении. Наше здание здорово встряхнуло бы. Во всяком случае, вылетели бы все стекла. Шуму было бы порядочно… Так вот, тогда уж никакая демонстрация не помогла бы – половина семей добровольно переселится обратно в бараки, лишь бы не подвергаться постоянно такой опасности. Другими словами, мы сами освободили бы здание. Понимаете?
Нет, Андреани не все понимает, далеко не все. Чтобы все понять, нужно иметь почти такое же, как у Анри, представление об американцах, о партии, о войне, о полиции – представление, которое и служит Анри отправной точкой для всех его выводов. А у Андреани во многих вопросах нет своего мнения, вернее он просто ничего об этом не знает. Живет он так уединенно, от всего оторван… Все его удивляет… Взять хотя бы этого человека, который так складно говорит. То ли он произносит речь, хотя перед ним аудитория из одного человека, то ли думает вслух – не поймешь. А он, Андреани, все не может расстаться со своей точкой зрения и, хотя уже испытывает сомнения и колебания, все еще рассуждает так: готовится злодеяние. Против кого? Кому оно выгодно? Это неважно. Тут налицо зло как таковое. Черный замысел направлен против Анри и Полетты. У Андреани уже начало складываться о них свое мнение, и оно отнюдь не умаляет это зло – напротив! Значит, надо предотвратить преступление. «Для этого я сделал все, что было в моих силах, – думает Андреани. – Почему Леруа нагнулся и так пристально смотрит мне в глаза?» Анри подыскивает слова, словно собирается сказать что-то очень важное.
– Послушайте, господин Андреани… – говорит он. – Раньше я вас не знал, но… то, что вы сейчас сделали, это, возможно, самый хороший, самый благородный поступок в вашей жизни.
Видно, что Анри искренно взволнован. Как же отнестись к этой похвале? Анри Леруа явно расценивает ее очень высоко. Но Андреани растерялся. Лучше уж никому, кроме Карлотты, об этом не рассказывать. Похвала коммуниста… Но все же он ее не забудет. «Благородный поступок» – вот он как сказал. – «Самый благородный поступок в вашей жизни». Но Анри Леруа уже заговорил о другом:
– Знаете, мы давно ждем подобного сюрприза. Только нам казалось, что они выкинут какой-нибудь фортель в порту. Во всяком случае, мы держимся начеку…
Все время он говорит «мы», и непонятно, кого он имеет в виду, но у собеседника возникает смутное желание: а может, в это «мы» включается и он, старик Андреани.
– Вот посмотрите, – говорит Анри, вынимая из-под газет папку, а из папки – вырезку, наклеенную на лист бумаги.
Цитата из «Дейли ньюс». Чудовищная цитата!
«Еще до того как Соединенные Штаты официально объявят войну России, первая кровь прольется в соленых водах портов Атлантического океана и Средиземного моря, через которые мы пытаемся посылать оружие, снаряды, танки и военные самолеты для помощи свободной Европе».
Для того чтобы страшный смысл этой фразы дошел до Андреани, он опять-таки должен был бы знать тысячу вещей, о которых он и понятия не имеет. Цитата на него производит впечатление грозного и циничного предупреждения, и только… Во время всего разговора Андреани и Анри разделяла стена, и ни тот ни другой о ней не подозревали. Каждый воспринимал слова собеседника по-своему, иногда даже в противоположном смысле, а чтобы понять их по-настоящему, потребовалось бы все начать с азов. Но для этого, пожалуй, не хватило бы целой жизни – ни Андреани, ни Анри.
Все же Андреани взял со стола какую-то газету; впрочем, он просто хотел освободить место: хозяйка дома подошла и не знает, куда поставить три чашки и сахарницу, которые держит в руках…
– Вот в этой самой газете я и нашел цитату из «Дейли ньюс» несколько месяцев тому назад. Обычно я не делаю вырезок, а просто сохраняю все номера. Вот посмотрите: каждые три месяца печатают содержание всех предыдущих номеров. Но эта цитата мне часто бывает нужна, я ее и вырезал.
Сперва Андреани рассматривает газету больше из вежливости. Как она странно составлена! Никогда такой не видел! И Андреани принимается перелистывать газету уже из любопытства, его интересует не содержание, а то, как она сделана. Начиная с оглавления все в этой газете необычно: таблицы, цитаты в рамках, цифры, диаграммы, вопросы и ответы. Чувствуется, что это серьезная газета и служит для того, чтобы по ней учиться. В политике Андреани больше всего раздражает то, что он называет презрительно «одурачивание» – да, да, именно одурачивание: у журналистов такая противная манера высказывать свое мнение в категорическом тоне, не допускающем возражений: «Можете своей головой не думать, не стараетесь составить свое собственное мнение». А вот эта газета, как видно даже при поверхностном и недоверчивом осмотре, подает материал по-другому – она словно говорит читателю: «Суди сам». У Андреани было совершенно противоположное представление о коммунистической прессе и, тем более, о коммунистической партии…
– Вас это интересует?
– Что обо мне говорить, я ведь никаких газет не читаю. Скажите… вы по ним и готовитесь к своим речам?
– Не только к речам, – отвечает Анри с добродушным смехом. – Собственно говоря, мы не так уж часто произносим речи.
Есть же чудаки, которые считают, что основное в партийной работе – речи!
– Я учусь по ним, и еще вот по этому, и по этому.
Андреани, совершенно сбитый с толку, смотрит на «Кайе», на книги…
– Если ты не подкован теоретически, невозможно хорошо проводить практическую работу.
Анри тут же упрекает себя за то, что сказал всем известную истину. Но Андреани слышит ее впервые и внезапно заявляет безработному докеру, который складывает и убирает со стола книги, чтобы на них не капнуло кофе:
– Вы совсем непохожи на других. Вы учите все, что тут написано?
В голове у него мелькали слова «Новая Франция», но только потому, что он прочел название лежащей на столе газеты. Слова эти вертелись у него на языке, но кому же придет в голову применить эти слова к человеку?
– Главным образом, я учусь думать. Наши газеты и книги для того и издаются. А непохож на других не я, а наша партия – вот она действительно непохожа на все остальные партии.
– Где вы научились так прекрасно варить кофе? По этим книгам? Во всяком случае, кофе у вас изумительный, мадам…
Но тут Андреани запнулся и, оборвав смешок, скомкал свою любезность, не зная, как называть хозяйку – просто «вы» или «мадам».
– А ведь нам приходится считать каждое зернышко.
– Моей жене тоже… Мне это хорошо знакомо.
В общем он правильно сделал, что назвал ее «мадам». Какая разница с женой Декуана! Полетта приоткрывает дверь – по-видимому, в спальню, – заглядывает туда. Андреани уже собрался уходить. Он стоит рядом с нею и спрашивает:
– Это ваши дети?
– Посмотрите, – говорит она шепотом, – спят как убитые. Как будто ничего на свете не происходит!
* * *
– Я вас немножко провожу, – говорит Анри. – У нас тут очень темно и на каждом шагу ямы. Можно ноги себе переломать.
– Только будь осторожен! – говорит Полетта.
Андреани семенит рядом с Анри в морозной ночи и молчит, чтобы не наглотаться холодного воздуха. Только когда вышли из дверей, он спросил:
– А как же вы будете выходить и входить? Ведь они тут скоро все загородят колючей проволокой.
– Там видно будет, – коротко ответил Анри.
По отрывистому его тону Андреани решил: боится, старается разговаривать поменьше. И сразу ему вспомнилось напутствие Полетты. Вот беда! Идешь в темноте рядом с этим человеком, и, оказывается, кроме ям, в которые можно провалиться и переломать себе ноги, ему угрожает еще другая опасность. Что же все-таки его жена хотела сказать таинственными словами «будь осторожен»? Андреани озирается. Вокруг стоял бы непроглядный мрак, если бы не кольцо фонарей, да ярко освещенные окна школы, из которых далеко на территорию склада падают огромные тени людей; тени жестикулируют и приводят ночь в движение, как будто все еще бушует буря, хотя на самом деле ветер внезапно улегся с час тому назад, словно его прихватило морозом. Кругом тишина, только противно скрипит старая землечерпалка, перебирая безостановочно, как четки, свою цепь из железных ковшей. Обычно Карлотта и Андреани с наступлением темноты запираются и уж никуда не выходят из дому. «Будь осторожен»… Если люди готовы пойти на злодейство только для того, чтобы очернить этого Анри Леруа, значит сейчас, в этой тьме кромешной, да еще когда он идет по совершенно открытому месту, – его подстерегают ужасные опасности, и Андреани вместе с ним…
На главной улице поселка, где было немножко светлее, Анри сказал:
– Ну, теперь прощайте, господин Андреани.
Но тот вдруг ответил:
– Как же вы пойдете один? Разве вы не знаете, до чего они злы на вас? Не понимаете, что вам угрожает?
– Не надо преувеличивать, – сказал Анри; тревога старика вызвала у него улыбку.
– Теперь я знаю дорогу и прекрасно сам ее найду. Я вас провожу.
У Анри чуть не вырвалось: «Зачем? Это нелепо!» Он подумал: «Что это за комедия? Я его проводил, он мне хочет отплатить той же любезностью. Так мы и будем прогуливаться всю ночь? Да если что-нибудь и случится, какая от него помощь? Еле на ногах держится. Хорош телохранитель!» Но все-таки Анри сдержался и не сказал этого. Порыв Андреани уже не казался ему смешным. Он только мягко попробовал уговорить старика:
– Господин Андреани, ведь мне до дому не так уж далеко идти…
– Я вас не спрашиваю! Извольте слушаться.
Подумайте, как расхрабрился! Может быть, тут сыграла роль ночная тьма – старик не видел лица молодого докера, который был выше его на три головы. Да, вероятно, темнота вернула Андреани его самоуверенность, его прежний твердый голос. Он заговорил властным тоном, каким отдавал когда-то приказания подчиненным в «своей» гостинице.
– В таком случае, пошли поскорее, а то я начинаю замерзать!
Но после того, как они пожали друг другу руки и Анри скрылся в подъезде, не найдя, что сказать на прощанье – много ли выразишь простым «спасибо»? – после того, как стукнула окованная железом дверь, Андреани бросился бежать, словно испуганный ребенок. Он бежал опрометью, все время оглядывался, озирался. Удивительно, как он не сбился с тропинки, которую, к счастью, сразу же нашел между ямами бывших подвалов. С ближайшей наблюдательной вышки до него доносились звонкие в морозном воздухе голоса, непонятные и чужие, как в дурном сне. Луч прожектора обшаривал поле. Едва ли он искал старика Андреани, но бедняге казалось, что страшный луч охотится именно за ним…
– Кто там? Ты? – спросила Карлотта. Она лежала на кровати и, глядя в темноту широко открытыми глазами, ждала его. Андреани, не сняв пальто, бросился к ней и, задыхаясь, в полном изнеможении, заплакал, как ребенок.
– Что служилось, боже мой! Говори же… Я ничего не понимаю.
– Да что ж тут понимать, Карлотта? Я уж и сам не знаю, что я делаю.
* * *
Анри немедленно послал Полетту за Гиттоном, Буваром и Дюпюи.
– Позови и младшего Дюпюи, – крикнул он ей вдогонку.
Теперь, когда все они живут на одной площадке, их недолго собрать. Время не терпит. Нужно сегодня же ночью составить и выпустить листовку, чтобы сорвать провокацию. А потом можно будет еще что-нибудь предпринять. Гиттон вскочил на велосипед и помчался предупредить товарищей в федерации и, если еще не поздно, сообщить в газету…
Жожо сперва не хотел верить, потом возмутился:
– Вы что, за дурака меня принимаете? Неужели вы думаете, что им удалось бы меня обкрутить?
Потом он отошел в сторону и долго стоял один, весь бледный, желтый, как будто обидевшись на товарищей. А они тем временем уже занялись листовкой. Наконец Дюпюи подошел к столу и, встав за спиной отца, сказал:
– Они, видно, находят, что еще мало заставили меня убивать людей! Что ж, придется им и за это поплатиться.
Полетта тихонько показала на него Анри и с деланно безразличным, снисходительным видом сказала:
– Вот видишь! Я не зря спросила про «народовольцев»… Может быть, я и витала в небесах, но не так уж, как тебе это показалось. Вот видишь!
Ни Бувар, ни старик Дюпюи, ни Жожо ничего не поняли.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Наименьшее зло
В среду вечером буря, как по волшебству, вдруг улеглась. Когда Жизель отправилась в кино, дул еще такой сильный ветер, что едва не сбивал ее с ног. По сводчатой галерее торговых рядов на улице Гро Орлож проносились бешеные встречные порывы ветра; приходилось пережидать, укрывшись за одной из арок, которые рассекали шквал, как устои моста рассекают волны. Еще во время антракта никто не решался высунуть нос на улицу. Дождь врывался в вестибюль кинематографа и заливал афиши. Беспорядочный и суматошный ветер отрывал мокрые афиши от стен и то кидал их из стороны в сторону, то пришлепывал к потолку.
Но когда Жизель вышла из кино, буря прекратилась. В безветрии воздух казался еще холоднее. Стояла какая-то странная, зловещая тишина. В разгар зимы – настоящая предгрозовая погода. В застывшем, неподвижном воздухе нависла угроза. Слышался только грохот прибоя. Буря бушевала почти неделю, и океану нужно было много часов, чтобы снова обрести свой беззлобный покой. За последние дни люди привыкли бороться со штормовым ветром, который хлестал их по лицу, толкал в спину, и теперь они ступали как-то неуверенно. С какой легкостью, без всяких усилий, держишься на ногах! Удивительно! Даже как-то беспокойно.
А утром неожиданно проглянуло солнце. Правда, зимнее солнце – мутный желтоватый диск. Пригреет и спрячется, потом снова покажется. Но чего же от него требовать? Все-таки приятно – похоже на воскресное утро. Очнувшись от бесконечного, тяжелого кошмара, который, казалось длился всю ночь и всю ночь не давал спать, Жизель сразу подбежала к окну. А вдруг солнышко поможет ей разобраться в себе? И, главное, понять, откуда это тревожное состояние, такое тревожное, как затишье, внезапно сковавшее вчера воздух…
Вернувшись из кино домой, Жизель почувствовала, как у нее натянуты нервы из-за этой мнимой предгрозовой погоды. Она не помнит, когда заснула. Скорее всего, когда совсем уже потеряла надежду уснуть и думала, что всю ночь будет ее мучить лихорадочная бессонница: до самого утра будешь ворочаться с боку на бок, зажигать и тушить лампу с зеленым абажуром – ну почему он зеленый? – раскрывать и снова отбрасывать журналы, рассматривать в них огромные лица каких-то красавцев, целующих томных красавиц, такие огромные лица, что на них видны все поры, и так ярко раскрашенные, что даже во сне преследуют эти неестественные физиономии. Может быть, из-за них она и заснула таким беспокойным сном…
Во всяком случае, не из-за фильма. Да и видела ли она его? Смотрела ли на экран? Столько она перевидала в кино этих картин, что и так могла догадаться, какие будут приключения и чем все кончится. Но что же придумаешь? Чем занять себя, когда такая нелепая жизнь? Надо же как-нибудь убить время. Вот и сидишь часами в темных залах кинематографов, ходишь в церковь по воскресеньям, пляшешь в дансингах, а после танцев – ночные прогулки с кавалерами. Какое щекочущее удовольствие доставляют их ухаживания и дурацкий их вид, когда она, в конце концов, отказывает им, обязательно отказывает.
Нет, конечно, не фильм подействовал на нее так возбуждающе, а скорее уж соседство Алекса. Хотя с ним еще меньше, чем с другими, могла идти речь о чем-нибудь таком… Достаточно одного его имени: Александр. Все зовут его «Алексом», но это мало что меняет. Ему очень подходит имя Александр. Правда, фигура у него тщедушная, да еще эта его вежливость, деликатность, особенно по отношению к ней, и очки в узенькой оправе, похожие на пенсне, и ласковый взгляд. Это все относится к Алексу. Зато его честолюбивые планы, недюжинный ум, его начитанность, трудолюбие и старомодная серьезность, отвращение к танцам, спорту, ко всяким легкомысленным развлечениям… – вот в этом он Александр. Стать «мадам Александр» и называть мамой ту женщину, которая выбрала ему имя, такое же длинное и нелепое, как подъемные краны, которые выпускает ее муж, – нет, это не для современных девиц! Конечно, Жизель льстит нежная любовь, которую можно прочесть в глазах Алекса, и поэтому порой она бывает с ним очень мила, даже находит удовольствие в его обществе – в те дни, когда ей никого не хочется видеть, когда всё ей противно. Но этим ее чувства к Алексу и ограничиваются. Однако, когда в зале погас свет и запоздавшие зрители стали с шумом рассаживаться по местам, а на экране замелькали под бравурную музыку заголовки киножурнала, Жизель по привычке потянуло придвинуться поближе к Алексу. Пожалуй, самое приятное в Алексе – его голос, его интонации и его речь. У него звучный, сильный, честный голос. Не носи он очков, которые уж сами по себе придают что-то убогое всему его облику, да будь у него красивое, мужественное лицо и мускулатура, как у бесшабашного кутилы Ива, который только этим и берет, возможно, что все было бы иначе… Но едва погас свет, дальнозоркий Алекс снял очки и стал таким жалким! Жизель сразу же с презрением отодвинулась от него. Соседство Алекса стало ей снова приятно лишь после того, как она довольно долго не видела его лица в темноте и только слышала его шепот. Она больше слушала его, чем смотрела на экран, и все вокруг начали возмущенно шикать. Даже подошла билетерша и попросила их или замолчать, или выйти. Ни ему, ни ей не хотелось уходить, и оба молча стали смотреть картину, хотя каждый был занят только тем, что думает другой. Жизель ждала, что Алекс сейчас многозначительно прикоснется к ее локтю или колену, как это всегда делали молодые люди, с которыми она в первый раз шла в кино. Разве он не знает, что она ждет именно этого? Конечно, знает. Всякому школьнику известен этот прием. Классическое вступление! Так начинали ухаживание и те богатые молодые хлыщи, к среде которых принадлежали друзья и приятельницы Жизель. Но Алекс находил такой способ объяснения недостойным своей любви. Нелепо и даже, пожалуй, комично получится, если она даст ответ, не произнося ни слова, только жестом или взглядом, все равно какой ответ – согласие или отказ. А она находила, что очень глупо с его стороны вести себя так сдержанно. Ничего не предпринимает и не дает ей возможности оттолкнуть его, но оттолкнуть так мило, чтобы он мог возобновить игру, – конечно, только игру… В конце концов она даже начала тихонько вздыхать – понимай как хочешь эти вздохи: может, они ничего не означают, а может, выражают нетерпение, которое он, конечно, всецело разделяет… После антракта Алекс не выдержал и покорился ее желанию со смешанным чувством надежды и разочарования – ведь все это носило вульгарный характер. Теперь малейшее слово прозвучало бы так же фальшиво, как то, что с экрана говорили актеры. Особенно смешно могло получиться: «Люблю тебя». Когда их локти соприкоснулись в первый раз, Жизель приложила палец к губам и с улыбкой показала на билетершу. Самолюбие ее было удовлетворено, и она не отодвинулась. Алексу казалось, что он завоевал свое счастье, – ее прикосновение, словно восходящее солнце, озарило его душу. Для нее же это было началом игры, бесцельной, щекочущей нервы игры, которую она обожала; впрочем, далеко она никогда не заходила, за исключением одного случая, давным-давно, с Жераром. Только он держал ее однажды в своих объятиях, и как он целовал ее! Прелесть игры увеличивали всплывавшие в темноте сладкие воспоминания о Жераре, не о том Жераре, каким он стал теперь, – на что он ей нужен такой?.. – а о том, каким он был прежде, в пятнадцать лет. Алекс в общем ей не интересен. Жизель даже становилось немножко неловко, когда она смотрела на него, заглядывала ему в глаза. Какие странные у него глаза! Зачем он снимает очки?.. И даже в те минуты, когда на нее действовали любовные сцены в фильме, когда она сама начинала поддаваться игре и прижималась к Алексу, – стоило ей подумать, что знакомые шелопаи могут заподозрить ее в каком-то чувстве к неказистому поклоннику, что над ней станут смеяться Ив, Клод, Жаки и Жижи, на которых так не похож Алекс, – все грезы мгновенно рассеивались. Нет, ничего не надо. Хорошо, что она такая равнодушная, ко всему безразличная, бесконечно далекая от всякого чувства, похожего на любовь. Только флирт, приятное волнение и возбуждение. К чему все эти сантименты? Она и не мечтает, что где-нибудь, когда-нибудь нашлась бы цель и пристань для жизелей. Ей нравилось дразнить Алекса. Как удачно вышло в конце: он попытался обнять ее, а она тихонько отстранилась, и тогда он протянул руку на спинку кресла, очень близко от ее плеч, но не смел прикоснуться к ней.
Поход с Алексом в кино кончился так же, как и все ее прогулки с молодыми людьми: она вернулась домой, в свою одинокую спальню, с чувством неудовлетворенности. Колокольчик у входной двери в мясную, как всегда, разбудил отца. Он проворчал из своей комнаты: «Долго еще это будет продолжаться? Ты уж скоро будешь возвращаться на рассвете!» А потом он пришел к ней, в длинной ночной рубашке, чтобы убедиться, что она легла. У него теперь появилась привычка входить к ней в комнату, когда она ложилась спать, под предлогом, чтобы она не зачитывалась до поздней ночи, или чтобы проверить, не забыла ли она погасить свет перед сном. Жизель терпеть не могла его назойливых забот. Как только отец появлялся, она быстро натягивала одеяло до самого подбородка. На этот раз она притворилась спящей и зажгла лампочку, только когда услышала скрип его кровати.
Жизель чувствовала себя выведенной из равновесия, напряженно ждала чего-то, хотя знала, что сегодня ничего интересного больше не будет. Но все ее существо было взбудоражено, и сон не приходил.
Где теперь найти опору ее сердцу, жизнь которого началась так рано и так резко была перенесена в другой мир, – сердцу, оторванному от привычной среды? А могла ее судьба сложиться иначе? Как знать! Да и зачем об этом думать? Она уже так привыкла ко всему, что ее окружает, к фальшивой жизни, к нечестно приобретенному богатству, к показному благополучию; расстаться со всем этим ей кажется страшным. Ей никогда не приходит в голову, что она могла стать женой рабочего, что пропасти между нею и Жераром могло и не быть. Что вы?! Это ужасно! Так все считали в том мире, где она жила, – в мире жизелей.
Теперь, пожалуй, наименьшим злом мог быть кто-нибудь вроде Алекса. Но к Алексу она способна чувствовать только жалость. Когда они вышли из зрительного зала, у Алекса был растерянный вид, ему, несомненно, хотелось проверить ее чувства, поговорить с ней. Она и это превратила в игру, воспользовавшись встречей с Жаки, с которым они столкнулись в вестибюле. Жизель изобразила такую радость, как будто теперь для нее существовал только Жаки, и тут же предложила ему проводить ее домой вместе с Алексом… Шумный и развязный Жаки болтал о всяких пустяках, которые были не по душе Алексу. За всю дорогу Алекс почти не проронил ни слова и, конечно, не мог поговорить с Жизель. Прощаясь, Жаки рассеянно пожал руку Жизель, потом стал прощаться Алекс, и его долгое пожатие означало все: и вопрос, и укор, и клятву… Право, она еще и сейчас чувствует его руку в своей руке, ей так запоминаются физические ощущения…








