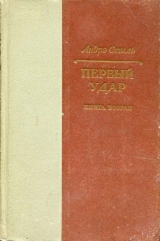
Текст книги "Первый удар. Книга 2. Конец одной пушки"
Автор книги: Андрэ Стиль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
В поздний час
Кончилось собрание, и они вышли на улицу, окоченевшие, одеревенелые, с негнущимися коленями. Все кругом бело. Под ногами поскрипывает снег.
– Как в России, – сказал Фернан Клерк. – Наверно, там не очень удобно ездить зимой на велосипеде.
– У советских товарищей горячее сердце, – пошутил Феликс, – у каждого индивидуальное центральное отопление!
– Зайдем к Верди, пропустим по рюмочке, – предложил Брассар. – Не мешает согреться.
– Зайдем.
Верди – коммунист, содержит маленькую гостиницу как раз напротив помещения секции. Из широкого окна на снег падает яркое пятно света.
– А я прощусь с вами, – сказал Анри, – домой спешу.
По правде сказать, неплохо бы выпить рюмку коньяку, согреться, но Анри уж не помнит, когда был в каком-нибудь кабачке. Разве только в задней комнате – если там проводилось собрание. А кроме того, в кармане нет ни гроша. У товарищей другое дело – они работают…
– Слушай, если откажешься, обидишь меня! – сказал Клерк. – Я угощаю.
Верди стоит за стойкой и перетирает рюмки – внушительный строй рюмок.
– Не часто вы ко мне заглядываете, – говорит он.
* * *
– Что такое? Сегодня всем обязательно надо поговорить со мной лично, – шутит Анри, спускаясь по ступенькам в кухню. – Сперва Артюр Гарсон, а теперь ты, Верди.
Верди спускается вслед за ним и закрывает за собой дверь.
– Да, брат, надо с тобой посоветоваться, – говорит Верди, суетясь вокруг Анри, когда тот уселся за стол. – Хочешь еще рюмочку? Есть у меня бутылка… Заветная. Отменный коньяк. Для себя берегу. – А сам уже открыл буфет и, достав оттуда две рюмки и бутылку коньяку, очень ловко, как заправский кабатчик, держит все это в одной руке, пропустив ножки рюмок между пальцами. По всему видно: оттягивает разговор, не знает, как начать. Когда наливает коньяк, рука у него слегка дрожит… Потом садится и рывком ставит на стол бутылку, как будто решил отказаться от точки опоры.
– Анри, дальше так не может продолжаться…
Анри не хочется разыгрывать притворное удивление, спрашивать: «Ренэ, что с тобой? Чем ты расстроен?» Он уже слышал разговоры.
– Ты же знаешь, я тут ни при чем, – продолжает Верди, не дожидаясь вопросов. – Они реквизировали комнаты почти во всех гостиницах, где – одну, где – две. И у меня тоже. Но ведь я коммунист, и это всем известно. Неладно получается. Люди видят: в гостинице у Верди американцы торчат. Понимаешь, я как будто из выгоды пустил их. И люди-то как говорят? Они ведь не говорят: «Посмотрите-ка на Верди»… Они говорят: «Посмотрите на коммунистическую партию – вот у них как! На словах одно, а на деле другое». Мне даже вот что передавали: кто-то сказал: «Верди теперь ученый стал – помнит, как в прошлую войну в концлагере сидел. Теперь он перекинулся к оккупантам». Каково мне это слышать? А товарищи… Правда, я их вижу все реже и реже. Взять хотя бы к примеру Жожо, сына Жоржа Дюпюи. На днях он что мне сказал? Возможно, он выпивши был – ему немного нужно, от одного винного духа валится с ног… Но все-таки… Пришли янки, которых у меня поселили, и по своему обычаю, прежде чем подняться к себе в номер, подошли к стойке. Они вздумали угостить Жожо и двух товарищей, которые были с ним, сигаретами. Все трое, понятно, отказались. А янки, конечно, не понимают ни слова по-французски. Они вытаращили глаза и стали пятиться, как будто увидели самого чорта. Тут младший Дюпюи и сказал мне: «Больше я к тебе ни за что не приду, пока у тебя торчат эти молодчики!» – и хлопнул дверью. Даже позабыл заплатить за вино. Дело не в деньгах. А вот каково все это мне – я ведь в партии с самого начала. Да еще так было: Жильбер, до того как он заболел, вызвал меня в секцию. «Вот что, – говорит, – товарищ Верди. В связи с этим возникает вопрос… Не знаю еще, как его надо разрешить, но вопрос возникает». Тут он, по-моему переборщил. Во-первых, прислал официальный вызов. Как будто не мог он попросту зайти сюда и спокойно, по-товарищески поговорить… Зачем ему понадобилось припереть меня к стенке? Ну ладно, я все понимаю. Я понимаю товарищей. Но что же мне делать?
Вопрос этот – скорее горестное восклицание, но все же Верди ждет ответа. Анри молчит, и тогда Верди сухо добавляет:
– Продам свою лавочку!
Анри встрепенулся, как будто протестуя, и тут же спохватывается, но слишком поздно – Верди немедленно спрашивает:
– Что?.. Ты думаешь, можно и не продавать?
Анри пожимает плечами и, желая поправить свою ошибку, говорит:
– Трудно тут советовать, Ренэ. Это твое личное дело.
Самая настоящая увертка. Анри в душе сознается в этом и, стараясь извинить себя, думает: «Я устал, замерз, час поздний…» Видно, что он смущен. Верди впился в него взглядом и ждет. Так на суде ждут приговора.
Как Анри ни стыдно, но в этом случае ему, пожалуй, еще труднее, чем с железнодорожниками. Право, он совсем уж не знает, как Ренэ следует поступить. А раз не знаешь, то и советовать не смеешь.
– Ты сам должен решить, Ренэ, – добавляет он, чтобы сгладить неловкость.
Но Анри знает, что весь вечер его будет мучить совесть и он будет корить себя: вот ты и не сумел ответить человеку, слишком мало знаешь и не можешь разрешить все сомнения людей. И снова голова пойдет кругом, сердце защемит. Какую же он несет ответственность перед тысячами людей, если перед одним человеком она уже так велика!
* * *
Анри выходит от Артюра, неся утку и картошку. На заснеженной улице холодно, ни души. Отворила ему дверь жена Артюра, как она и обещала. Констанс вышла в ночной рубашке, не смущаясь, и только сказала: «Не обращай внимания…» Впрочем, рубашка на ней была такая, что не могла вызвать никаких игривых мыслей – с воротом, с рукавами. А на ногах у Констанс были коричневые шерстяные чулки, и коричневые ступни забавно выглядывали из-под белой рубашки. Неужели она спит в чулках? Вот мерзлячка! Она ведь и постель согревает накаленным кирпичом. Картошка была насыпана в сумку, а сумка лежала на круглом столе в столовой, где все сверкало чистотой, все было так аккуратно расставлено и прибрано, словно в музее. В буфете выстроены в ряд рюмки, вазочки, на стенах – фотографии под стеклом, и к ним еще добавлены фотографии, засунутые за стекло или сбоку, за рамку. На подставке – чучело большого фазана, рядом – швейная машина в натертом до блеска футляре, как будто приготовлена для выставки… Всё так старательно расставлено по своим местам что и сомнений быть не может: в этой столовой едят, дай бог, один раз в год…
– Неудобно будет нести. Но у меня осталось только две сумки. Хорошую сумку дать под картошку жалко. А у этой только одна ручка. Придется тебе поддерживать снизу…
Несмотря на то, что Констанс такая мерзлячка, она все же проводила Анри по коридору. Правда, ей все равно надо было запереть за ним дверь.
– Вот уж сразу видно – не привыкли мужчины ходить за покупками. Как ты сумку-то держишь!.. Да ты доедешь ли с ней на велосипеде?
Действительно, задача оказалась трудной. И хотя Анри ответил Констанс: «Не беспокойтесь», он не знал, как с этой задачей справиться. Да еще при таком глубоком снеге. Пожалуй, проехать можно только по самой кромке шоссе, по желобку, образовавшемуся у замерзшей канавы. Однако лед потрескивает под колесами велосипеда, да и нелегко ехать по этому скользкому желобку, держа подмышкой тяжелую сумку, которая все норовит выскользнуть… Анри останавливается – надо получше пристроить свой груз. Если так будет продолжаться, то и за час не доедешь. Полетта, чего доброго, уж легла, не стала дожидаться. Ах чорт, ах чорт! Анри стоит на пустынной улице и громко чертыхается. А кругом в домах люди; если они слышат, то, наверно, принимают его за пьяного. Может, некоторые подошли к окнам и смотрят в щелку закрытых ставен на пьяного гражданина; надрызгался, а теперь стоит по щиколотку в снегу и ругательски ругает свой велосипед и сумку. А этот гражданин еще полчаса тому назад проводил собрания, нес тогда на своих плечах огромную тяжесть. Вот почему сейчас, когда весь город спит, он еще торчит на улице и в полном одиночестве бьется со своей поклажей, как муравей, который тащит в густой траве соломинку. Смотришь на муравья и думаешь: зачем это ему нужно? Какой нелепой кажется его работа, если на нее глядеть сверху, так же как люди глядят на Анри в щелку ставен со второго или третьего этажа – дома здесь редко бывают выше… Но муравей, надо полагать, знает, что он делает. Впрочем, это не мешает ему поносить свою соломинку и травинки и посылать их ко всем чертям. У муравья был фронтовой товарищ, родом из Валансьена, который всегда говорил: «Ну, разгрохотался!» Анри готов и сейчас «разгрохотаться». Все лежат в постелях и спят сладким сном. И он тоже мог бы нежиться в теплой постели, если бы не валял дурака, не старался бы для других. А им на все наплевать! Поди, глядят на него из-за занавесок да еще насмехаются! Анри дал велосипеду пинка, чтобы образумить его, и сразу же успокоился. Уму и сердцу тоже нужно, как телу, облегчить себя. Иной раз человеку просто необходимо выругаться. Сердце не камень. Вот и все. Через секунду Анри уже упрекает себя за эту вспышку: «Глупый ты! Гордиться надо, что отдаешь все свои силы другим – даже тем, кто и не подозревает об этом, даже тем, кто платит тебе злом». Вокруг темнота, безлюдье и холодище, а Анри, как это ни смешно – всем это должно быть знакомо, – говорит себе вслух: «А в общем ты, Анри, неплохой парень! Да и утку завтра ребятишки и Полетта будут есть с удовольствием. Так что нечего тебе злиться, сделай-ка маленькое усилие!..» Даже хочется сказать велосипеду: «Давай помиримся. Поехали, дружище. Скоро доберемся, ты не волнуйся!..»
Ехать становится легче, но не успевает Анри проделать и двадцати метров, как в глаза ему бьет ослепительный свет автомобильных фар. Машина останавливается перед самым его носом, начинает вовсю сигналить, и мужчина, сидящий за рулем, кричит: «Господин Леруа! Господин Леруа!» Анри уже ловко обогнул машину, собираясь продолжать свой путь, но его останавливает знакомый голос:
– Господин Леруа!
Анри слезает с велосипеда и подходит. В автомобиле сидит доктор Деган.
– Очень рад, что вас встретил, – говорит доктор. – Мне надо с вами побеседовать.
Анри тоже считает, что доктор встретился очень кстати: у сынишки все еще болит рука.
– Так поздно? – спрашивает он.
– «Смелый мрака не боится!»
И Анри больше угадывает, чем видит, знакомую добродушную улыбку доктора. Из приоткрытой дверцы потянуло теплом и приятным запахом трубочного табака, и это так подходит ко всему облику доктора Дегана, самого жизнерадостного человека на свете.
– Я еду домой, – отвечает Анри, невольно улыбаясь. – Если только мне удастся доехать! Снегу-то сколько навалило! Прямо как на северном полюсе. А тут еще тащись с багажом! – и Анри показывает сумку. – Да и мороз какой…
– Поедем вместе. Хотите? – спрашивает доктор. – Дайте-ка сюда вашу сумку… Влезайте. Садитесь рядом со мной, а велосипед будете держать через дверцу.
– Да он поцарапает машину…
– Держите осторожно… Прижмите колесо к крылу… Мы поедем не спеша.
Был еще один выход: снова разбудить Констанс и оставить у нее велосипед до утра, но завтра изволь-ка идти за ним пешком, да и Констанс теперь, пожалуй, «разгрохочется»…
В машине уютно, приятно пахнет новой кожей, хорошим табаком, бензином… приветливо светится циферблат, ласковое мурлыканье мотора слегка заглушает голоса. Здесь неплохо вести беседу. Мешает только высунутая на мороз рука, которая держит велосипед, – как будто она отрезана от тела и велосипед держится сам по себе… Досадно, что придется сделать крюк: на канале сооружают шлюз (за этим тоже что-то кроется) и теперь заставляют машины ехать в объезд – вдоль берега, в сторону авиазавода. Тут раскинулся разрушенный поселок; между развалинами тянется узкая улица без тротуаров, похожая на проселочную дорогу. Немцы залили ее цементом прямо по траве, оставив все ямы и кочки. В такой поздний час мало кто ездит в сторону водокачки и бывшей школы. Снег лежит здесь нетронутой белой пеленой, и дороги не видно. Не проехали и ста метров – и уже оказались в открытом поле. Машина шла наугад, как слепая. Очень скоро потеряли дорогу, и колесо попало в рытвину.
– Может быть, вам лучше прямо домой поехать? – предлагает Анри. – Мы обсудим… словом, побеседуем в другой раз.
Но он еще не знает доктора! Другого такого упрямца, как Деган, трудно встретить. Он готов бороться с любым препятствием, любым затруднением, ради одного только удовольствия побороться, даже если это и не нужно, словно отвечает на какой-то вызов. Поэтому он и питает пристрастие к тяжелой атлетике. Недюжинная его физическая сила ищет выхода. Для него истинное наслаждение, сжав зубы, своротить с места или поднять какую-нибудь тяжесть… Конечно, сейчас куда благоразумнее было бы повернуть назад, чем ехать дальше по голому полю, где все сбивает с толку – и белый снег, и ночная тьма, а ориентирами служат только огни аэронавигационных антенн на испытательной станции, оставшиеся позади, спокойный гул океана – слева, огни мола – впереди, а за округлой линией берега – большой вращающийся маяк, который нисколько не помогает и даже путает; только тебе покажется: вот нашел верное направление, как вдруг блеснет луч маяка – и пропала иллюзия.
– Был бы у нас фонарь, – сказал Деган, – мы бы нашли дорогу. А фары светят только вперед – видите? – куда-то в пространство.
– Можно моей динамкой воспользоваться, – ответил Анри. – Он чуть было не разозлился на упрямого Дегана, да подумал, что одному ехать было бы еще хуже.
– Правильно! – воскликнул доктор.
Анри ставит велосипед на дыбы, крутит рукой переднее колесо и пробует при помощи своего фонарика найти дорогу. «Вот бы кто посмотрел на нас! – думает он. – Сказали бы: «Тоже! Нашлись умники!» При каком-нибудь товарище он и высказал бы эти мысли вслух, но доктор-то, пожалуй, обидится.
Дорога найдена. Задний ход, поворот в сторону – и машина медленно двинулась дальше.
– Теперь надо держаться начеку, – говорит Деган. – А то опять потеряем эту чортову дорогу!
Это было сказано с таким азартом, что Анри удивленно взглянул на своего спутника при свете скользнувшего луча далекого маяка. Ясно: у солидного доктора Дегана сохранилась детская страсть к приключениям, к отважным подвигам. Сейчас она проснулась в нелепом и бесцельном приключении, но могла бы найти лучшее применение…
Пришлось еще три раза останавливаться и вертеть колесо велосипеда: один раз искали дорогу и дважды проверяли, не сбились ли опять.
Ну и доктор Деган!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Визит доктора
Когда показалось, наконец, здание школы, и машина поехала вдоль колючей проволоки, окружавшей склад, Анри с удивлением обнаружил, что в его окнах нет света, зато уже издали были видны ярко освещенные окна пивной «Промочи глотку». Значит, собрание до сих пор еще не кончилось.
– Ручаюсь, что жена все еще там, – сказал Анри.
Доктор в свою очередь удивленно посмотрел на него.
– Да не в пивной, а на собрании! – пояснил Анри, поняв изумленный взгляд Дегана. – Только и всего.
– То-то. А я уж удивился! Зайдемте, посмотрим?
Собрание кончилось час тому назад, но затем последовало неофициальное его продолжение – оживленное обсуждение вопросов. Пора было, кажется, и разойтись по домам, но почти никто не ушел. Одни столпились у стойки, другие сели за столики, заказали по стакану вина, а многие и ничего не заказали, и все начали высказывать свое мнение. Сперва беседовали кучками в два-три человека, потом голоса зазвучали громче и разговор стал общим. То и дело окликали друг друга:
– Послушай, Гиттон, ты что об этом думаешь?… А вы, господин Турнэ?
Больше всего говорили члены президиума – Полетта и все остальные, но главным образом Полетта. Ее окружили женщины, взволнованные гораздо больше мужчин.
Анри с искренним любопытством наблюдал в окно за женой.
– Войдем же, – говорил доктор.
– Подождите! Сейчас, сейчас! – отвечал Анри.
Ему хотелось посмотреть на свою Полетту, пока она его не видит. «Интересно, как она говорит и действует, когда меня нет рядом. Вот молодец!» Все были так увлечены беседой, что не слышали рокота мотора, когда подъехал автомобиль. Полетта говорит и говорит. Слов ее за окном не слышно, но по лицам женщин, обращенным к ней, видно, что она говорит что-то хорошее, правильное. «Ну и Полетта… Молодец, моя Полетта! И какая красавица моя Полетта. Ей богу красавица! Ишь как оживилась, говорит горячо и все подчеркивает свои слова жестами». Жесты еще заметнее от того, что ее голоса почти не слышно. Анри с изумлением следил за движениями ее рук, удивительно белых при ярком освещении: руки Полетты танцуют – то расходятся в разные стороны, то снова сходятся, и пальцы то разжимаются, то сжимаются, то выделывают какие-то причудливые фигуры…
Но все изменилось, как только в дверь вошли Анри и доктор. Внимание собеседников сразу обратилось на них.
– Мне кажется, мы неплохо поработали. Вы согласны? – сказал Гиттон, обращаясь при первой фразе к Анри, а при второй ко всем присутствующим. И все с ним согласились.
Особенно рад был приходу доктора Турнэ. Правда, разговорами он был увлечен не меньше других, и ему совершенно не хотелось уходить, но все же, что там ни говори, а чувствуешь себя как-то неловко: кругом – рабочие, а ты ведь не из их среды. Крестьяне – другое дело. Во всяком случае он был тут единственным торговцем, и время от времени его охватывало сомнение: подобает ли ему здесь находиться. Появление Дегана, да еще в обществе коммуниста Леруа, с которым доктор, по-видимому, был в дружеских отношениях, успокоило Турнэ. Он подошел поздороваться с Деганом.
– Турнэ? Как! И вы здесь? – воскликнул доктор с некоторым удивлением. – Угостите-ка всех.
Турнэ оглядел присутствующих – угостить он не прочь, да уже слишком много собралось народу. Правда, денег у него с собой достаточно, но потом жена прицепится.
– Коммерция хромает, – отвечает он, как бы извиняясь. – Требуется ей медицинская помощь.
Все смеются.
– Выходит, только у вас хороши дела? – спрашивает доктор у хозяйки кабачка, стоявшей за старой, облезлой стойкой. Пожилая кабатчица, похожая на крестьянку, мгновенно заливается краской, а большой прыщ на кончике ее носа багровеет.
– Где уж там хороши! Это вам только кажется, – отвечает она, задетая за живое. – Я и не прошу никого заказывать. Люди на собрание пришли, а не для выпивки. Но раньше женщины все-таки разрешили бы себе по рюмочке кюммеля, ведь они у меня редкие гости. А теперь ни у кого нет денег.
– Не сердитесь, – говорит Деган. – Для здоровья вредно.
– Я не сержусь, а только нечего выдумывать.
– Да ведь в городе появились новые клиенты.
– Сюда они не лезут. Побаиваются, – отвечает Папильон. – Это «наш дом».
– Что правда, то правда, – говорит хозяйка, польщенная тем, что ее заведение назвали «наш дом». – В самом деле, когда есть работа, оно превращается в настоящий штаб докеров.
Анри заметил, что при его появлении Полетта сразу умолкла. Она подошла, радуясь встрече с ним, и взяла его под руку.
– Хорошо сошло? – спросил он шепотом.
– Как будто, – ответила она, нежно прижавшись к его руке и глядя на него блестящими, немного влажными глазами.
Больше Полетта ничего не добавила, словно и не она так бойко говорила сейчас перед всеми; в присутствии Анри она вдруг утратила красноречие. Она словно пряталась под крылышко мужа, и, наверно, многие это заметили. Все в ней говорило о любви, о доверии, и она как будто уступала ему добровольно первое место, гордясь своим мужем.
– Ты что же вдруг умолкла? – спрашивает Анри.
– Она все сказала, что надо, – бросает толстуха Мартина, жена десятника.
– Это ты, Анри, на нее навел страх. Разве не видишь? – крикнула со смехом Фернанда, жена Папильона. – Ты на вид тихоня, а дома, поди, командуешь. Да и мой муженек, не гляди, что ростом не вышел, а тоже тиранствует, хозяина из себя строит.
Папильон принужденно смеется и бормочет, что все это вранье, за исключением его маленького роста.
– Это ты ее научил так хорошо говорить? – продолжает Мартина. – Погоди, она скоро тебя обгонит… Ты ее во всех вопросах так просвещаешь?.. Скажу своему Альфонсу – вот с кого пример бери…
Стоит Мартине открыть рот, как все уже смеются. Вот бойкая баба, за словом в карман не полезет, и в выражениях не стесняется, что вполне соответствует ее внешности. Плечи у нее мощные, грудь горой, и когда Мартина проталкивается вперед и, собираясь заговорить, выпрямится во весь рост, шумно вздохнет (она больна астмой) и широко раскроет круглые глаза, все уже заранее прыскают со смеху.
– Верно я говорю, доктор?
Что ей стесняться с доктором Деганом – он принимал у нее всех восьмерых детей… Нет, семерых. Первого-то не он принимал.
– Ну и отпустила! – говорит Полетта, чтобы скрыть смущение, и, покраснев до корней волос, еще крепче прижимается к Анри.
А Мартина уже нырнула в толпу женщин и рассказывает, что первого ребенка принимала у нее старуха Гертруда, повивальная бабка. Как ни говори, повитуха не то, что доктор… Словом, Мартина рекламирует доктора Дегана. «Тем более, что он на нашей стороне… А в болезнях, Франсина, много значит, когда ты лекарю доверяешь, поверь мне…»
– Вот бы посоветоваться с ним насчет Жака, – говорит Франсина. – Рука-то у него все не заживает.
– Ну, конечно, я его осмотрю, – отвечает доктор Франсине, когда она по настоянию Мартины решилась к нему обратиться. – Пусть приходит в любой день, утром; он может прийти?
– Да, да.
Деган и впрямь как будто хороший человек… Но вполне ли понятно этому хорошему человеку, какую важную роль он играет в тяжкой жизни докеров? В силу привычки он говорит о болезнях, страданиях, о самых душераздирающих бедствиях рабочих людей, как о чем-то обычном, даже, можно сказать, безразлично-небрежным тоном.
– Пожалуй, сегодня уж не придется нам побеседовать. Время позднее, – обращается Деган к Анри, выходя вместе со всеми из пивной. – И я обещал жене… Хотя она…
– …Верно, привыкла, – заканчивает его мысль Полетта. И, повернувшись к Анри, добавляет: – Я всегда говорила тебе, что в этом отношении ты похож на врачей.
– Когда к больному зовут, как же с временем считаться, – замечает Деган.
– Да, кстати, – говорит Полетта, – почему ваша жена не вступает в комитет? Она могла бы нам помочь.
– Хотите, я замолвлю словечко? Но ее по-настоящему увлекает только то, что она сама выберет, без моей подсказки. Такой уж у нее характер. Лучше поговорите с нею сами. Она загорится сразу, а потом придет поделиться со мной! Я ее знаю. В таких случаях я делаю вид, будто мое дело сторона, и ей кажется, что она одержала победу надо мной…
Анри и Полетта от всей души смеются. Они идут, держась за руки, а велосипед Анри ведет справа от себя.
– Иветта очень независимая женщина, – продолжает Деган. Чувствуется, что он гордится женой.
Они доходят до здания школы. Но у дверей доктор говорит:
– Может быть, не стоит заходить? Уже поздно. Да и машина там брошена…
– Сынишка… – тихо шепчет Полетта на ухо Анри.
– Да, да, – отвечает Анри и говорит Дегану – Все-таки, если вам не трудно, зайдите к нам, пожалуйста. У малыша до сих пор не прошел ожог. Мы немножко беспокоимся.
– Ну что ж, зайду, поглядим, – сразу соглашается доктор, как будто обрадовавшись предлогу.
Полетта зашла за ключами к Жоржетте. Та еще не ложилась и сказала ей:
– Твои малыши спят без пробуду. Я три раза заходила. На каком бочку заснули, так и лежат. Не то что мои, особенно младший. Такой беспокойный ребенок…
Входит Люсьен, муж Жоржетты, вместе с Гиттоном.
– Как бы они не застряли в поле среди ночи. В телеге-то плохо ехать по снегу, – говорит Гиттон.
Речь идет о крестьянах, приезжавших на собрание. И тут Полетта вспомнила о пакетике, который Гиттон сунул ей на обратном пути в карман. Она опустила туда руку, потрогала: что-то холодное и влажное. Похоже, что это кусок масла. Наверно, Гиттон по дороге со многими поделился: когда он выходил из кабачка, у него карманы куда больше оттопыривались.
– Не хочется его будить. Но перевязка мне не нравится, – говорит доктор и осторожно приподняв ручку ребенка, кладет ее себе на ладонь.
– Он вечно пачкается, когда играет, – смущенно оправдывается Полетта. – А внутри чисто, я каждый день меняю, посмотрите сами! Сверху надо широким бинтом завязывать, а этот, конечно, не очень подходит, но у меня другого нет.
Доктор опустился на одно колено у кровати, перед которой постлана была шерстяная тряпка – кусок старого джемпера, служивший ковриком, чтобы по утрам детишки не ступали босиком на каменный пол.
– Не обращайте внимания, – извиняется Полетта. – Мы этим старым пальто покрываем детей поверх одеяла, зимой ведь холодно.
Стоя позади доктора, Анри тихонько прикасается к руке Полетты. Он знает, что испытывает жена, когда к ним приходят посторонние, особенно в спальню, – у них так бедно!
– Да вы не стесняйтесь меня, – шепотом говорит Деган. – И помолчите! Я попробую осмотреть ему ручонку осторожно. Авось, не разбудим малыша.
Полетта и Анри, тревожно переглянувшись, стали смотреть через плечо доктора, как он снимает бинт со свисающей ручки ребенка. Мальчик не пошевельнулся. Он крепко спал, повернувшись лицом к сестренке, а та лежала в весьма живописной позе: одна рука закинута над головой, как у танцовщицы, другая прижата к сердцу. Ротик приоткрыт, и на губах играет улыбка – словно маленькая Спящая красавица видит в волшебном сне прекрасного принца и чарует его в веселой беседе. Только дети могут спать так крепко… Полетта и Анри стоят, затаив дыхание, боясь помешать доктору. У обоих слегка щемит сердце – вот сейчас спадет бинт, и они увидят большой красный и желтый ожог на детской беспомощной ручонке…
– Ничего страшного! – прошептал доктор, сняв бинт и поворачивая руку мальчика к свету, падавшему из кухонной двери. – Пока, пожалуй, я завяжу этой же тряпкой.
И оторвав грязный конец бинта, он ловкими движениями накладывает повязку. Когда он кончил и засунул маленькую ручку под одеяло, Полетта и Анри встали одновременно с ним и одновременно с ним глубоко вздохнули, словно им всем троим удалось сделать что-то очень трудное.
Все возвращаются на кухню, и Полетта тихо прикрывает дверь в комнату.
– Мне хотелось побеседовать с вами о движении за мир, – говорит доктор, обращаясь к Анри. – Но сейчас уже поздно. Вы не могли бы зайти ко мне завтра, во второй половине дня? Я сделаю мальчику перевязку и дам вам с собой два-три бинта и все, что нужно. А если и вы тоже придете, – говорит он Полетте, – вот вам и случай переговорить с моей женой. Приходите!
– Завтра никак не сможем, – отвечает Анри. – Днем у нас устраивается елка для детей, а потом они пойдут в школу на елку.
– Да, я и забыл! Мы тоже что-то дали для елки. И Пьеро собирался подарить кое-какие свои игрушки. Тогда приходите в воскресенье утром… С рукой у вашего сынишки ничего страшного, можно подождать денек.
Полетта и Анри не отвечают ни да, ни нет. Их несколько пугает это приглашение. Полетта очень застенчива с чужими. Правда, в словах доктора нет и тени высокомерия. Не в этом дело. Дегана, конечно, несколько поразила бедность обстановки – и в спальне и на кухне голые стены, большое окно ничем не занавешено, и в него глядит черная ночь. А все-таки доктор почувствовал, как почувствовал позавчера и Андреани, что Полетта и Анри – люди одного с ним уровня. И для этого у Дегана еще больше причин, чем у Андреани. В его глазах этот докер и его жена – не только Анри и Полетта, за ними он чувствует коммунистическую партию, что-то очень большое и значительное. Они, конечно, не станут ни с кем разговаривать заискивающим тоном… Да и доктору Дегану совсем не свойственно мнить себя выше рабочих.
Но все же Полетте совсем не улыбается мысль о визите, который они должны нанести доктору всей семьей. Ей совсем не хочется идти в красивый особнячок на бульваре Жан-Барта, где она уже была один раз на врачебном приеме. Анри тоже не хочется идти. И все же, когда Деган, прощаясь, сказал: «Значит, будем ждать вас в воскресенье», они смущенно отвечают:
– Спасибо, придем.
– Хоть бы он послушался меня, – говорит Анри и машет в окно доктору. – Ехал бы лучше по шоссе. Путь в три раза длиннее, но зато уж не попадешь в какую-нибудь яму. Дороги-то ведь не видно, не заметишь следы колес, которые мы оставили, когда ехали сюда…
– Мы пойдем к ним?
– Теперь уж неудобно не пойти.
– В гости? Неприятно…
– А может, нам только так кажется… Посмотрим. – Анри садится за стол и со вздохом говорит: – Ну и денек! Теперь скажи, на самом деле все хорошо сошло?
– По-моему, да.
– Значит вдвоем с тобой мы сегодня провели три собрания. Хорошо, если бы все так делали.
– Да, теперь собрания играют большую роль в жизни. Никогда еще так не было… – И Полетта вспоминает об Армане Виньероне, о том, что ему принесло собрание его комитета и собрание комитета защиты.
– Пожалуй, мы даже не всегда сознаем, какое большое значение имеют теперь для людей собрания, – говорит она. – Мы иногда организуем собрания как-то механически. А ведь когда столько важных дел, важных событий, люди сами тянутся друг к другу, им хочется поговорить между собой, у них появляется чувство товарищества. Ты как думаешь?
– Согласен. А представь себе, некоторые смотрят на собрания, как на какую-то формальность, не связанную с насущными нуждами – для них это все равно, что пойти в кино или на рэгби.
Полетта права, жизнь стала такой тревожной, все бурлит, и собрания возникают как-то сами собой, как пузыри в поднимающемся тесте. Собрания стали средоточием напряженной жизни.
– Стоит только вдуматься, что́ иногда кроется за какой-нибудь самой обыкновенной фразой человека, выступающего на собрании… – говорит Анри и вдруг, без всякого перехода, добавляет: – Перекусим все-таки перед сном.
И тут же, услышав шум отъезжающей машины Дегана, он вспоминает, что забыл на заднем сидении сумку. А в ней утка! Вот тебе и зажарили на праздник! Но он не успел выругаться, так как Полетта сказала:
– У меня ничего нет, кроме хлеба и кофе. Подожди, еще есть масло!








