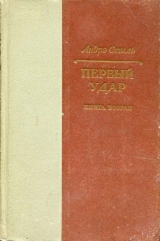
Текст книги "Первый удар. Книга 2. Конец одной пушки"
Автор книги: Андрэ Стиль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
На таком собрании нечего затягивать прения. Выступили Турнэ, Арман и один крестьянин. Потом спросили, скорее для проформы, не хочет ли кто-нибудь еще взять слово, и перешли к «Воззванию к населению», которое нужно было поставить на голосование. Гиттон передал Полетте проект воззвания, составленный им вместе с Анри: она должна была его зачитать и разъяснить – главным образом, женщинам: на собрании они составляли подавляющее большинство. Но в этот момент поднял руку школьный учитель Роже Ланглуа, молодой коммунист, который приехал сюда только в октябре. Что же он хочет сказать? Хороший товарищ, но есть у него один недостаток – многословие. Начнет говорить – конца не будет. Это ужасно! Ланглуа заявил, что не попросил бы слова, если бы сегодня в школе не произошло событие, имеющее отношение ко всем. Надо, чтобы все о нем узнали…
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТОЕ
Чернильное пятно
Ребята еще не привыкли к новому учителю: Роже назначили в эту школу (первую его школу) около трех месяцев назад. Большинство учеников при нем робеет. Но сейчас двое мальчишек ссорятся из-за чернильниц. У одного чернильница новая, фаянсовая, у другого – медная, вся помятая, в зеленых пятнах и в синих высохших потеках чернил. И все-таки эти забияки нравятся молодому учителю. Владелец фаянсовой чернильницы прикрыл ее ладонью, сосед ухватил край суконной тряпочки, на которой стоит чернильница, и тянет к себе, поглядывая искоса на Роже; а вихры у него взъерошены, как трава под ветром. Роже как будто ничего не видит, но понимает, что сейчас произойдет. Первый мальчишка отдергивает руку, чернильница опрокидывается на парту вверх дном и торчит, как клоунский колпак. Все смеются. Шалуны встают и в два голоса оправдываются, сваливают вину друг на друга. У владельца медной чернильницы колено залито чернилами и на рубашке большое пятно.
– Очень остроумно!
И тут же Роже смущенно думает: может, не так надо было сказать, чтобы завоевать симпатии ребят и одновременно упрекнуть их? Но, по-видимому, он попал в цель – у обоих преступников что-то не видно угрюмого испуга в глазах, оба беззлобно смеются вместе со всем классом. Роже, пожалуй, боится больше их; опять директор начнет его пилить, придравшись к большому чернильному пятну на желтой парте, недавно покрашенной и отлакированной. Обязательно скажет: «Господин Ланглуа, дисциплина у вас хромает». Дело, конечно, не в этом, а в напряженной политической атмосфере, которая царит в школе с тех пор, как два класса реквизированы для американских детей. Произошло это в ноябре. В начале учебного года Роже приглядывался к своим сослуживцам, а те, в свою очередь, включая и директора, присматривались к нему. Они держались твердо установившегося правила – никогда не говорить между собой о политике – и все-таки, случалось, говорили о ней, сами того не замечая. Директор был поклонником Андрэ Жида, которого почему-то всегда называл Жидэ. Произносил он это имя запинаясь, словно давился, и при этом его лохматые седые брови лезли на лоб. Он восхвалял красоты произведений господина Жидэ «своему персоналу» (как он называл Роже и остальных учителей), прохаживаясь с ними во дворе на переменах. Заложив руки за спину, он важно шагал по дорожке и, дойдя до забора, круто поворачивал, восклицая: «Гоп!»
С тех пор как реквизировали два класса, все переменилось.
В школе и так уж было тесно, а тут пришлось всех ребят втиснуть в оставшиеся пять классов. Теперь стало понятно, почему перед началом учебного года уволили двух учителей. Директору и Тирмону пришлось одновременно вести по два класса: пока кто-нибудь из старших учеников следит за одним классом, учитель занимается с другим.
Волей-неволей учителя обсуждали все это. Очень скоро и в школе и в городе поняли, какой возмутительный характер носила эта реквизиция. Сперва из мэрии прислали грузовик, и из обоих классов вывезли все имущество, даже классные доски, лампы и абажуры. Затем появился отряд циклевщиков – скоблили полы, закапанные чернилами… Потом пришли полотеры. Школьные полы никогда не видали такой заботы. После всего этого грузовик мэрии привез совершенно новую мебель, маленькие парты – за каждой полагалось сидеть только одному ученику: привезли и классные доски по-настоящему черные, не то что прежние… Но больше всего потрясли педагогов и учеников лампы дневного света и четыре печки – по две на каждый класс: для американских детей необходимо было поддерживать температуру в 24 градуса. Так заявила молоденькая американская учительница, ежедневно приходившая проверять, как идут работы. Сказала она это директору, конечно, по-английски, так как не знала ни слова по-французски.
Нищенское оборудование остальных классов теперь еще больше бросалось в глаза и учителям и школьникам; ребятишки рассказывали обо всем дома. В этом ухаживании за американцами было что-то унизительное. Холод в классах, тусклые лампочки, грязные стены, шкафы, столы и парты пятидесятилетней давности – все стало еще заметнее и оскорбляло. И учителя, и дети, и родители испытывали на себе презрение оккупантов. И сколько ни старался директор, разговоров об этом нельзя было избежать. Горький смех вызывала одна подробность: муниципальный совет большинством голосов установил символическую, воистину символическую, арендную плату за реквизированные классы – один доллар. Роже считал своим долгом говорить об этом с коллегами, невзирая на запрещение директора и на кары, грозившие за эти разговоры. Недовольных смутьянов могли без всякого утверждения высшего начальства снять с работы или заслать в глухую деревушку, отрезанную от железной дороги. Согласно порядкам, унаследованным от вишийского «правительства», ни один новый учитель фактически не зачисляется в штат – он именуется «исполняющим обязанности» или «запасным». Роже мечтал, что, работая в школе, он подготовится к экзаменам на степень лиценциата. А попробуйте это сделать, оставшись без места! Вернемся к директору. Жалованье он получал немногим больше учителей, но считал себя представителем власти, пыжился и важничал, хотя на самом деле был просто смешон. Учителя понимали это, но все они, за исключением Роже да еще другого молодого педагога Пика, отличавшегося духом независимости, предпочитали вести себя с начальством «дипломатически», как они говорили.
Роже знал, что директор ищет предлога избавиться от него. Не зря он говорил о слабой дисциплине в классе господина Ланглуа. Вот почему, пока ребята вытирали чернила, Роже со строгим выражением лица стоял около них, как будто присматривая за работой, а на самом деле заслонял собой парту от застекленной двери, чтобы директор, проходя по коридору, не увидел катастрофы. Словом, Роже стал сообщником своих учеников.
Когда в школу прибыли двадцать маленьких американцев – одетые с иголочки дети офицеров, – это вызвало новую волну возмущения. С ними появилась еще одна учительница, тоже молодая и в таком же черном платье, как и первая… Пик пошутил: «Обе американки недурны, невредно бы за ними приударить», – но вскоре охладел. Директор заговорил было о встрече, которую им нужно устроить. Роже промолчал, решив в душе, что если эту встречу организуют, он откажется в ней участвовать. Тирмон, преподаватель второго класса, который лет пятнадцать работал в этой школе – дольше даже, чем директор, – сказал:
– Знаете что, господин Шевро, я не возражаю, но в семьях учеников и так уж много разговоров. Зачем отступать от обычных наших порядков? Приведите новых учительниц к нам в классы и познакомьте с нами.
Возможно, что Тирмон сказал это с какой-то тайной мыслью, а может быть, просто считал необходимым блюсти школьные традиции, превратившиеся со временем чуть ли не в обряды: всем известно, что он педантично выполняет их все двадцать пять лет своей педагогической деятельности, и так же делает и его жена, которая учительствует почти столько же времени в соседней школе для девочек. Однако американки наотрез отказались прийти. Подумайте, какое нелепое предложение! Прийти в классы, да еще в такие грязные классы, и вас представят учителям и детям! Учительницы весьма резко отозвались о французской галантности. Обе держались высокомерно со своими коллегами и даже с директором. Утром, в обеденный перерыв и после занятий к воротам школы подъезжала целая колонна «джипов», длинных «крайолеров» и бесшумных «сото» – детей и учительниц привозили и увозили на автомобилях. Можно представить себе, как на это глазели ребята, ведь все мальчишки – любители машин, и трудно было их удержать на месте; то один, то другой украдкой приподнимался, вытягивал шею – взглянуть в окошко!..
Ребята возбуждены, особенно теперь, после крупного инцидента, который произошел на днях… Сначала американские и французские школьники приходили одновременно и перемены у них были общие. Дети остаются детьми, и у них шли споры, более ожесточенные, чем среди учителей. Образовалось два лагеря. Одним хотелось познакомиться с новичками, другие не желали и близко подходить к ним. Вероятно, победил бы первый лагерь, но американские учительницы сперва потребовали, чтобы им выделили часть двора, – их питомцы должны быть изолированы от французов; потом, чтобы еще больше разделить детей, они изменили расписание, и на переменах двор находился в их полном распоряжении. Тогда одержал верх второй лагерь. На уроках ученики шушукались, как будто что-то замышляли. И однажды, после окончания занятий, гроза разразилась. С чего все началось – неизвестно. Видели только, как сынишка Гиттона, один из лучших учеников старшего класса, набросился на американца, кстати сказать, более рослого, чем он, и свалил его. Впоследствии он заявил: «А чего они лупят на нас глаза! И всегда они так пялятся. Утром – пялятся. Когда выходим из школы – пялятся!» Американец, конечно, дал сдачи, а пока их разнимали, еще десять мальчишек вцепились друг в друга. Настоящая свалка! Все это происходило во дворе, перед воротами, на глазах у матерей, которые пришли за детьми, и на глазах у американских солдат-шоферов. Директор раздавал направо и налево подзатыльники своим ученикам; американки тоже от него не отставали, но колотили, конечно, не своих учеников. Матери растерялись, особенно когда увидели, что американские солдаты выскочили из машин и тоже собираются полезть в драку. К счастью, директор на этот раз поступил правильно. Боясь осложнений, он преградил путь американским солдатам и так властно запретил им входить во двор, что те отступили. Потом он собственноручно запер ворота. Ребята были в полном неистовстве. Они смело отбивались от директора, которого обычно очень боялись, а тут Шевро внезапно потерял всякую власть над ними. Они кричали: «За что вы нас бьете? Ведь это наша школа!» Дети, не принимавшие участия в потасовке, столпились вокруг товарищей и ограждали их от директора и его помощников. Они выкрикивали то, что слышали и читали повсюду: «Американцы, убирайтесь в Америку! Убирайтесь в Америку!» Драка шла минуты две-три. Противники не нанесли друг другу никаких увечий. Но вопрос встал во всей остроте.
Скрыть происшествие было невозможно. На следующий день о нем говорили все. Многие ученики в знак протеста не пришли в школу. Директор хотел было наказать виновных, но Тирмон восстал против этого, вспылил и даже призвал своих коллег присоединиться к его протесту… Шевро опешил, увидев, что и учителя вышли из повиновения. Он попытался угрожать, но Тирмон, чувствуя поддержку коллег и зная, что его одобрят родители учеников, заявил, что несправедливо и неправильно наказывать только одну сторону. Конечно, Тирмон не посмел говорить со всей откровенностью, но вел себя куда благороднее директора – у того от страха перед начальством тряслись поджилки. На следующий день в школу прибыл инспектор. Он устроил дикий скандал, намылил голову директору и угрожал ему взысканием. Все это происходило в доме Шевро, прилегающем к школе. Перепуганный директор не знал, какому богу молиться. Он пытался свалить всю ответственность на учителей, отказавшихся наказать виновных, но инспектору совершенно не улыбалась перспектива сражаться со всеми педагогами – еще нарвешься на какую-нибудь дерзость. «Кто директор школы – вы или я?! Если бы мне пришлось разбирать беспорядки во всех школах округа, до чего бы мы дошли? Слышите? Почему вы не отвечаете, господин Шевро?..» Директор вернулся к своим подчиненным чуть не плача.
– Из-за вас я впервые в жизни получу взыскание!
– Как это из-за нас? – возмутился Роже. – Разве мы виноваты, что американцы вторглись к нам?
Он так и сказал, без всяких обиняков! До сих пор Роже ни разу не заходил столь далеко. Но атмосфера так накалилась, что учителя и глазом не моргнули. Зато Шевро бросил на него зловещий взгляд, словно нашел верный способ, как выпутаться из опасной истории, в которую влип…
Он круто повернулся и ушел в свой класс.
– Все-таки директор попал в неприятное положение, – заметил Пик.
– Много я повидал на своем веку директоров, – сказал Тирмон, пригласив сослуживцев на обычную прогулку по двору. – Несколько десятков. И многих знал очень близко. По-моему, директора делятся на две категории…
Он сказал это как-то рассеянно – вероятно, ему пришла в голову мысль, не имевшая ничего общего с происходящим.
– …Две категории. Одни – честно заслужили звание директора; они самоотверженно трудились, отдавали все свои силы детям. И, к счастью, таких огромное большинство. Они выполняют свой долг, ничего и никого не боятся. Во времена вишийского правительства случалось, что инспектора к ним придирались, но они не отступали ни на шаг. Я знал таких… И никто не решался их тронуть. Но есть другой тип директоров – их не так уж много, но все же попадаются. Подхалимы, пролазы, готовые угождать кому угодно, только бы усидеть на своем месте. Таких директоров иногда боятся их подчиненные, но сами они еще больше боятся всех и вся. Для них школа отнюдь не дело их жизни, им бы только не прогневить начальство, а кто там сидит наверху и командует – им все равно. Они всегда трясутся, зная, что их легко сместить, так как они недостойны своего места.
– Вы преувеличиваете, – заметил Пик.
– Что? Не приписывайте мне того, чего я не говорил, – как бы вскользь уронил Тирмон. Видно было, как крепко он убежден, что под него нельзя подкопаться – у него за плечами двадцать пять лет безупречной работы. И дело тут было не в наивной вере: по спокойствию, с которым он высказывался, чувствовалось – он знает это по собственному опыту.
В это время вернулся Шевро.
– Господа, – произнес он так торжественно, словно обращался к незнакомым, – во всяком случае мы должны объяснить ученикам всю нелепость таких столкновений между детьми.
Бесспорно. Хотя это легче сказать, чем сделать. Дети очень хорошо чувствуют что-то неладное в появлении американцев. Они слышат разговоры взрослых, читают надписи на стенах, они уже сами многое понимают. Попробуйте их убедить, что ничего странного не происходит, что тревога и возмущение их родителей совершенно не обоснованы, что борьба, которую ведет город, ничем не вызвана. Да и кто имеет право подавлять это пробуждающееся в детях чувство национальной гордости, хотя они и обрушились не на тех на кого следовало? По правде говоря, нужно им разъясните только одно – американские дети в этом не виноваты. Но как это сделать, не указывая на настоящих виновников?
А ведь Шевро дал предписание:
– Никакой политики в стенах школы! Я прекрасно знаю – есть люди, которые сеют ненависть даже в сердцах детей…
Это было так глупо, что Роже присвистнул. Бесспорно, даже Тирмон, Пик и Перье ни на минуту не приписывали школьные беспорядки «козням коммунистов». А Шевро именно на это и намекал. Тирмон и Шевро – социалисты, поэтому Тирмон считает своим долгом поправлять Шевро, как бы протестуя против искажения своих собственных убеждений.
– Знаете что, Шевро, нет никакой необходимости сеять ненависть. Она сама вырастает, когда детей ставят в такое положение. Все, что мы можем сделать, – это дать ей правильное направление.
Так же думал и Роже. Да и ребята многое поняли. Видимо, с ними поговорили родители. Мальчики не раскаиваются, но и не вполне уверены, что поступили хорошо… Должно быть, дома им сказали, что дети американских офицеров не виноваты в том, что их уродуют воспитанием. А что их уродуют, это всякому ясно. Понаблюдайте, как прохожие смотрят на маленьких американцев. Все они разряжены, как принцы, ни в чем, конечно, не нуждаются, их задаривают игрушками, возят на машинах, и все-таки жена бедняка-докера глядит на них с каким-то состраданием, словно и они – жертвы того чудовищного, против чего борются докеры. Да, маленьких американцев жалеют и с ненавистью, справедливой ненавистью, думают о тех, кто приобщает своих детей к гнусному делу оккупации, кто заставляет их участвовать в ней, кто готовит их с малолетства к роли колонизаторов, учит презирать людей и целые страны, целые народы, кто отдает их в школу войны. Американские дети вызывают жалость и какое-то чувство ответственности за них. Испытывают ли подобное чувство родители этих детей, обманывая их, втягивая за собою в грязь? В городском саду американские дети ведут себя, как хозяева, и их узнают с первого взгляда, не успеют они рта раскрыть. И что же! Нередко видишь, как докер, который ночью вывел на заборе огромную надпись: «Go home!», встретив такого вот нахального мальчишку, остановится и потреплет его по плечу. Этим он как бы еще раз подчеркивает свою правоту.
И в такой обстановке говорить, что в школе не должно быть политики! Да что ж обманывать себя? В действительности дети захвачены политикой. Они задают вопросы педагогам и, не получив ответа, расспрашивают родителей. Весьма поучительно для ребенка, что любой докер лучше растолкует ему сущность вещей, чем чиновники-учителя. Какое мнение составится у детей о «сеятелях просвещения»! Они далеко могут зайти в своих выводах, и, пожалуй, не всегда это приведет к хорошему.
Обязанность взвешивать каждое слово прежде, чем сказать его ребенку, в душу которого оно падает, словно зерно на вспаханную целину, и дает ростки добра или зла, наполняет Роже гордостью. Он чувствует себя полезным человеком, он рад, что избрал такую профессию. Иной раз дети вызывают в нем умиление. Это глупо? Ну, пусть глупо. В наше время так мало романтики, стоит ли заглушать в себе это чувство? Роже вспоминает, как в институте среди студенчества принято было говорить в шутливом тоне обо всем серьезном и сколько-нибудь возвышенном. И теперь он с краской стыда вспоминает прежние свои мысли и разговоры. Как он мог так думать и так говорить о женщинах, о политике, о любви, о родине, о великих писателях! А что он говорил о своей профессии педагога? Мы к ней «приговорены…» – смеялся он тогда. И ему стыдно, что до сих пор эта болезнь еще не совсем прошла: из каких-то темных уголков души вдруг вылезают остатки изжитого… Чувство гордости наполняет Роже, особенно в те минуты, когда он наблюдает, как дети, самостоятельно, без его помощи, выполняют задание, склонившись над тетрадками. В классе висят на стенах их пальтишки, шапки, – зимняя одежда, вернее все, что хоть немножко греет. Вот берет с круглой дырочкой на макушке – суконный хвостик, конечно, вырван зубами. То же самое проделывал в детстве и Роже. Давно ли это было? До сих пор еще он помнит противный вкус мокрой шерсти… Серые парусиновые «панамки» – их бы летом носить, а не в декабре; да еще такие потертые; с обтрепанными полями. Жиденькая курточка, в петлице воткнута, как значок, а Алюминиевая ложка – наверно, эта ложка, найдена на помойке; а может быть, мальчуган захватил ее из дому – пойдет после уроков пообедать к бабушке, а у нее одна-единственная ложка… Передник. Чей же это? Должно быть, Пьера – он сегодня не пришел. На переднике – три пуговицы: две белые и одна черная. Как, верно, огорчалась мать, что в доме не нашлось белой пуговицы, такой же, как остальные. Чтобы не прикупать, она решила заменить все три пуговицы черными, а пока, временно, пришила только одну. Роже видит, как она торопливо перебирает старые пуговицы, собранные в коробочке…
Завтра учеников распустят на рождественские каникулы. Профсоюз учителей и шефствующая лионская школа устроят ребятам елку. Кроме тех игрушек, которые им раздадут на елке, вероятно, никаких подарков они не получат. Все уже знают о предстоящем празднике. Елку уже привезли, она стоит в большом чулане, рядом с классом Шевро. Старшим ученикам поручили украсить ее. Ребята были так ослеплены гирляндами флажков, бус, цветными лампочками и переливчатыми стеклянными шарами, что не могли удержать язык за зубами: надо же было поделиться восторгом с товарищами. Теперь все разговоры вертятся вокруг елки, и уже сейчас в детских глазах столько радости. Елка скрашивает для них нищету.
Вес это так, но чернильное пятно нелегко уничтожить. И вот происходит то, чего опасался Роже. Открывается дверь. Ребята с грохотом встают. Потом наступает тишина. Вошел директор.
Один из мальчиков набросил на пятно тряпку, которой стирают с доски. Тряпка, вся пропитанная меловой пылью, не совсем прикрывает пятно, но директор, очевидно, ничего не замечает. У него в руке какой-то лист бумаги.
– Садитесь, дети, – говорит он и подзывает к себе Роже.








