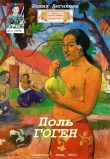Текст книги "Поль Гоген"
Автор книги: Анатолий Левандовский
Соавторы: Пьер Декс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
В те годы двадцатилетний Бернар искал собственный путь в искусстве. Заслуга его заключалась в основном в том, что любое начинание он доводил до конца, что и заставило Винсента написать Тео, что «в ассимиляции японского искусства малыш Бернар продвинулся дальше Анкетена». Суждение, отнюдь не говорящее о безоговорочном восхищении. Винсент в письмах к Бернару дает ему советы, иногда даже журит как маленького. Оправдывает ли это нашего теоретика в том, что, добившись определенного успеха, он позволил себе непростительные высказывания, записанные Виктором Мерлесом? Например, такое, опубликованное в 1905 году (правда, под псевдонимом): «Ван Гог из-за своей страсти к анархии пытался обрести несвойственный его натуре темперамент, употребляя возбуждающие средства. Его вклад в живопись отмечен полнейшим эстетическим невежеством. Его формы в основе своей карикатурны. Он жертвует оттенками цветов. Несмотря на все это, в нем чувствуется мощь, но мощь грубая и неуправляемая…» В 1919 году он пишет уже под собственным именем: «Я всегда воспринимал Ван Гога как неполноценного художника, который, несмотря на свое дарование, не способен создать ничего выдающегося…»
Вторая встреча Бернара с Гогеном была совершенно не похожа на первую. «Я отправился к Гогену, который на этот раз встретил меня сердечно», – писал Бернар. Гоген, очевидно, сразу же его раскусил: «Малыш Бернар привез из Сен-Бриака интересные вещи. Вот человек, который, не боясь, берется за что угодно». И позже Винсенту: «Изучаю малыша Бернара, которого знаю хуже, чем вы. Мне кажется, что вы многое можете для него сделать, он в этом нуждается. Вероятно, он много страдал, ему пришлось начинать жизнь в мире, полном злобы, и это привело к тому, что он видит в людях прежде всего плохое. Надеюсь, что его ум и любовь к искусству приведут к тому, что в один прекрасный день он обнаружит, что доброта – это большая сила в борьбе против себе подобных и утешение в наших собственных несчастьях. Он любит вас и уважает…» Это написано в начале сентября, когда Гоген был сильно влюблен в сестру Эмиля – Мадлен.
Бернар привез с собой (или написал по приезде) картину «Бретонки на зеленом лугу», ставшую его манифестом. Впоследствии он говорил, что изобразил на ней местный религиозный праздник, проходивший в Понт-Авене 16 сентября. Это хронологически не совпадает с пребыванием там Гогена, а значит, и с тем эффектом, который картина на него произвела по утверждению автора. Грубо скроенные силуэты, стилизованные лица, пластический строй задан контрастами белых чепцов, прорисованных длинными мазками. Высокая техничность, решительность, даже дерзость в использовании форм и средств доказывают, что Бернар и впрямь не боялся «браться за что угодно». Большое значение он придавал зелено-желтому фону, заполняющему холст от края до края. Хотя новыми здесь, скорее, являлись плоские черные пятна платьев и черные же контуры, оттенявшие снежную белизну чепцов.
Теперь Гоген отошел от своих пейзажей в импрессионистском стиле, написанных во множестве еще весной. Его «Белая река» дышит зноем лета (на обороте он написал портрет «Мадлен Бернар», поэтому с полной уверенностью эту картину можно отнести к августу); диагональная композиция этой картины, выбранная им в качестве обзорной площадки, на которой замыкается горизонт, бесспорно свидетельствует о наконец обретенной им свободе в выборе изобразительных средств и колорита. Это относится и к натюрмортам того же периода, и к знаменитой картине «Именины Глоанек», явно написанной к 15 августа – ведь хозяйку пансиона звали Мари. Используя вид сверху, так полюбившийся Дега и японским художникам, Гоген как бы смело выхватывает фрагмент красного стола, и мы незаметно переносимся в совершенно другой мир, где царит и властвует живопись. Впоследствии эта манера была развита Матиссом.
Смелое решение цветовых контрастов и четкость контурных очертаний вместе с эффектом густой киновари с такой поразительной точностью повторяются в «Видении после проповеди, или Борьбе Иакова с ангелом», что есть все основания полагать: обе картины написаны в одно время. Известно, что мадам Глоанек отказалась от подарка, преподнесенного Гогеном, и под давлением его противников не захотела вешать картину в большом зале пансиона. Тогда Гоген пошел на хитрость: он подписал полотно «Мадлен Б.», уверяя, что это работа одной из дебютанток, сестры Бернара…
Целую серию натюрмортов, свидетельствующих о небывалом творческом подъеме художника, можно отнести к концу августа того же года, и то, что они созданы именно в этот период, подтверждает его письмо Шуффенекеру, в котором он жалуется на плохую погоду: «…погода отвратительная для любителей солнца. Лаваль и Бернар доводят до совершенства свой импрессионизм. Очень занятен малыш Бернар!» Кадровая композиция «Трех щенков» из коллекции Гуггенхейма, наверняка навеянная ксилографиями Хиросиге, написана тогда же, что и «Именины Глоанек», но в «Трех щенках» он меняет цветовые контрасты, используя белый и синий и одновременно обводя каждое изображение темным четким контуром в духе клуазонизма. В композиции «Окно, выходящее на море» вертикальная линия зрительно делит изображение на две части. Картина написана на обратной стороне «Сенокоса», где, кстати, применена та же диагональная композиция, что и в «Белой реке». В «Натюрморте с керамикой» снова показан вид сверху, как и на полотне «Ваза для фруктов с купальщицей». Все эти творческие приемы в упомянутых произведениях говорят о том, что Гоген наконец нашел свой творческий путь и обрел уверенность в себе. Произошло ли это отчасти благодаря Мадлен или потому что появилась надежда на более упорядоченную жизнь в Арле? Или дело было в восторженном поклонении окружавших его молодых художников? Но Гоген засиял всеми гранями своего таланта. Он смело заимствует у Бернара лицо его бретонки, покорившее его необычным выражением раскосых глаз, и втискивает его в верхний левый угол своего «Натюрморта с фруктами», в оставшийся свободным маленький треугольник на столе. В этой картине художник снова использует вид сверху, что придает изображению оттенок загадочности и создает ощущение пространства за пределами полотна.
Такова была окружающая Гогена атмосфера, когда он писал картину «Видение после проповеди, или Борьба Иакова с ангелом». Необходимо поговорить о ней подробно, поскольку большинство историков в конце концов поверили запоздалому (в 1903 году) желчному заявлению Бернара, что это произведение настолько отличалось от всего написанного Гогеном ранее, что даже стало «полным отрицанием» его предыдущего творчества, а следовательно, просто являлось копией его, Бернаровых, «Бретонок». На самом же деле все было иначе. Из переписки Винсента с Тео мы узнаем, что послания Бернара «проникнуты преклонением перед талантом Гогена, он писал, что считает его таким великим художником, что робеет перед ним и что все, написанное им, Бернаром, считает никуда не годным по сравнению с произведениями Гогена. А ведь еще зимой Бернар искал ссоры с Гогеном…». И еще: «Бернар пишет, что очень страдает, видя, насколько мешают Гогену работать так, как он мог бы, чисто материальные проблемы: приобретение красок, холста и т. д.». Об этом Бернар писал в середине сентября, то есть когда Гоген заканчивал свое «Видение после проповеди».
А вот что писал Гоген Винсенту, с нетерпением ожидавшему его в Арле: «Несомненно, вы правы, ожидая от живописи с ярким, непростым колоритом поэтических идей, в этом смысле я совершенно с вами согласен, с одной лишь оговоркой. Мне чужды поэтические идеи. Возможно, какого-то из чувств мне не хватает. Я нахожу поэзию во всем и улавливаю ее какими-то потаенными уголками своей души. Не вникая в причины, я вдруг ощущаю иногда перед чьей-нибудь картиной, что вхожу в поэтический транс, который пробуждает во мне духовные творческие силы».
Не имели они в виду «Бретонок на зеленом лугу» Бернара, говоря о «чьей-нибудь картине»? Винсенту свое «Видение» Гоген описывал так: «Бретонки, собравшись группами, молятся, они в черных, насыщенного цвета платьях». Если он чем-то и обязан Бернару, то именно этим выбором цвета, но черный Гогена интенсивен совсем по-иному, и в этом разница. Более насыщенным этот черный кажется из-за контраста с чепцами, о которых он пишет, что они «желтовато-белые, светящиеся. Два чепца справа – словно какие-то чудовищные колпаки». А вот это принадлежит уже только одному Гогену: «Полотно пересекает темно-фиолетовый ствол яблони,листва которой написана пятнами, подобными изумрудно-зеленымоблакам, она пронизанажелто-зеленым солнцем. И все это на лугу цвета чистой киновари.Ближе к церкви он темнеет и становится коричнево-красным. Ангел в интенсивно-синем, Иаков в бутылочно-зеленом. Крылья ангела – чистый хром № 1; волосы ангела – хром № 2; ступни – оранжево-телесного цвета. Мне кажется, в этих образах я смог передать подлинную безыскусную простоту этих людей и их суеверие…Все выдержано в строгом стиле». Отдельные слова подчеркнуты самим Гогеном. Из этой беседы в письмах с Винсентом можно узнать кое-что еще: «Для меня в этой картине и пейзаж, и борьба существуют лишь в воображении молящихся после проповеди людей, вот почему такой контраст между этими реальными людьми и борющимися на фоне пейзажа фигурами, которые нереальны и непропорциональны…»
Похоже, при создании этой картины Гогену было необходимо найти для Винсента, а возможно, и для себя какие-то реалистические объяснения тому, что он собирался написать, тогда как его пластические «абстрактные», так называемые «неестественные» находки в этом совершенно не нуждаются. Нам уже известно, насколько естественно для Гогена использовать диагональ ствола яблони, разделяющую полотно надвое для создания его излюбленной композиции, в результате чего достигается столь эффектный контраст. Эти противопоставления вдохновляли его воображение, находившее выход в буйстве чистых цветов. А отсечение рамой части изображения там, где начинается листва, заставляет глаз мысленно продлить его за пределы картины. Сила психологического воздействия «Видения» несоизмерима с «Бретонками» Бернара, просто рассыпавшимися по зеленому лугу.
«Видение после проповеди» взрывается внезапно высвобожденным напряжением. Было бы неверно считать полотно абстрактным, хотя оно впечатляет вовсе не сюжетом, даже если Гоген задумывал его как трамплин или как самооправдание a posteriori. Что же касается Эмиля Бернара, необходимо отметить, что лучшая его работа, написанная в Понт-Авене, «Гречиха», создана под влиянием «Видения после проповеди»: он не только изменил первоначально зеленый фон картины на ярко-красный, но даже расположение чепцов и тема дерева со срезанной краем холста листвой – все напоминает Гогена. Но, используя чужие эффекты, Бернару не удается их выстроить композиционно. Яблоневое дерево, перенесенное в правый угол, становится чисто декоративным элементом. Красный цвет у Гогена создает огромное психологическое напряжение, а у Бернара, избравшего более умеренный оттенок, словно теряет свою мощь. Достаточно одного этого примера, чтобы понять: сомневаться в том, кто был «главой» школы Понт-Авена, Гоген или Бернар, – значит перейти на сторону тех, кто заправлял тогда общественным мнением в области живописи.
В конце концов, у нас есть свидетельство Мориса Дени, опубликованное в 1893 году, которое Бернар даже и не пытался оспаривать. Речь идет об отношениях Гогена с Полем Серюзье. Серюзье, ученик академии Жюльена, был старше других единомышленников Гогена (он родился в 1864 году). Тем летом вместе со своими друзьями он тоже отправился в Понт-Авен, в пансион Глоанек. Скромно расположившись за столом «темных художников», он наблюдал за «бандой Гогена», слушал, как они смеялись и спорили об искусстве. И лишь перед самым отъездом, подбадриваемый Бернаром, осмелился обратиться к Гогену, который тогда снова слег. На следующий день Гогену стало лучше, и он повел Серюзье в Буа д’Амур (Лес Любви) на берегу Авена. Сам Гоген написал множество видов этой реки, упражняясь в «японском стиле». Наиболее известна среди них работа «Над пропастью», в которой контрасты простых цветов и вид сверху доведены до совершенства, в результате чего пропасть получилась как бы в миниатюре.
Этот свой опыт он и хотел передать Серюзье, заставив его выполнить под своим руководством на коробке из-под сигар набросок пейзажа, известный сегодня под названием «Талисман». «Какими вам видятся эти деревья? – спрашивал он. – Они желтые. Так и пишите их желтыми. А эта тень вам кажется синей? Так не бойтесь, пишите ее ультрамарином! Эти листья красные? Берите киноварь». Если бы существовало несколько вариантов этого разговора, суть бы их сводилась к одному – довести яркость красок до пароксизма, как это сделал сам Гоген в «Видении после проповеди». Набросок Серюзье подтверждает это. Дени, увидев пейзаж по возвращении Серюзье в Париж, был совершенно покорен им. Он писал, что этот пейзаж «настолько дик и необычен, что кажется созданным синтетическим способом». И пояснял: «Здесь мы впервые увидели в парадоксальной незабываемой форме животворную силу понятия „плоской поверхности, заполненной цветовыми пятнами в некоем заданном порядке“. И поняли, что любое произведение искусства – это преобразование реальности, по сути карикатура, эквивалент испытанного ощущения. А философский склад ума Серюзье мгновенно преобразовывал малейшее замечание Гогена в научную доктрину, приобретающую для нас решающее значение».
По словам художника Веркада, Серюзье говорил, что «ощущение природы должно сочетаться с эстетическим восприятием, которое отбирает, располагает в нужном порядке и упрощает увиденное. Гоген требовал логического построения композиции, гармоничного сочетания светлых и темных пятен, упрощения формы и пропорций, чтобы придать очертаниям мощную и красноречивую выразительность». Фенеон, в свою очередь, комментирует это так: «Реальность для него лишь предлог для создания весьма далеких от нее образов; он творчески переосмысливает поставляемый ею материал». Это подтверждает картина «Над пропастью», где корова на лужайке на переднем плане и рыбацкая лодка у верхнего края полотна являются ориентирами, хоть и анекдотическими, но столь же необычными, как в последних работах Мане, и служат они все той же цели – побудить зрителя расшифровывать новое предназначение материала, предложенного действительностью. Это и принято было называть «синтетическим методом».
Переписка с Гогеном и Бернаром позволяла Винсенту быть в курсе их дел. В своих экспериментах он очень нуждался в общении с художниками, такими же, как он сам, но Гоген под предлогом неоплаченных долгов по-прежнему откладывал приезд. И вот тогда же, в августе, случилось нечто непредвиденное. Тео получил наследство и теперь мог финансировать проект Гогена. Неожиданная удача подняла настроение Винсента, появилась надежда на разрешение всех имеющихся проблем, и, торопясь увидеть, что было сделано его товарищами в Понт-Авене, он предложил им обменяться своими картинами. Винсент написал Бернару: «Японские художники часто обменивались своими работами, что доказывало их дружеское расположение друг к другу, таким образом они жили в некоем братском содружестве, не плетя друг против друга интриг. Чем больше мы сможем походить на них в этом отношении, тем для нас будет лучше».
Гоген и Бернар решают написать портреты друг друга. Но Бернар все-таки «не отваживается писать Гогена, слишком перед ним робея», а Гоген, видимо, занятый в то время портретом Мадлен Бернар (или, по крайней мере, мечтавший об этом), отговаривается тем, что «пока изучает Бернара». «Я еще не овладел материалом. Быть может, напишу его портрет по памяти, но, в любом случае, он будет абстрактным», – пояснял он. Этот дружный отказ свидетельствует об их глубоко скрываемой обоюдной неприязни. В конце концов, каждый решил написать автопортрет, и в глубине картины изобразить другого. Бернар написал себя в три четверти анфас; слева от него, в центре стены, выполненный в серых тонах эскиз, изображающий Гогена. Винсент, получив картину, высоко оценил ее: «Здорово, как настоящий Мане». Гоген использовал то же построение, но совсем в ином духе, подписав свое произведение: «Отверженные. Другу Винсенту». И сопроводил подарок письмом, в котором подробно изложил свой замысел. Винсент сразу же переслал его Тео, сопроводив восторженными словами: это «совершенно замечательное письмо, которое я прошу тебя сохранить в силу его огромной значимости. Я имею в виду его описание самого себя, которое тронуло меня до глубины души».
Действительно, это письмо и спустя долгие годы являлось причиной споров об обучающей значимости клуазонизма или синтетизма. Гоген писал: «Я ощутил необходимость разъяснить свои намерения не потому, что сомневаюсь, в состоянии ли вы понять их сами, а потому что считаю: вряд ли мне удалось их так хорошо осуществить». И он принимается описывать свой портрет: «…я хотел выразить себя не только с помощью красок… Маска плохо одетого и сильного головореза, этакого Жана Вальжана, обладающего своего рода благородством и даже внутренней добротой. Живая горячая кровь пульсирует в его лице, и огненные тона пылающего горна, окружающие его глаза, символизируют огнедышащую лаву, где воспламеняются наши сердца художников». Мы располагаем и другим описанием, сделанным для Шуффенекера: «Цвет далек от натуры; представьте себе смутное воспоминание о керамике, обожженной на сильном огне! Все тона красные, фиолетовые, исполосованные огненными бликами, словно огромная, сияющая перед глазами печь, – место борьбы противоречивых мыслей художника…»
И снова для Винсента: «Рисунок глаз и носа, напоминающий цветы на персидских коврах, намекает на абстрактное и символическое искусство». И разъясняет: «Нежный фон с детскими цветами – обои для девичьей комнаты – сделан для того, чтобы подчеркнуть нашу артистическую девственность. А этот Жан Вальжан, сильный и любящий, но преследуемый обществом и поставленный вне закона, разве не олицетворяет собой сегодняшнего импрессиониста? Придав ему сходство с собой, я, по сути, изобразил всех нас несчастных жертв общества, которые за зло платят добром… Мой дорогой Винсент, вы бы здорово повеселились при виде всех этих здешних художников, замаринованных в своей посредственности, как огурцы в уксусе… Хоть плачь, хоть смейся. Какое жалкое существование они влачат вне своего искусства! Невольно задумываешься, стоило ли Христу принимать смертные муки за подобных шутов? В качестве художника – да, но в качестве преобразователя – не думаю. Мой приятель Бернар работает и строит планы отправиться в Арль. Лаваль, вы его не знаете, но он вас знает по вашим письмам и нашим рассказам, присоединяется к нам, чтобы пожать вам руку…»
Вполне понятно, что Винсента взволновало письмо, в котором Гоген открыл ему, как никому другому, свою душу. Наконец нашелся кто-то, страдающий и мыслящий, как и он сам. Автопортрет же произвел на Винсента странное впечатление: «Главное, что я понял из портрета Гогена, что ему больше нельзя так писать, надо взять себя в руки, вновь стать Гогеном, роскошно пишущим негритянок [на Мартинике)». И далее поразительная оценка, последовавшая за первой реакцией: «Мне это решительно напоминает пленника. Ни тени радости. Изображение на портрете менее всего относится к миру живых, можно смело утверждать, что художник стремился передать страдание, плоть, окруженную мрачными тенями и тускло отливающую синевой. Да, у меня теперь появилась возможность сравнить свои работы и живопись своих собратьев…»
Существовала ли когда-либо в истории искусства подобная связь между двумя художниками, между двумя жизнями, целиком отданными живописи? Винсент там же добавляет: «Автопортрет, который я посылаю Гогену, совсем в другом ключе, я уверен». Речь идет об «Автопортрете», посвященном «моему другу Полю». Винсент описывал его так: «Он весь пепельно-серый. Пепельный цвет получается из смеси серебристой краски с оранжевой на бледном серебристо-сером фоне, как у Веронезе, и все это объединено коричнево-красным налетом. Но, сконцентрировавшись на собственной персоне, я пытался, скорее, изобразить характер бонзы (буддийского жреца), поклоняющегося вечному Будде. Мне это стоило немалых усилий, но портрет все равно придется полностью переделать, чтобы действительно изобразить желаемое». И снова Винсент возвращается к автопортрету Гогена: «Слишком мрачный, слишком печальный. Не скажу, чтобы он мне не нравился таким, но это пройдет, когда он наконец приедет».
Гоген в то время опять слег. «Желчь скапливается в моем измученном теле, – жалуется он в письме к Тео, – сжигает желудок, потом начинаются жесточайшие колики». Возможно, в этот раз его недомогание было психосоматического характера и явилось результатом безуспешных, хотя и настойчивых ухаживаний за молодой и загадочной Мадлен Бернар. Это состояние Гогена отразилось и на портрете Мадлен, где она изображена непохожей на себя. (Достаточно сравнить эту картину с ее же портретами работы Бернара.)
Перед отъездом Мадлен из Понт-Авена Гоген писал ей в тоне «старшего брата», называя ее «милой сестрой»: «Вы для меня существо как бы бесполое; под этим я подразумеваю, что сердце, душа, все, что в нас есть божественного, не должно рабскизависеть от грубой материи, то есть от тела. Женские добродетели, в основном, ничем не отличаются от мужских – это христианские добродетели…» Возможно, причиной подобной экзальтации было любовное разочарование, поскольку Мадлен предпочла Лаваля, или чувство вины, которого он не мог не испытывать, думая о Метте и детях.
Письмо к Тео по сути деловое. В нем Гоген сообщает, что «картина для церкви (то самое „Видение после проповеди“, отвергнутое кюре храма, для которого она предназначалась) будет передана вам, и вы сможете ее выставить. Обидно, ведь она сделана для церкви, и того эффекта, который мог бы быть там, среди цветных витражей и камня, в салоне уже не достигнешь». И продолжает: «Письмо вашего брата меня очень смутило; будучи очень добрым, о себе он думает в последнюю очередь. Кстати, портрет, который я ему отправил, предназначен не для продажи,он написан лично для него,неважно в обмен на его работу или нет. Тем более что закончен он лишь в общих чертах, и я боюсь, как бы он в нем не разочаровался». Шуффу в то же время он, ликуя, сообщает, что «Тео взял у него на триста франков керамики, поэтому в конце месяцаон уезжает в Арль»; что Ван Гог [Тео], «чтобы облегчить мне работу, намеревается избавить меня от денежных забот, пока ему не удастся меня продвинуть»; что «Автопортрет» «это одна из лучших моих вещей; абсолютно непостижимый, до того он абстрактен…». И далее продолжает: «Импрессионист еще невинен, не осквернен гнусным поцелуем Изящных искусств (школы). Посылаю вам письмо Винсента, чтобы вы имели представление о наших отношениях».
Итак, жребий брошен. Гоген отправляется к Винсенту.