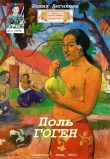Текст книги "Поль Гоген"
Автор книги: Анатолий Левандовский
Соавторы: Пьер Декс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
Как бы то ни было, Гоген мог тогда уехать лишь скрепя сердце. Ведь в то время весь артистический Париж желал участвовать в том или ином качестве во Всемирной выставке, открытие которой должно было состояться 5 мая в атмосфере триумфа по поводу завершения 31 марта строительства Эйфелевой башни. Каждая из предыдущих выставок, как 1867 года, так и 1878-го, являлась важной вехой в развитии новой живописи. Так же должно было случиться и с экспозицией 1889 года, когда новшества всех видов множились с невиданной ранее быстротой. Быть приглашенным на выставку у Гогена не было ни малейшего шанса, и особых иллюзий на этот счет он не питал. Никаких денежных поступлений, которые позволили бы ему выставиться за свой счет, тоже не было. По крайней мере, так обстояли дела до конца марта.
И тогда на сцену выходит Шуффенекер, который тоже очень хотел участвовать в этом мероприятии, но он прекрасно понимал, что может на это рассчитывать лишь под прикрытием авторитета Гогена. Шуффенекер узнал, что господин Вольпини, владелец кафе, находящегося на Марсовом поле, внутри на территории выставки, в двух шагах от отдела изобразительных искусств, сильно расстроен тем, что ему не поставили зеркальные панно, заказанные для обновления интерьера. И Шуфф, не откладывая, пошел на штурм Вольпини, убеждая затянуть стены простой тканью гранатового цвета, а на ней его друзья-художники развесят свои произведения. Новость сообщили Гогену, который сразу же взял бразды правления в свои руки: «Браво! Вы добились успеха. Повидайтесь с Ван Гогом (Тео) и устройте все до моего возвращения. Только помните, что эта выставка не для других.А следовательно, давайте ограничимся нашей маленькой дружной группой, и с этой точки зрения я хочу быть представленным как можно больше. Выставите все то, что будет в моих интересах в зависимости от места…»
И тут прорвалась вся скопившаяся в нем горечь: «Я отказываюсь выставляться с другими,с Писсарро, Сёра и т. д. Это выставка нашей группы! Я хотел выставить поменьше, но Лаваль говорит, что теперь моя очередь и что незачем мне работать для других…» И он принялся составлять будущую экспозицию из серий по десять полотен от каждого участника их группы – Шуффа, Бернара, его самого и, как ни странно, Гийомена, который в эту группу, если она на самом деле существовала, не входил. Для полотен Винсента он отвел всего шесть мест. Ни Лавалю (но это вскоре было исправлено), ни де Хаану, ни Серюзье места вообще не нашлось. Это выглядело тем более странно, что в списке фигурировали двое никому не известных художников, которые таковыми навсегда и остались, – некие Луи Руа и Леон Фоше, не имевшие иных заслуг, кроме выраженного Гогену восторга прошлым летом в Понт-Авене… «Тот факт, – пишет Ревалд, – что Гоген отвел Бернару столько же места, сколько и себе самому […], весьма показателен. Позже Гоген объяснил Тео, что считал Бернара и себя столпами нового движения, тогда как в других видел всего лишь их подражателей».
Гийомен, чувствовавший себя чужим среди приезжих импрессионистов, которые с ним практически не общались, предпочел отказаться от приглашения. Гоген воспринял это как дезертирство; по-видимому, он рассчитывал на Гийомена, участие которого являлось для выставки неким залогом успеха. Бернар заставил включить Анкетена, а не Лотрека, как он впоследствии утверждал. По мнению Ревалда, Лотрека проигнорировали потому, что он ранее якобы выставлялся с группой, которую Гоген не одобрял. Винсента окончательно отвел Тео. «Сначала я согласился, чтобы ты выставлялся с ними, – писал Тео в июне, – но у них был такой скандальный вид, что оставаться с ними стало невозможно. Все это немного походило на попытку попасть на Всемирную выставку с черного хода».
Однако Тео ошибся и очень серьезно. Винсент дал ему это понять позже, хотя и в очень вежливой форме. Он писал ему 19 июня: «Думаю, что ты правильно решил не выставлять моих картин вместе с Гогеном и другими, к тому же у меня для этого есть своя веская причина: ведь я еще не до конца выздоровел». И добавил: «Для меня очевидно, что Гоген и Бернар заслуживают самой высокой оценки. Для таких, как они, молодых и пылких, которым еще только предстоит прокладывать в жизни дорогу, совершенно невозможно поставить свои картины лицом к стене и ждать, когда публика решит включить их куда-нибудь под каким-либо официальным соусом. Поэтому я их очень хорошо понимаю. Выставляясь по всяким забегаловкам, они провоцируют скандалы, что, я согласен, является дурным тоном, но я сам, по крайней мере дважды, совершал подобное преступление, […], не считая того, что доставил беспокойство восьмидесяти одному добродетельному пожирателю трупов и их превосходному мэру в добром старом Арле… В любом случае, я хуже их и достоин большего, чем они, осуждения…»
Из этих строк совершенно ясно: в том, что касается живописи, Винсент был на стороне Гогена и не таил на него зла за то, что произошло между ними. В итоге он делает вывод, что ни Бернар, ни тем более Гоген «не похожи на людей, которые могли бы проникнуть на Всемирную выставку через черный ход. Не беспокойся об этом. Просто они не смогли промолчать, и это понятно». Эти слова Винсента означают, что, хотя зарождавшийся спрос на картины время от времени и выручал новаторов, они нуждались еще и в статусе, пусть не таком блестящем, как официальный, но обеспечивающем независимость художников от господствующей системы, которая только и могла, что отвергать их, приговаривая к молчанию и нищете. К сожалению, этого не понимали даже такие люди, как Тео Ван Гог. И Винсент старался изо всех сил, хотя и тщетно, объяснить это брату.
В начале весны Гоген по памяти пишет два полотна с обнаженной женской натурой, продолжая тему картины «На сене». На одном он изобразил женщину, с распущенными красными волосами, самозабвенно отдающуюся морским волнам. В отличие от картины «На сене», здесь обнаженное тело показано целиком, оно буквально излучает чувственность. Позже, отдавая дань моде, он изменил название «В волнах» на «Ундину». Это полотно положило начало множеству вагнеровских мотивов. Женщина, у которой не видно лица, одной лишь позой выражает наслаждение, полное растворение в волнах, движение которых Гоген сумел передать в совершенно японском стиле. На другом полотне, составляющем пару с первым, которое называется «Жизнь и смерть» (оно хранится в музее Каира), изображены на песчаном пляже две абсолютно разные обнаженные женщины. У одной синеватая кожа, она сидит в позе, выражающей полное бессилие; вторая, повернувшая лицо к зрителю, показана немного сверху. Она держит в руках полотенце, и у нее такие же красные волосы и животная красота, как и у женщины из картины «На сене» или купальщицы с полотна «В волнах». Во многом эти работы явились постскриптумом к арльскому периоду, когда он воспевал примитивную жизнь («На сене») или отдавал дань символизму («Человеческая нищета»). Вполне возможно, что картина, плохо различимая на заднем плане «Автопортрета», написанного в Арле, и есть «В волнах». Значит, весной он просто переделывал эту картину, а замысел ее созрел гораздо раньше. Как бы то ни было, эти два полотна показывают, что именно Гоген надеялся найти на далеком Таити.
К тому же обе работы поясняют иллюстрацию на обложке каталога выставки у Вольпини и утверждают идею непрерывности вдохновения.
В конце марта, как я уже упоминал, Гоген узнал, что Тео в Париже и Mo в Брюсселе продали по одной его работе за четыреста франков каждую. А в конце апреля он уже занят выставкой. Рамы для картин были заказаны простые, из некрашеного багета. Зал оказался достаточно большим, в нем свободно размещалось до ста полотен, что позволило Бернару, подготовившему уже двадцать два полотна, добавить еще несколько работ, подписанных псевдонимом Людовик Немо. Среди выставлявшихся появился новичок – Даниель де Монфред, друг Шуффенекера, который тоже представил двадцать картин. Впоследствии он сыграл важную роль в жизни Гогена. Сам Гоген ограничился семнадцатью работами. Во всех этих хлопотах ему помогал Лаваль. Вчетвером, включая Бернара и Шуффа, они умудрились развесить на стенах афиши экспозиции, за неимением лестниц встав друг другу на плечи. На расчерченном красными и белыми горизонтальными полосами фоне афиши было написано: «ГРУППА ИМПРЕССИОНИСТОВ И СИНТЕТИСТОВ».
Поскольку ничего не известно о дискуссиях между участниками, остается присоединиться к мнению Ревалда, что именно Гоген являлся если не автором (Бернар утверждал, что им был молодой критик Орье), то, по крайней мере, ответственным за выбор названия группы. Оно становится понятным, если учесть, что означал термин «импрессионист» за пределами официального искусства, то есть Школы изящных искусств. Импрессионистом, в строгом смысле, оставался Шуффенекер, как и малоизвестные молодые художники. И когда Бернар в письме к своему другу Орье обращался с просьбой сделать им рекламу, он говорил о «выставке новой группыимпрессионистов». Как подсказывает Ревалд, термин неоимпрессионизм уже использовали Сёра и его группа, поэтому нужно было найти другое название, которое подчеркнуло бы различия, оставаясь в рамках нового течения. Так и появились «синтетисты», то есть приверженцы «синтеза»: Гоген, а также, по его мнению, Лаваль, Бернар и Анкетен.
Орье в своем отчете о Всемирной выставке выразил недовольство выбором кафе, но одобрил поступок художников в целом: «Недавно узнал, что индивидуальная инициатива осмелилась на то, на что никогда не пошел бы ни с чем несравнимый административный идиотизм. Небольшая группа независимых художников сумела создать хоть какую-то конкуренцию официальной экспозиции. Устройство выставки примитивно, но очень необычно и, как непременно скажут, выглядит богемно…» И добавил: «Мне кажется, я заметил в большинстве представленных произведений, в особенности у гг. Гогена, Бернара, Анкетена и других, ярко выраженную тенденцию к синтетизму рисунка, композиции и палитры, а также упрощение живописных средств, которое показалось мне особенно интересным в нашу эпоху изысков и избыточного трюкачества».
Фенеон, в свою очередь, отмечал: «Подойти к их картинам непросто, мешают всякие буфеты, пивные насосы, столы, декольте кассирши г-на Вольпини, а кроме того, оркестр молодых москвичек [заметьте, в женском роде], скрипки которых заполняют просторный холл музыкой, не имеющей никакого отношения к полихромии». Он также определил это объединение художников как «Другая группа импрессионистов». Дополнительную путаницу внес Антонен Пруст, глава оценочной комиссии (в делах живописи ему, в числе прочих, помогал Роже Маркс), назвавший импрессионистской гравюру Бракмона и заявивший, что, в отличие от выставки 1878 года, импрессионисты были достаточно широко представлены на нынешнем официальном показе. Конечно, Сезанн представлен только его «Домом повешенного» (картину одолжил Шоке), зато было несколько работ Будена, три Моне, две Писсарро и совершенно замечательное полотно Мане.
Фенеон весьма сдержанно отнесся к «синтетизму»: «Г-н Луи Анкетен спекулирует на гипотезе, предложенной Гумбольдтом о господине, внезапно перевезенном из Сенегала в Сибирь. Он воссоздал, например, видение зрителя, внезапно вышедшего из подвала и очутившегося на пшеничном поле, залитом августовским солнцем». И далее, невольно поднося огонь к пороху (Гоген знал тогда о произведениях Анкетена лишь понаслышке, от Бернара): «Существует вероятность, что манера г-на Анкетена, его замкнутые контуры, плоские и яркие цветовые пятна повлияли на стиль г-на Гогена. Впрочем, влияние это весьма поверхностное, поскольку непохоже, чтобы хотя бы малейшее чувство оживляло его мудреные и декоративные творения».
Тем не менее в статье Гогену было отведено заметное место: «Своим таинственным, суровым и грубоватым видом на общем фоне выделяются работы г-на Поля Гогена, художника и скульптора, участвовавшего в импрессионистских выставках 1880, 1881, 1882 и 1886 годов. Многие детали фактуры и то, что он вырезал из дерева барельефы, а потом раскрашивал их, указывают на ярко выраженную тенденцию к старинному искусству; формы его глиняных ваз свидетельствуют об экзотических вкусах – все эти характерные черты достигли наивысшего расцвета в его последних полотнах».
Тонко подмечено. Эти наблюдения Фенеон впоследствии включил в свой талантливый анализ новшеств в современной живописи. К тому же эта работа была единственной, осмелившейся в то время взять на себя обучающую роль. Фенеон писал: «Выразительные средства ташистов, призванные запечатлевать исчезающие видения, к 1886 году были отброшены многими художниками, заинтересовавшимися искусством синтеза [вот оно, это слово, но обратите внимание, что за ним следует у Фенеона] и осмысления. Покуда гг. Сёра, Синьяк, Писсарро и Дюбуа-Пийе воплощают свою собственную концепцию этого искусства в картинах, где отдельные эпизоды исчезают в общей оркестровке, послушной законам оптической физики, и где личность автора остается анонимной, как у Флобера в его романах, г-н Поль Гоген достигает той же цели другими средствами. Действительность для него не более чем повод для дальнейшего творчества: он перестраивает материал, который она ему предоставляет; презирает обманы зрения, даже вызываемые атмосферными явлениями; он выделяет линии контуров, ограничивает их число, добавляет им значимости; и в каждом из его фрагментов, входящих в многочисленные переплетения, роскошный и тяжелый цвет сумрачно кичится своей обособленностью, не смешиваясь с соседними и оставаясь верным себе».
Таков был эпистолярный стиль той эпохи, куда более точный, чем может показаться сегодня, к тому же Фенеон разглядел суть живописи Гогена, как ни один критик до него. С тех пор как Гоген ознакомился в Бретани с текстом этой статьи, ему не давала покоя ссылка на предполагаемое первенство Анкетена, с творчеством которого до выставки он не был даже знаком. Тем более что в учителя ему приписывался и Сёра. Возмущение мешало ему оценить значение отзыва Фенеона. К тому же к спору о синтезе примешался спор об импрессионизме. Писсарро углядел в афише попытку узурпировать его права. Гоген писал Тео: «Писсарро и прочие недовольны моей выставкой, а значит,у меня есть все основания быть довольным ею». Даже несмотря на то, что отзыв Дега тоже оказался отрицательным.
На выставке ничего не удалось продать, даже литографий. Гоген, отобравший самые лучшие свои работы, сделанные на Мартинике и в Арле («Первые цветы», «Манго», «Человеческая нищета», «Стога»), а также свое последнее полотно «В волнах», уехал в Бретань в начале июня, то есть вскоре после открытия выставки, которая должна была продлиться до конца октября. Он осознал провал во всей полноте только к осени.
По приезде он сразу написал Бернару: «…из-за всех этих неприятностей, связанных с каждой выставкой, я, в конце концов, имею право и даже обязан принять предосторожности». Особое недоверие он питал к Гийомену: «Все старые импрессионисты ополчились против меня». И далее, пытаясь утешить младшего друга: «Вам хорошо известно, насколько я ценю ваши поиски в искусстве и их результаты. Я повсюду провозглашаю: „Обратите внимание на малыша Бернара, это личность!“»
И лишь позднее, в октябре, когда подводились предварительные итоги, он признался Бернару в своем глубоком отчаянии: «Результатом всех усилий, потраченных в течение года, оказались всего лишь долетающие сюда из Парижа вопли, из-за которых у меня работа валится из рук. […]. Несмотря ни на что, я утвердился в своих взглядах и не отрекусь от них ради дальнейших поисков, невзирая на Дега, который вкупе с Тео Ван Гогом, помешавшим участию в выставке Винсента, стал зачинщиком этого разгрома. Он чувствует в нас представителей враждебного ему течения. Пусть они все внимательно посмотрят на мои последние картины, и если их сердце все-таки способно чувствовать, они увидят заложенное в них смиренное страдание. Все они не что иное, как крик человеческой боли…» На память сразу приходят вариации на тему «Человеческой нищеты» и «Жизни и смерти». В иллюстрации к обложке каталога выставки Гоген объединил крестьянку с удрученным выражением лица и купальщицу в волнах таким образом, что казалось, будто женщина собирается утопиться.
У Гогена совсем не осталось старших друзей. Разочарование после разрыва с Писсарро усилилось ссорой с Дега. Ведь Дега, его единственная поддержка среди старой гвардии импрессионистов, вдруг тоже выступил против него… Удрученный бесконечными неудачами, Гоген даже не мог предположить, что Дега поступил так вовсе не потому, что почувствовал в нем и его товарищах «представителей враждебного ему течения», – это была просто вспышка плохого настроения одинокого желчного человека, который был расстроен, видя, как в каком-то кафе порочат идею «синтеза», в то время как он отказался принимать участие в официальной выставке. Тем более что сам Дега имел к «синтезу» непосредственное отношение. Разве не писал Мирбо еще в 1886 году, что в фигурах его женщин присутствует «мощь синтеза, волшебная абстракция линий, какой не достиг ни один современный мастер»? Женщина в картине Гогена «На сене» и другие героини последних его работ являлись как бы сестрами героинь Дега. Гоген знал это, как и то, что манерой исполнения своих литографий он обязан именно Дега, и от этого переживал еще сильнее, считая себя покинутым и даже отвергнутым. В довершение всех бед, он никак не мог рассчитывать на Бернара, так и не оправившегося после неудачи на выставке. Лишь один Винсент полностью разделял его мысли о высокой ответственности художника, но они больше никогда не увидятся и никогда не смогут сказать это друг другу лично. Этой потери не мог восполнить ни один единомышленник, ни один его последователь. Горькие разочарования мучили Гогена не только накануне отъезда в Бретань, но и на протяжении всего пребывания там.
Обратил ли в то время Гоген внимание на тот, по словам Ревалда, «огромный интерес», который вызвали его картины среди художников молодого поколения? Лишь позже до него дошла новость, что Серюзье с друзьями заинтересовались его творчеством, но он ничего не узнал о других художниках, посетивших выставку и загоревшихся его методом. Среди них был, например, Майоль, незадолго до того закончивший обучение у Кабанеля, и Сюзанна Валадон со своим сыном Утрилло. Эти картины были вкладом Гогена в будущее искусства, а знакомство с Орье побудило художника к написанию статей. Именно тогда образ Гогена, основоположника новой школы, вышел за рамки маленького кружка приятелей из Понт-Авена.
Однако было бы большой ошибкой думать, что для Гогена значение Всемирной выставки этим и исчерпывалось. Дело в том, что Гогена очень заинтересовал отдел, посвященный колониальному искусству. Это была настоящая выставка в выставке. Она занимала большое двухэтажное здание и предлагала посетителям для обозрения типичные образцы народных изделий и этнографические коллекции с фотографиями из жизни отдельных колоний, включая Таити и другие острова Океании. Созданный за девять лет до того археологический музей Трокадеро (начало ему положила Всемирная выставка 1878 года) предоставил различного рода предметы: гарпуны, стрелы, весла и многое другое. И хотя экспозиции подобного рода официально еще не получили признания, некоторые из этих предметов представляли определенный художественный интерес, например, орнаменты из Новой Гвинеи, украшавшие носовую часть лодок, статуэтка из Новой Зеландии, резная шкатулка канаков.
Диковинкой выставки стал макет Кхмерского храма с построенной рядом яванской деревней. Гвоздем программы были танцы юных баядер. На Гогена они произвели ошеломляющее впечатление. Эта экспозиция буквально разожгла его желание уехать на Мадагаскар, хотя все, что ему удалось узнать о нем (а он считал, что узнал все) было почерпнуто из посещения хижины, демонстрировавшейся на выставке в качестве образца жилища этого большого острова. После неудачи в кафе Вольпини Гоген страдал от одиночества, и когда он увидел величие и мощь примитивного искусства, жизнь в колониях стала видеться ему в самом радужном свете, своего рода преддверием рая.
Эта экспозиция, безусловно, ускорила процесс созревания идей примитивизма в сознании Гогена. Он узнал о яванской и камбоджийской скульптуре, скопировал выставленную ацтекскую статуэтку, а главное, все увиденное помогло сформировать ему свое кредо, которое в конце жизни Гоген изложил Монфреду: «Пусть образцом для вас всегда будут персы, камбоджийцы и немного египтяне. Самая большая ошибка – копировать греков, какими бы прекрасными они ни казались».
Как заметил в 1938 году Голдуотер, недоразумения, возникающие при изучении примитивизма Гогена, вызваны тем, что, подобно своим друзьям-символистам, он видел в этом виде искусства искажениедействительности ради достижения загадочной, символической красоты, казавшейся ему более возвышенной, чем та, которая в «зрелых цивилизациях» выродилась в искусство натуралистическое.Это и лежит в основе его синкретизма, который под двумя названиями – примитивный и варварский – объединяет все стилизованное, декоративное, все, что выступает против натурализма. «Во фризах Парфенона и рельефах колонны Траяна, – пишет Голдуотер, – Гоген находил плоское и стилизованное искусство в противовес искусству натуралистическому, трехмерному, и оттуда-то он и заимствовал позы своих персонажей». Вот оно – оправдание его «абстракции», его «клуазонизма», его «синтеза». Наконец-то он нашел свою дорогу – он отправляется на поиски варварства в искусстве и варварства в жизни.
Гоген стремился к истокам искусства, надеясь найти в местах, еще не развращенных псевдоцивилизацией, основной принцип, раскрывающий сущность вещей и явлений, включая греческую и римскую античность. Его целью было даже не антиклассическое, а антинатуралистическое искусство. Он отправляется на поиски подлинных изобразительных методов, давно утраченных академическим искусством. Ему предстоит перестроить и свое искусство, и свою жизнь.