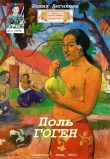Текст книги "Поль Гоген"
Автор книги: Анатолий Левандовский
Соавторы: Пьер Декс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
В творчестве Гогена наступил исключительно плодотворный период. Художник теперь использовал все возможности живописи. Безусловно, он наметил себе этот путь давно, и ему уже приходилось на него ступать, но никогда ранее он не добивался столь сказочного успеха в своих начинаниях. Именно в этот период его гений проявил себя в полной мере.
Поэтому неудивительно, что Гоген вновь обратился к жанровым темам, которые он разрабатывал в начале своего пребывания на островах. Например, изображая беседующих женщин в «Нафеа фаа ипоипо (Когда ты выходишь замуж?)» и в «Парау Али (Что нового?)», где он, сужая фоновый пейзаж, упрощая формы и, главное, усиливая свет и краски, вольно переписывает «Женщин Таити» – картину, созданную в 1891 году.
Живопись и скульптуру художника объединяют чисто мифологические темы. Возможно, скульптурой он занялся из-за нехватки холста – Гоген упоминал об этом в письме к Монфреду. Во всяком случае на его живописи это не отразилось. Занятие скульптурой стало одной из составляющих перехода к настоящему примитивистскому искусству, имеющему религиозный уклон. В «Иа Орана Мариа (Аве Мария)» Гоген сделал из Богоматери и Христа таитян, и сам он, отождествлявший себя отныне с жителями Таити, хотел смотреть на мир их глазами. Поэтому его скульптуры так близки их традиции. Желание вырезать из дерева не было сиюминутным, поскольку из Франции он привез все нужные для этого инструменты. Однако Гогену никак не удавалось отыскать образцы туземной скульптуры. И тогда он обратился к фигурам Будды и Шивы, к изваяниям Боробудура, которые по-своему видоизменял.
Художник испытывал и другие трудности. Как заметил Чарлз Стаки, Гоген «выточил большинство, если не все свои произведения, из дерева гуайявы, которое, как очень быстро выяснилось, легко разрушается… Впрочем, поиски менее хрупкого дерева увенчались успехом еще до апреля 1892 года». В «Ноа-Ноа» рассказывается о походах художника в горы на поиски розового дерева, «священного дерева, которое таитяне называют миро или амаэ и которое традиционно используется для создания идолов», – пишет Пьер Пти. Пускай он не нашел на Таити готовые статуи, он сделает их сам из этого священного дерева. Гоген описывал стремящиеся вверх тропы «с обеих сторон ниспадающего каскадами ручья», хаотично растущие деревья, чудовищных размеров папоротники – всю эту дикую растительность, становящуюся непроходимой в центре острова. «Мы оба шли обнаженные, только с повязками на бедрах и с топорами в руках […] Тишина была полная, несмотря на жалобное журчание воды в скалах, – однообразный шум, лишь подчеркивающий безмолвие. И в этом волшебном лесу, в этом одиночестве, в этом безмолвии нас было двое – он, совсем юноша, и я, почти старик, с душой, увядшей от стольких разочарований, с телом, усталым от постоянного напряжения, и с этим роковым наследием пороков общества, нравственно и физически больного. Он шел впереди по-звериному гибкий и изящный, превратившись в бесполое существо. Мне казалось, что в нем воплощено, в нем дышит всё растительное великолепие, которое нас окружало и которое через него источало аромат красоты, опьянявший мою душу и содержавший в себе как бы некую мощную эссенцию – само чувство дружбы, порожденное в нас взаимным притяжением простоты и усложненности […] Мы были только вдвоем. Во мне возникло какое-то предчувствие преступления, какого-то неведомого желания, пробуждение чего-то темного, злого. Кроме того, я почувствовал усталость от роли самца, который всегда должен быть сильным, быть защитником. Слишком тяжелый груз всю жизнь лежал на моих плечах, мне вдруг захотелось стать на мгновение слабым существом, которое любит и подчиняется. Я подошел ближе, отбросив предубеждения. В висках у меня стучало».
Ровным счетом ничего не произошло: «Андрогин исчез. Он был просто юноша, его невинные глаза светились прозрачностью спокойных вод. На душу мою тотчас же сошел мир, я испытал бесконечное блаженство, столь же духовное, как и физическое, когда погрузился в холодную воду ручья. „Тоетое (холодно)“, – сказал он мне. „О! Нисколько“, – ответил я. И это отрицание, которое в мыслях моих как бы завершало внутреннюю борьбу с извращением цивилизации, гулким эхом прокатилось в горах». Наконец они достигли места, где росли нужные деревья: «Словно дикари, мы оба накинулись с топорами на великолепное дерево, которое пришлось погубить, чтобы похитить у него ветвь, подходящую для моего замысла. Я рубил, я обагрял руки кровью его соков в блаженной ярости, с напряженным наслаждением утоляя какую-то овладевшую мною священную жестокость. И вот какими словами отзывались в моем воображении мерные, звонкие удары топора: „Срезай же, срезай же весь лес (желаний) у корней. Уничтожь в сердце своем любовь к себе, как срывает осенью последний лотос человечья рука“. Да, старый цивилизованный человек отныне действительно уничтожен, умер! Я обрел спокойствие, почувствовав себя отныне совершенно иным человеком – маорийцем […] Дерево пахло ноа-ноа. И с каждым ударом топора по этому куску дерева я все глубже вдыхал запах победы и обновления».
Эти строки никогда не пользовались популярностью из-за описанного в них гомосексуального влечения. А от этого веяло скандалом. К тому же подобное путешествие представлялось физически невозможным, а следовательно, выдуманным. Вероятно, о сочинениях Гогена можно сказать то же самое, что и о его картинах: значение имеет не реальный облик, а мнимый образ юноши, который Гоген создал в своем воображении, нарисовав представлявшуюся ему картину. Эти строки не принадлежат к области литературы. И тем более не являются бесстыдными откровениями. Это попытка приблизиться к тайнам, за которыми Гоген приехал на Таити, к магии, которую он хотел выразить в своих скульптурах.
«Идола с жемчужиной» Гоген изобразил в позе Будды и украсил его лоб жемчужиной, а шею – золотым ожерельем. На спине статуэтки он очень примитивно вырезал идолов-женщин, возможно, навеянных фигурками майя. Похоже, что именно эта картина ознаменовала переход Гогена к ярко выраженному дикарству и варварству в своих произведениях. Эти качества он вскоре в изобилии обнаружит в искусстве Маркизских островов, которое будет интерпретировать так же вольно, как и все остальное. Неизменными останутся лишь легко узнаваемые стилизованные формы тики – идолов с непропорциональными и ужасающими головами, родом из этих мест. Маркизские острова славились своей жестокостью и каннибализмом. Для Гогена же они были средоточием одновременно архаизма, который он хотел найти, и синкретизма, которому он хотел дать право на жизнь. «Идол с раковиной» тоже напоминает Будду. Правда, у идола острые зубы. Фигурки, вырезанные на спине, похожи на полинезийские. Резной «Деревянный цилиндр с Христом на кресте» имеет фаллическую форму и вызывает ассоциацию с изваяниями острова Пасхи. «Именно вся форма в целом, – комментирует эту работу Кирк Варнеде, – а не только детали орнамента, заимствованные в искусстве Океании, придает произведению примитивистский облик. Расположив символы мученичества на корне, который сам является символом зачатия, автор, несомненно, намекает на теорию, согласно которой фаллический культ лежит в основе всех религий».
«Мечта, приведшая меня на Таити, была жестоко разбита реальностью: оказалось, что я любил Таити, ушедший в прошлое». Именно этот Таити минувших времен Гоген отныне будет создавать в своей живописи. В «Парахи те Мараэ (Тут находится храм)» Гоген изобразил на фоне горы огромного тики, расположившегося на ярко-желтом, как у Винсента, холме, обнесенном оградой. Словно сошедшая с японских эстампов статуя была изображена в декоративном стиле Маркизских островов. Этот тики перекочевал сюда из «Ареареа (Забавы)», где сидящая на корточках молодая женщина в белом платье (знак траура?) задумчиво слушает, как ее подружка играет на флейте. На переднем плане нарисована красная собака. На фоне горизонта, закрытого густой листвой, мы видим тики и обращенных к нему с мольбой женщин. «Я держал кисть, а маорийские боги водили моей рукой». А в «Автопортрете с идолом», где Гоген попытался передать свое настроение перед началом этой авантюрной поездки, он изобразил себя в бретонском жилете рядом с выточенной им самим статуэткой богини Хины, которая «принадлежит лишь воздуху и воде, земле и луне».
Чем дольше художник жил на островах, тем больше замыкался в воображаемом мире, которому сам же и придумывал прошлое. По его убеждению, оно восходило к самым истокам человечества, к истокам искусства, и это прошлое он мог считать своим. Одна из лучших картин Гогена – «Манао Тупапау (Дух мертвых бодрствует)». История ее такова. Однажды Гоген уехал в Папеэте, чтобы уладить кое-какие дела перед отъездом в Европу, и вернулся только в час ночи: «Когда я вернулся, лампа не горела, и в комнате был полнейший мрак. Я зажег спичку и увидел ее на кровати… Она очнулась, бедное дитя, и я изо всех сил постарался ободрить ее». Не приходится сомневаться, что Гоген сочинил совсем иную историю для Метте, когда прислал ей это произведение вместе с восемью другими полотнами. Их любезно согласился взять с собой канонир лейтенанта Жено, который возвратился во Францию в декабре 1892 года. «Бедное дитя» Гоген изобразил лежащей на кровати на животе нагишом: «В таком положении нет ничего особенного, но оно непристойно. Тем не менее мне хотелось изобразить ее именно так, передать все ее линии и изгибы. У нас девушка опасалась бы быть застигнутой в подобной позе, местная женщина – никогда. Ее лицу я придал немного испуганное выражение. В этом народе живет традиция великого страха перед духами мертвых. Мне необходимо было выразить этот страх, прибегнув к минимальному количеству художественных приемов, как это делалось раньше. Основной тон картины, тревожащий и грустный, заставляет вздрагивать, как при погребальном звоне. В глубине изображены несколько цветков. Но они не должны быть реальными, поскольку созданы воображением. Я их сделал похожими на искры. Для канаков фосфорические огоньки, которые они видят ночью, – это души умерших. Они в них верят и боятся их… Около кровати я изобразил привидение в виде обыкновенной женщины, поскольку девушка должна видеть самого покойника, связанного с духом умерших, то есть существо, подобное себе». Позднее он будет объяснять, что включил в свою композицию «музыкальную часть: горизонтальные колышущиеся линии, аккорд оранжевого и голубого, переплетенный с желтым и фиолетовым… И литературная часть: дух живых связан с духом мертвых. Ночь и День». Никогда еще Гоген не писал Теха’аману такой юной и сладострастно поджидающей того, кто должен ее защищать. В «Тупапау» художник выразил свои фантазии, свою причастность через общение с Теха’аманой к другому Таити – отошедшему в прошлое. Женщину, привидевшуюся Теха’амане, Гоген изобразил в профиль, однако глаз ее нарисован анфас. Пятнадцать лет спустя Пикассо сочтет этот прием отличительным знаком примитивизма и так же изобразит одну из своих «Авиньонских девушек», ту, что слева. «Манао Тупапау» действительно будет иметь большой успех. Шарль Морис, Октав Мирбо, Роже Маркс, Таде Натансон с энтузиазмом примутся расхваливать картину. Ее сюжет станет хорошо известен благодаря литографиям и гравюрам. И невольно напрашивается мысль: а не является ли это произведение таитянской разновидностью «Олимпии»?
Итак, в декабре Гоген отправляет Монфреду восемь полотен и советует Метте отобрать некоторые из них для продажи. Некоторые его толкования таитянских названий позволяют нам лучше понять замыслы художника. Так, «Манао Тупапау» превратилось в «Думай, или Веруй в привидение», а «Парахи те Мараэ» получило следующий комментарий: «Мараэ, храм, место, отведенное культу богов и человеческим жертвоприношениям». Каждую свою картину Гоген оценил в шестьсот – восемьсот франков, только «Манао Тупапау» значительно выше, с ней он вообще не хотел расставаться. Эти картины должны были принести шесть тысяч франков, а пока положение художника было отчаянным, ведь в кармане у него осталось всего пятьдесят франков. Наконец, Метте выслала ему сто франков. Он вновь оказался на ее иждивении и был вынужден объяснять, что теряет зрение, а питается только фруктами и водой. В итоге, триста франков, полученные от одного из друзей, и семьсот от Метте помогли Гогену кое-как свести концы с концами. Тогда же он узнал от Монфреда, что Шарль Морис, который не вернул ему взятые в долг пятьсот франков, вот уже около двух лет придерживал деньги от продажи полотен, переданных ему Жуаяном, что составляло на тот момент сумму в восемьсот пятьдесят франков! Эти тысяча триста пятьдесят франков могли бы спасти Гогену жизнь. «Боже, до чего же я взбешен. Кажется, меня поддерживает одна ярость!»
Все шло из рук вон плохо. В феврале 1893 года Гоген узнал, что еще в октябре 1892 года скончался от тифа Орье. «Нам решительно не везет, – писал художник Монфреду, – Ван Гог [Тео], потом Орье, единственный критик, который хорошо понимал нас и мог в один прекрасный день оказаться нам весьма полезным». В апреле 1892 года Орье опубликовал свою большую статью «Символисты», в которой представил Гогена «бесспорным новатором». Гогену стало известно об этом лишь спустя несколько месяцев от Метте: «Я знал Орье и считаю, что в своей статье он отводит мне слишком незначительную роль. Я создал это движение в живописи, и многие люди, наделенные определенным талантом, извлекают из него выгоду, но повторяю еще раз: создал их именно я. Они ничего не придумали сами, все переняли у меня…» Конечно, смерть Орье опечалила Гогена, но гораздо больше его тревожила собственная судьба, нежели судьба других. Уж отчего он действительно горевал, так это оттого, что его не признавали настоящим главой школы… Эти его притязания были, в общем-то, не совсем справедливы, если вспомнить о Серюзье или Морисе Дени. Но в своем таитянском одиночестве Гоген очень много размышлял о своих неудачах и разочарованиях, чтобы объективно оценивать ситуацию. И это ему сполна зачтется после возвращения в Париж.
В очередной раз Гоген взваливает на себя непосильную ношу. Картины, подписанные 1893 годом (за исключением «Эа хаэре иа оэ (Куда ты идешь?)», более известной как «Женщина, держащая плод») по своему духу глубоко архаичны. «Женщина, держащая плод», повторяющая тему одного из полотен 1892 года, – одно из самых величественных изображений свободной и естественной таитянской жизни, о которой так мечтал Гоген. Более ярко это проявилось только в «Таитянских пасторалях». Об этом полотне художник рассказывал Монфреду: «Поскольку через несколько дней наступит 1 января, я подписал одно из них – самое лучшее [из тех картин, что он послал] – 1893 годом. В порядке исключения я ему дал французское название, так как не нашел соответствующего слова на языке канаков. Не знаю почему, хотя все покрыто чистым зеленым веронезе и такой же киноварью, мне кажется, что это старинная голландская картина или старинный гобелен. Чему приписать это? Впрочем, все мои картины кажутся мне вялыми по цвету». Вероятно, художник полагал, что это происходит потому, что он уже давно не видел академических работ. Сюжет полотна близок к «Ареареа». Вновь возвращаются красная собака и девушка, играющая на флейте. Нет больше тики на горизонте, вместо него появляется горизонтальное сочетание чистых цветов.
Именно этим объясняется своеобразие произведения. Красная река и черный горизонт могли бы навести на мысль, что действие происходит ночью, если бы не режущее глаза свечение центральной части полотна, где резко контрастируют зеленый, красный и желтый цвета. Поражает нарочитый излишек декоративности в изгибах ветвей дерева, которое, как и в «Видении после проповеди», держит на себе всю композицию. В 1895 году он писал Тардье: «Своеобразным расположением линий и цветов я добиваюсь […] симфоний, гармонии […], которые должны заставлять мыслить так же, как заставляет мыслить музыка, не прибегая к помощи конкретных понятий или образов». Не указывают ли нам путь к этой музыке девушка, играющая на флейте, и само название произведения? И девушка, несущая корзину, и собака смотрят куда-то вдаль, за пределы картины, на что-то их заворожившее. Два других произведения из той же серии – «Матамуа (В былые времена)» и ее вариант «Хина Маруру (Праздник Хины)» – осенены знаком Хины, богини Луны, и воспевают чистую и свободную жизнь в давно минувшие времена, еще до вырождения, начавшегося с приходом миссионеров. Их объединяет с «Эа хаэре иа оэ» и «Таитянскими пасторалями» гармония форм и цветовые решения.
И совсем из прошлого вынырнула картина «Хина Тефатоу (Луна и Земля)». Девушка утоляет жажду из источника, который бьет около груди огромной мужской фигуры. Ее голова, запрокинутая назад, напоминает головы изваяний инков. Мужчина хмур и суров. От девушки исходит тепло, как и от красных пронзительных мазков вверху и внизу полотна. Название картины пробуждает в памяти следующие строки из «Ноа-Ноа»: «Вставала луна, и, глядя на нее, я вспоминал об этом священном диалоге. Хина говорила Тефатоу: „Воскресите человека после его смерти“. И бог Земли отвечал богине Луны: „Нет, я не стану его воскрешать. Человек умрет, растительность умрет, так же как и те, кто ею питается. Земля умрет… Жизнь закончится, чтобы больше никогда не возродиться“. Хина ему на это сказала: „Поступайте так, как вам угодно. Я же воскрешу Луну“. И то, чем владела Хина, продолжило существование. А то, чем владел Тефату, погибло, и человек должен был умереть».
Благодаря этим же легендам появилась и картина – «Папе моэ (Таинственный источник)», хотя при ее создании Гоген пользовался фотографией человека, пьющего из источника. На полотне мужчина превратился в женщину, одетую в египетскую набедренную повязку. Своей живописью Гоген стремился облагородить сцены повседневной жизни, показать ее неразрывность и единение с окружающим миром. В его книге «Разное» есть такие слова: «В цирке, окрашенном в странные цвета, подобно потокам то ли дьявольского, то ли божественного напитка, таинственный источник бьет ключом в искаженные губы Неведомого. Раздадутся возгласы (на выставке у Дюран-Рюэля): „Но это же безумие, где он такое увидел?“ Пусть они поразмыслят над такими словами: „Только мудрец старается проникнуть в тайну притчи“». Именно в этом контексте надо рассматривать и понимать картину «Мерахи метуа но Техамана (У Теха’аманы много предков)», которая, вне всякого сомнения, является своего рода прощанием с ней. Гоген вложил в руки Теха’аманы веер, похожий на тот, которым он одарит во время второго пребывания на островах королеву с картины «Те арии вахине (Королева)». Он одел ее в очень элегантное миссионерское платье и заботливо украсил волосы белыми и красными цветами. Рядом с ней лежат два плода манго, ставшие со времени посещения Мартиники символами тропической экзотики и плодородия. Позади нее находятся несколько идолов. Вверху картины начертаны строки, составленные из значков, обнаруженных на острове Пасхи и наделавшие много шума на Всемирной выставке 1889 года в Париже. Здесь они служат напоминанием о былой полинезийской культуре. Никогда ранее Теха'амана не олицетворяла собой столь наглядно все то, что Гоген вкладывал в понятие первобытного Таити. Возможно, поэтому он так идеализировал Теха’аману, изобразив ее буквально в виде статуи, словно богиню.
В конце марта он писал Монфреду: «Вот уже два месяца, как я перестал напряженно работать: довольствуюсь тем, что наблюдаю, раздумываю и делаю заметки. За два года пребывания здесь – несколько месяцев, правда, были потеряны даром – я высидел шестьдесят шесть более или менее приличных полотен да несколько сверхдикарских скульптур. Этого вполне достаточно для одного человека». Хотя Гоген не сомневался в ценности своей работы, тем не менее он задавался вопросом, что же его ждет в Париже. «Сейчас вся группа молодежи, идущая по моим стопам, пришла в движение и, как говорят, имеет успех; так как они моложе, более ловки и у них все козыри в руках, то меня, возможно, удушат в дороге. Но я рассчитываю, что этот новый, таитянский этап поможет мне наверстать упущенное: он даст что-то иное по сравнению с моими бретонскими этюдами, и им потребуется еще некоторое время, чтобы нагнать меня на этом пути».
Проведя в таком настроении несколько недель в Папеэте с Теха’аманой, Гоген 4 июня на крейсере «Дюшофо» покинул наконец Таити. В своих последних письмах к Метте он говорил, что намерен остепениться и хлопотать о месте преподавателя рисования в лицее: «Эти инспекторы очень мало заняты, а платят им отлично – десять тысяч франков в год». В письме, отправленном незадолго до отъезда, Гоген совсем расчувствовался: «Сейчас самое время подвести черту, поскольку мы сполнавыполнили свой долг (…) Ты права, мне необходимо вернуться. Было бы неплохо поработать на Маркизах, это принесло бы мне огромную пользу, но я устал, и возникла насущная необходимость привести в порядок свои дела во Франции. К сожалению, я вернусь летом, а это не самое удачное время для дел […] Не ошибаешься ли ты, сообщая мне, что рост Эмиля – 1,96 метра, ведь это означает, что за шесть месяцев он вырос на восемнадцать сантиметров…»
Но вопреки всем надеждам, невзгоды Гогена еще не закончились – он был вынужден прожить за свой счет двадцать пять дней в гостинице в Нумеа, прежде чем ему удалось 16 июля на пароходе «Арман Беик» отплыть в Марсель. Более того, ему пришлось доплатить за билет второго класса, настолько плохими были условия в третьем. Из Марселя он написал Метте: «В Красном море было невыносимо жарко, и нам пришлось бросить за борт тела трех пассажиров, умерших от жары». Когда Гоген 30 августа (а не 3-го, как полагал Малинг) сошел на берег в Марселе, у него оставалось только четыре франка. Обратный путь занял три месяца. И тем не менее художник писал Метте: «Я доволен, что добрался в таком хорошем состоянии. За полгода я набрался сил и поправился. Ты обнимешь мужа, не слишком похожего на облезлого кота и не изнуренного». Навряд ли эти строки доставили удовольствие Метте, не испытывавшей никакого желания делить с мужем супружеское ложе. Однако они свидетельствуют о том, что Гоген явно преувеличивал, когда писал жене 6 апреля: «Вот уже на протяжении девяти лет мне часто нечего есть. Два месяца тому назад я был вынужден до предела сократить все расходы на еду».