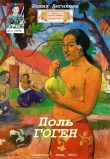Текст книги "Поль Гоген"
Автор книги: Анатолий Левандовский
Соавторы: Пьер Декс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
Этот культурный синкретизм еще более отчетливо выражен в «Натюрморте с „Надеждой“», где Гоген окружил подсолнухи, стоящие в вазе, украшенной варварскими фигурками, надписью, заимствованной из «Надежды» Пюви де Ша-ванна, а прямо внизу изобразил входящую в ванну женщину, напоминающую героинь Дега. Глаз Редона присутствует и в «Натюрморте с подсолнухами и манго», и в вазе, расписанной в восточном стиле, с ручками в виде демонов – такие фигурки делают в Африке. Изукрашенная чаша вновь возникает в «Натюрморте с ножом», также из коллекции Бюхрля. В этой картине Гоген, несомненно, отдает дань уважения Мане и Сезанну, причем последнему еще и в «Натюрморте с грейпфрутами» (а не с яблоками, как полагал Вильденштейн), где экзотика фруктов усилена изображенными рядом стручками красного перца и орхидеями.
Единая религия, великое искусство всего человечества, преодолевающая различия, обстоятельства, убеждения, – вот о чем мечтал Гоген, когда яростные приступы болезни убеждали его, что рисовать ему осталось недолго. Судя по его натюрмортам, Гоген мысленно уже покинул Таити. Поэтому, мне кажется, его картину «Мать и дочь» можно отнести к этому же творческому периоду, хотя рыжеволосая натурщица по имени Тохотауа появилась у Гогена только на Маркизских островах. На такой вывод меня навела не только фотография, которая, как справедливо полагает Ричард Бретелль, сделана профессионалом, возможно, Лемассоном, но и чрезмерная, величественная стилизация двух женщин на фоне таитянского пейзажа и описание маорийской свадьбы из «Ноа-Ноа», в котором тот же Бретелль видит явную связь с картиной. Эти строки действительно потрясают: «В центре стола с благородным достоинством восседала жена вождя. В своем странном и претенциозном наряде из оранжевого бархата она казалась героиней ярмарочного театра. Но присущее ее расе изящество и сознание своего ранга придавало ей и в этой мишуре некую величественность… Рядом с ней сидела почти столетняя старуха, ужасающая в своей дряхлости, два ряда безупречных зубов людоедки делали ее еще страшней. На ее щеке была татуировка – темное пятно неопределенной формы, которое напоминало какую-то букву…»
Эти воспоминания и нашли отражение в картине Гогена, так же, как Винсент Ван Гог, Редон, Пюви де Шаванн и Сезанн ожили в его натюрмортах. И не нужно искать татуировку и зубы людоедки на лице старой женщины, гораздо важнее разница в возрасте двух женщин. Таким способом художник хотел показать непреходящий характер естественного величия этих женщин, воплощающих традиции народа. Неважно, где была написана эта картина; она наполнена чувством прощания с Таити, с его извечной, неподражаемой необузданностью – такова мысль, которую выражает это на первый взгляд стоящее особняком произведение. На другой картине, носящей совершенно нелепое название «Идиллия на Таити», морю, в волнах которого появляется огромный парусник, противопоставлен пейзаж с двумя женщинами и большие деревья – они-то и держат на себе всю композицию. Не имеет значения, что парусник «приплыл» сюда с картины Йонкинда, виденной у Ароза. Здесь он символизирует приход чего-то чуждого, опасность, которую несет с собой цивилизация.
На картине «И золото их тел» Гоген изобразил в столь излюбленных им очаровательных позах двух женщин, сидящих перед костром красных цветов. Сюжет напоминает картину «А, ты ревнуешь?», созданную во время первого пребывания на Таити. Но то, что тогда было обыкновенной жанровой сценкой, сейчас стало символом незыблемости расовых признаков этих женщин и присущего им благородства. Туземки смотрят испытующе, как будто хотят понять зрителей, увидеть в них нечто похожее.
Картина «Всадники», которую также называют «Бегство» (поскольку другое ее название, «Брод», звучит довольно абсурдно), излучает призрачный свет, как и на полотне «Дух мертвых бодрствует», причем настолько отчетливо, что мы вслед за Вильямом Кейном вправе усмотреть в ней вариацию гравюры Дюрера «Всадник и смерть». По сути, это полотно, как и картина «И золото их тел», является антологией наиболее важных моментов живописи Гогена.
«Возле хижин» можно смело включить в число прощальных картин, поскольку мы знаем, что Гоген написал этот пейзаж уже после того, как окончательно решился на переезд и даже выставил на продажу свое жилье. Он писал Монфреду: «Публика слишком привыкла к Таити. Свет до того глуп, что, когда ему покажут полотна, содержащие нечто новое и страшное, Таити станет понятным и очаровательным. После Таити мои бретонские работы стали казаться розовой водицей, после Маркизских островов Таити станет казаться одеколоном».
В мае Гоген сообщил Монфреду и Воллару свой будущий адрес на острове Хива-Оа. И тут он узнал, что не имеет права самолично распоряжаться тем, что считается общим имуществом супругов: для продажи требовалось разрешение жены. Гоген поручил Монфреду отправиться «на штурм» Метте. Если она откажется, то «подумайте, нет ли способа заставить ее это сделать, принимая во внимание, что все имущество супругов находится в ее руках (хотя нажито мной)». Гоген сгорал от нетерпения, ожидая ответа от Метте. Неожиданно выяснилось, что эту формальность можно обойти, «дав объявление о продаже через регистрационную контору». И если по истечении месяца никто не явится, чтобы наложить арест на имущество, то жена просто освобождается от ипотечного права. Остается добавить, что доверенность от Метте, без единого лишнего слова, пришла через месяц после того, как Гоген осуществил эту сделку.
В то время, как Гоген улаживал формальности, Морис на свои средства издал отдельной книгой «Ноа-Ноа», предварительно опубликовав первую главу в «Ла Плюм». В июне он сообщил Гогену, что выслал ему сто экземпляров, которые, впрочем, так и не дошли до адресата. Это обстоятельство нисколько не огорчило Гогена; он ответил, что на Таити эти экземпляры «годны только на растопку». Зато другая новость привела художника в восторг. Морис задумал открыть общественную подписку, чтобы за десять тысяч франков приобрести «Откуда мы?» (точно так же в 1890 году была куплена «Олимпия» Мане) и преподнести ее в дар Люксембургскому музею. Гоген возражал лишь против огромной суммы: «…пяти тысяч франков было бы вполне достаточно». Совсем другой была реакция Воллара, который, в отличие от Гогена, не забыл, что Морис не умел отличать чужие деньги от своих. Он-то и принял меры, чтобы эта затея так и не осуществилась. Гоген о проделках торговца узнал лишь много времени спустя.
А пока он буквально лез из кожи вон, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Он писал Морису: «Сейчас я повержен в прах, побежденный нищетой и в особенности болезнями старости, совершенно преждевременной. Будет ли у меня какая-либо передышка, чтобы закончить мой труд? Не смею надеяться на это. Во всяком случае, я делаю последнее усилие – в будущем месяце отправлюсь устраиваться на Фату-Хива – один из Маркизских островов, где живут еще чуть ли не людоеды. Думаю, что там эта абсолютная дикость, это полное одиночество вызовут у меня перед смертью последнюю вспышку энтузиазма, который омолодит мое воображение и завершит развитие моего таланта».
7 августа Гоген продал свои владения за четыре тысячи пятьсот франков, отдал последние долги в Земледельческую кассу и издал последний номер «Ос». В течение всего следующего месяца он готовился к переезду, что оказалось весьма непростым делом. Он отправил Воллару пять оставшихся картин, дал последние наставления Монфреду, не преминув разразиться угрозами в адрес Воллара, заявив: он «нарочно заставил меня долго прозябать в нищете, чтобы потом скупить по дешевке мои картины». В этом же письме он разъяснил, как нужно понимать его последние произведения: «Я всегда говорил (если не говорил, то думал), что литературная поэзия у художника есть нечто особое, а не иллюстрация или перевод сочинений на язык зрительных образов; в общем, в живописи надо искать скорее намек, чем описание, как это обстоит и в музыке. Меня иногда обвиняют в непонятности как раз потому, что ищут в моих картинах объяснений, в то время как их там нет». Что касается критиков, которых Гоген поносил, испытывая при этом «чувство выполненного долга», то он называл их «кучей болванов, стремящихся анализировать наши радости.Хотя бы они, по крайней мере, не воображали, что мы обязаны доставлять им удовольствие».
Гоген не стал улаживать свои отношения с Пахурой. Он наверняка уже мечтал о девочках-подростках с Маркизских островов, которые считались более утонченными натурами, чем таитянки. Когда 10 сентября Гоген сел на пароход «Южный крест», он твердо знал, что ему предстоит путешествие в один конец.
Глава 4«Дом наслаждений»
Пятидесятитрехлетний человек, сошедший 16 сентября с трапа «Южного креста» на пристань Атуоны, главного города острова Хива-Оа, выглядел глубоким стариком. Он с трудом передвигался, опираясь на трость с причудливо вырезанной рукояткой, на носу его были очки в металлической оправе, которые стоило только снять, как он тут же забывал, куда их положил. Тем не менее ничто не могло сокрушить его поразительную энергию. Наконец-то Гоген приблизился к воплощению своей мечты. К тому, что он так часто изображал на своих картинах, хотя ничего похожего и не видел на реальном Таити. Теперь ему предстояло прикоснуться к древней цивилизации создателей тики, к народу, ставшему наследником этой цивилизации. Именно эта мысль владела им и заставляла забывать о физических недугах.
Последний этап таитянского периода был своего рода подготовкой к этому решающему испытанию. Свои мысли по этому поводу Гоген изложил в «Разном», заметках, добавленных в рукопись «Ноа-Ноа»: «И вот пришли импрессионисты! Они изучали только цвет, помня лишь о его украшательском эффекте, но забыли о свободе и остались рабами правдоподобия. Для них не существовал идеальный, созданный воображением пейзаж. Они смотрели и видели гармонию, но при этом не преследовали никакой цели». Именно эти строки служат ключом к пониманию следующей фразы, цитируемой всегда в отрыве от этих слов о свободе, которую можно завоевать лишь в борьбе с «рабами правдоподобия»: «Они искали вокруг, опираясь на то, что видят глаза, а не в таинственном центре, находящемся в мозгу, и потому стали жертвами научности». Гоген никогда не простил Сёра, что тот так и не смог этого понять. Теперь он считал, что является единственным, кто «поверил в возможность прогресса в искусстве», и готовился довести этот процесс до победного конца.
Поэтому до весны 1902 года Гоген будет жить ради этой цели, перенося свои впечатления на картины и скульптуры и воплощая в них свои идеи именно так, как хотел, за чем он и приехал на Маркизские острова.
Встречали Гогена на Маркизах очень торжественно. Все католики, французские торговцы и плантаторы в сопровождении монахинь приветствовали его как журналиста газеты «Осы»! Молодой уроженец Индокитая Нгуен Ван Кам, известный под именем Ки Донг, оказался превосходным гидом. Колониальная администрация выслала его за революционную деятельность сначала на Таити, а затем на Маркизские острова, где он работал санитаром. Хотя, по свидетельству Даниельссона, гораздо лучше, чем в медицине, Ки Донг разбирался во французской культуре.
В последние месяцы жизни, тяжело страдая от невзгод и болезней, Гоген напишет в «Прежде и потом»: «Окрыленный, я поспешил вперед, похожий на девственницу, у которой окажется ненормально развито лонное сочленение», для того чтобы затем «просто-напросто избавиться от иллюзий». По правде говоря, вначале Гоген соблюдал все условности. Он представился властям, сержанту жандармерии Шарпийе и военному врачу Бюиссону, с которым познакомился на Таити. Очень быстро поняв, что на архипелаге больше не существует каннибальского Эдема, Гоген отказался от первоначального намерения ехать на остров Фату-Хива. «Сейчас ни за какие деньги не найти красивых вещей из кости, черепахи, железного дерева, которые они когда-то делали. Жандармерия все это похитила и продала любителям-коллекционерам, а администрации даже не пришло в голову устроить на Таити музей океанийского искусства». Так зачем уезжать далеко от Атуоны, единственного порта, имевшего сообщение с Таити, а значит, и с метрополией, и к тому же единственного места, где был врач?
В центре деревни Гоген отыскал уголок, который идеально ему подходил – ведь ходил он с большим трудом. Прямо напротив американец Бен Варни держал лавочку, где можно было купить все необходимое. Гоген писал, что, к сожалению, «только миссия сдавала в аренду и продавала земельные участки. Епископ отсутствовал, и мне пришлось ждать целый месяц. Мои чемоданы и древесина для строительства дома остались на берегу. Сами понимаете, что в течение этого месяца я каждое воскресенье ходил к мессе, изображая из себя добропорядочного католика и журналиста, ведущего борьбу с протестантами. Я создал-таки себе репутацию, и монсеньор, не догадываясь о моем лицемерии, изволил (потому что это был я) продать мне небольшой заросший каменистый участок за шестьсот пятьдесят франков».
Но Бенгт Даниельссон установил, что купчая была подписана 27 сентября, то есть спустя одиннадцать дней, а не месяц, после приезда Гогена. И если Гогену пришлось посещать мессу, как он сообщал в письме, то лишь потому, что для строительства дома он нанял «нескольких мужчин по рекомендации епископа». Как только в ноябре хижина была готова, Гоген перестал ходить в церковь. У него работал лучший плотник острова, по имени Тиока, который вскоре стал другом художника. Гоген не жалел красного вина, которое, как и все другие алкогольные напитки, продавать туземцам было запрещено. И уже через несколько недель вселился в двухэтажный дом, построенный по собственному проекту. Позже, благодаря свидетельствам очевидцев, собранным Бенгт Даниельссоном, удалось довольно точно воспроизвести это жилище.
На первом этаже, построенном из бруса, находились две комнаты. Их разделяло открытое пространство, где Гоген устроил столовую, чтобы наслаждаться свежим воздухом. В последние дни своей жизни, когда художник мог перемещаться лишь в повозке с открытым верхом, он там оборудовал место и для нее. Одна из комнат служила скульптурной мастерской, другая – кухней. Внутренние стенки второго этажа, где располагались большая мастерская и маленькая спальня, были сделаны из бамбуковой плетенки, чтобы в помещение мог свободно проникать свежий воздух. От Луи Греле, единственного оставшегося в живых друга Гогена, Даниельссон узнал, что на второй этаж вела внешняя лестница, которая заканчивалась дверью в спальню, украшенную пятью резными панно. В 1984 году эти панно были представлены на выставке «Примитивизм в искусстве XX века» в Музее современного искусства. На верхнем панно была вырезана надпись – «Дом наслаждений», а на каждом из двух вертикальных – по обнаженной женщине, приветствовавшей входящего. На двух нижних горизонтальных панно, которые располагались по обеим сторонам входной двери, были изображены женские бюсты; слева от них было написано – «Будьте загадочны», а справа – «Любите и будете счастливы». Гоген не мог придумать ничего лучшего, чтобы восстановить против себя епископа и все религиозные миссии.
В первой, маленькой комнате стояла шаткая кровать, спинки которой также были украшены резными скульптурами и декоративным орнаментом. По свидетельству Греле, в мастерской царил беспорядок, делавший ее похожей на сарай. В центре стояла небольшая фисгармония, а перед большим окном (всего в мастерской их было шесть) возвышались козлы. У Гогена было два комода, но их ящики оказались слишком маленькими, и поэтому он велел установить вдоль стен этажерки. Однако наиболее ценные вещи хранились в прочных ларях с висячими замками. На стенах были развешаны репродукции картин и сорок пять порнографических открыток, купленных в Порт-Саиде.
Надо сказать, что нравы жителей Маркизских островов, несмотря на давление со стороны священников, позволяли полную сексуальную свободу. Описанный Гогеном обмен партнерами прекрасно сочетался с обычаем, когда все подростки деревни по очереди лишали девственности девочку, достигшую половой зрелости. Эти местные варварские обычаи еще больше разжигали влечение Гогена к лолитам [27]27
То есть несовершеннолетним; намек на одноименный роман В. Набокова. (Прим. науч. ред.)
[Закрыть]. Они же оказывались для него недоступными, поскольку епископу, прибегнувшему к принудительным мерам и разного рода посулам, удалось добиться, чтобы местные жители отправляли девочек-подростков в школу при монастыре. Однако это не мешало туземцам приходить каждый вечер в «Дом наслаждений», пить вино и смеяться, разглядывая фотографии. И какая-нибудь из молодых женщин, получив от Гогена подарок, обычно с ним оставалась. Кстати, нашелся отличный способ избежать строгостей, введенных епископом. Как поясняет Даниельссон, в школу обязаны были посылать своих детей только те родители, которые жили от нее в радиусе четырех километров. Следовательно, нужно было просто поселиться немного дальше.
Гогену удалось убедить семью, жившую в Хекеани, в десяти километрах от Атуоны, забрать из школы их четырнадцатилетнюю дочь Мари Роз Ваеохо, чтобы она стала его вахиной. 18 ноября 1901 года он преподнес родителям роскошные подарки: восемь метров муслина, шесть метров хлопчатобумажной ткани, семь метров вощеного ситца, десять метров набивного ситца, три дюжины лент, дюжину метров кружев, четыре бобины ниток и швейную машину. Все эти сведения удалось почерпнуть из сохранившейся расходной книги Бена Варни. В «Доме наслаждений» Гоген вел жизнь настоящего буржуа – со своим поваром по имени Кахуи, садовником и двумя служанками.
И только тогда Гоген принялся за работу. Он пишет в ноябре Монфреду: «Я очень доволен принятым мною решением. Уверяю вас, что все, относящееся к живописи, просто прелестно. Модели! Это чудо, и я уже начал работать […] Здесь, в моем уединении, есть где пройти вторичную закалку. Здесь поэзия проступает сама по себе, и достаточно довериться мечте, когда пишешь, чтобы дать о ней представление. Я прошу только два года здоровья и не слишком много волнений из-за денег, что теперь очень сильно отражаются на моих нервах, – и я достигну некоторой зрелости в своем искусстве». Любопытно, но мы не обнаруживаем даже малейшего присутствия Ваеохо в живописных работах Гогена. Возможно, со своим тонким девичьим телом она устраивала его в постели и абсолютно не интересовала как натурщица. Его манила к себе более зрелая женщина с рыжими волосами, приехавшая с соседнего острова Тахуата. Звали эту красавицу Тохотауа. К счастью, до нас дошла фотография Тохотауа, сделанная Луи Греле, когда она позировала в «Доме наслаждений». Ей суждено было стать «Девушкой с веером». Сравнение с фотографией показывает, что Гоген переделал ее кудрявые волосы на прямые, а парео превратилось в белую набедренную повязку, оставляющую обнаженной грудь. Кресло, в котором она сидит, Гоген придумал сам. Стоит ли напоминать, что на Маркизских островах белый цвет был цветом траура, а веер из перьев – отличительным знаком королевы? Все это уже достаточно необычно, но неповторимое очарование картине придает именно мечтательно-отрешенный взгляд молодой женщины. Задний план выписан желто-горчичными и охряными тонами. Вместе с коричнево-красным цветом волос они оттеняют цвет кожи на груди и теле, а небрежность позы подчеркивает глубокую задумчивость этой языческой королевы, носящей траур по своему исчезнувшему царству.
Тот же эффект особой чувственности можно наблюдать и в новом варианте «Варварских сказаний». Однако там, напротив, царит декоративная роскошь. Вот воскресший Мейер де Хаан из «Нирваны», погруженный в пристальное созерцание. Повернувшись к нему спиной, в позе Будды застыла молодая женщина с неподвижным взглядом. На переднем плане изображена в профиль коленопреклоненная молодая женщина с рыжими волосами, зачарованная вид е нием на горизонте, недоступным нашему взору. Эти три немых персонажа посреди чудесного ночного пейзажа и составляют для нас «Варварские сказания», название, которое Гоген старательно вывел рядом со своей подписью. Эта же атмосфера, общая для картин того периода, ощущается и в большом полотне «Зов» из музея Кливленда, и в паре «Любовников», погруженных в свои мысли, совсем как «Девушка с веером». Особенно же эта необычная атмосфера усиливается в полотне «Колдун с Хива-Оа».
И хотя Гоген никогда не давал этому произведению подобного названия, оно тем не менее прекрасно передает чувство растерянности, которое мы испытываем, глядя на длинноволосого, пристально смотрящего на нас человека, одетого в короткую фиолетовую тунику и просторную красную накидку. Даниельссон сообщает нам, что это портрет Хаапуани, мужа Тохотауа, «Девушки с веером», который был лучшим танцором, лучшим скульптором и самым уважаемым колдуном Атуоны. Коренной житель Маркизских островов, убежденный католик, он прекрасно говорил по-французски и первым согласился отдать свою жену другу при условии, что она не станет возражать. Надо полагать, Гоген не был намерен лишать себя такого удовольствия. Не соглашаясь с данной трактовкой, Ричард Бретелль настаивал на возможном гомосексуализме изображенного мужчины, указывая на его длинные волосы и причудливое одеяние. Но если речь идет о Хаапуани, то почему бы не усмотреть в этом произведении своего рода парный портрет священника древней религии к портрету королевы древнего царства, «Девушке с веером», которая к тому же была его супругой? Ведь Гоген по-прежнему страстно желал воскресить древний мир Маркизских островов.
Этот мир царит в обоих вариантах «Всадников на пляже», мизансцена которых словно заимствована у Дега. На розовом песке, на фоне морских валов и трех длинных голых ветвей, написанных на японский манер, Гоген собрал вместе несколько женских и мужских персонажей со своих полотен, в том числе и две странные фигуры, силуэты и прическа которых напоминают всадника из «Бегства». Гогена притягивал к себе этот образ, вскоре запечатленный им в большом монотипе. В нем он, вероятно, является носителем темы смерти.
На небольшой продолговатой картине «Группа с ангелом», которая сейчас находится в Праге, ангел, напоминает фигуру Боробудура, изображенную в обществе павлина и трех таитянок. Своими двусмысленностью и таинственностью он приводит зрителя в полное замешательство. Вне всякого сомнения, этот образ надо трактовать в сопоставлении с целым рядом связанных между собой произведений. При этом ни в коем случае нельзя забывать, что именно тогда Гоген закончил свое эссе «Католицизм и современное сознание», работа над которым была начата в 1896–1897 годах, когда у него созрел замысел «Откуда мы?». В 1902 году, вероятно, весной, Гоген добавил к эссе около пятнадцати резких, обличительных страниц, из-за которых только в 1974 году Даниель Герен смог опубликовать эту работу. Дополнив таким образом свое произведение, Гоген сделал для него обложку, где на лицевой стороне изобразил бордель Марии Магдалины, а на оборотной – «Рождество». Так появились маленькая картина «Рождество» и другая, побольше – «Сестра милосердия». «Рождество» предназначалось для того, чтобы шокировать католиков. И вовсе не потому, что оно переносит зрителя в Океанию, а потому, что в священнодействии участвуют полуобнаженные женщины, обмывающие полностью обнаженную женщину, которая только что родила. Реализм, совершенно невыносимый для набожных душ. В этом произведении отразилось желание художника соединить христианские темы с естественной жизнью обитателей Маркизских островов и продемонстрировать свое резко отрицательное отношение к тому, чем стала католическая церковь: «Грязная палка; совершенно непонятно, за какой конец ее надо держать».
«Сестра милосердия» явно похожа на европейку. К ней обращается туземец, а его попутчик, стоящий рядом, наблюдает за происходящим. Две женщины сидят на корточках. Одна одета в миссионерское платье, другая полуобнажена. Позади сестры туземка в миссионерском платье несет блюдо. Ее жест напоминает жест прислуги в борделе. Цвет кожи, платья, волос ставит сестру милосердия вне туземного мира. Она словно пришла туда извне. Она там чужая. Присевшие на корточки женщины ее не замечают вовсе. Заговоривший с ней мужчина преисполнен достоинства. Как писал Гоген в «Прежде и потом»: «Небелое население – это воплощение самой элегантности».
«Поклонение» являет нашему взору совсем юную женщину и такую же юную мать. Полуобнаженные, они стоят перед большим окном в комнате второго этажа, которая, без сомнения, и есть мастерская Гогена. Женщина, приносящая в дар цветы, наделена тем же врожденным благородством, что и женщина, кормящая ребенка грудью. Как и перед изображением роженицы, которую обмывают в «Рождестве», перед этой сценой мы забываем о цивилизованном ханжестве той эпохи.
Туземец, обращающийся к сестре милосердия, вновь появляется на полотне под названием «Таитянская семья», где он изображен с женой и детьми, и на полотне «Купальщики», на которое из картины «Всадники» перенесен берег с розовым песком и деревом с тремя длинными голыми ветвями. Экзотический фон «Варварских сказаний» присутствует здесь, и благодаря этому «Купальщики» становятся своего рода гимном, воспевающим свободную жизнь туземцев и воздающим должное собратьям по искусству, оставшимся во Франции, – Дега («Всадники») и Сезанну («Купальщики»).
Но вот наступила весна 1902 года, когда маркизские мечты Гогена столкнулись с самой нелицеприятной действительностью. Маркизы были не только островами, наиболее удаленными от Таити. Они находились в непосредственной близости от экватора. И хотя Гоген сделал все возможное, чтобы в «Доме наслаждений» было свежо, тропический климат вновь обострил его недуги, и нога стала так сильно болеть, что художник не смог ходить. Вновь появились симптомы, сильно его беспокоившие, – сердцебиение и общая слабость. Что же касается душевного состояния, то наконец-то он мог почувствовать себя спокойно, материальные проблемы, изводившие его на протяжении многих лет, отступили. В марте с первой же почтой, доставленной на Маркизские острова, Гоген получил деньги от Файе и Воллара. В свою очередь, Гоген сообщил, что в апреле он отправил восемнадцать полотен Монфреду и двадцать Воллару. Это говорит о том, что Гоген выполнил свои обязательства, подтверждая предположение, что самый активный период работы художника пришелся на первые три месяца 1902 года.
А затем колониальный режим, от которого Гоген бежал с Таити, вновь напомнил о себе самым неприглядным образом. Во второй половине марта в порту появился французский крейсер, на котором на Маркизские острова прибыли новый губернатор Пети и его свита. Пети прекрасно знал Маркизские острова, поскольку уже побывал на них десять лет назад. Сейчас он приехал с инспекционной целью, чтобы на месте ознакомиться с местными проблемами. Как пишет Даниельссон, «французские торговцы и поселенцы, естественно, ухватились за столь благоприятную возможность, чтобы высказать некоторые из накопившихся жалоб, и избрали, как и следовало ожидать, своим глашатаем известного патриота Гогена». Они жаловались, что многочисленные пошлины, почтовые сборы и налоги, которые платили французские резиденты Маркизских островов, шли на развитие Папеэте, в то время как другие острова практически ничего не получали. По свидетельству Даниельссона, губернатора сопровождал прокурор Шарлье, в свое время ставший одной из жертв «Ос» и по-прежнему питавший ненависть к Гогену. И когда Шарпийе показывал хижину Гогена губернатору, тот сказал: «Вы ведь знаете, что это отъявленный негодяй?» Поэтому, когда Гоген попросил о личной встрече с Пети, ему, как нетрудно догадаться, было категорически отказано.
Спустя некоторое время Гоген впервые получил от администрации уведомление о том, что он должен платить различного вида налоги на сумму в шестьдесят франков. Это заявление привело художника в ярость. Не стоит забывать, что Гоген приехал на край света, каким европейцам казались Маркизские острова, полагая, что «настало время удрать в более простодушную страну с меньшим числом чиновников». И вот чиновники напомнили Гогену о себе и потребовали от него денег, то есть частичку его плоти, как считал он, покинувший банк двадцать лет тому назад. При этом администрация не построила ни одного метра дорог в Хива-Оа, а собранные налоги целиком уходили на удовлетворение нужд алчного Таити, чему поселенцами были представлены многочисленные доказательства. Все это не могло оставить художника равнодушным. Более того, складывалось впечатление, что Гогена опять покинуло вдохновение, а вспыхнувшие с новой силой болезни сделали занятия живописью и вовсе невозможными. Теперь он брал чаще в руки перо, чем кисть. К тому же ему в голову пришла мысль, что хорошая свара послужит превосходным «обезболивающим» средством, способным к тому же вернуть ему социальный статус и благосклонное расположение публики, как во времена работы в «Осах».
Гоген тотчас же уведомил управителя Маркизскими островами, господина де Сен-Бриссона, что он категорически отказывается платить упомянутые налоги и что его повар Кахуи тоже не будет платить двенадцать франков подушной подати. И при этом совершенно не подумал о том, что, поступая подобным образом, он призывал «всех канаков» не платить налоги. Иными словами, подстрекал их к мятежу. Когда пришедший в ужас сержант Шарпийе попытался ему это разъяснить, Гоген только рассмеялся в ответ. Колониальная психология была ему чужда, к тому же у большинства туземцев вообще не было никакого имущества, а тем более денег. 3 апреля художник получил от управителя ответ, в котором говорилось, что его протест передан губернатору, но пока последний не сообщит свое решение, он, де Сен-Бриссон, обязан «неукоснительно выполнять закон, не вдаваясь в его обсуждение». Гоген по собственной воле попал в переплет, из которого ему не удалось выбраться до конца своих дней.
Кроме того, у Гогена появились веские причины вернуться к своему эссе, направленному против католической церкви. Он давно провоцировал епископа своими порнографическими открытками и резными изображениями, украшавшими «Дом наслаждений», раздражая его еще и тем, что был, «как поговаривают, бабником». Монсеньор же, со своей стороны, «на исповедях в разных концах острова узнавал множество новых, порочащих художника подробностей, да и некоторые сестры становились все более бледными, с кругами под глазами». И вот епископ решил укротить развращенный нрав Гогена, реакция которого на такое посягательство была мгновенной: «От меня требовать обета целомудрия! Это уж слишком. Номер не пройдет!» Чтобы публично изобличить гнусные поступки епископа, Гоген вырезал скульптуру «в маркизском стиле», изображающую монсеньора Мартена в виде рогатого дьявола, и поставил ее перед входом в «Дом наслаждений». Скульптуру он назвал «Отец-распутник» (она сохранилась до наших дней).