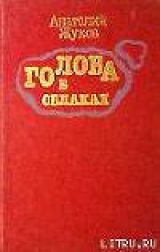
Текст книги "Голова в облаках"
Автор книги: Анатолий Жуков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
Благие надежды начальства не оправдались. После разгрома проектной магистрали Сеня не вышел из запоя изобретательства, не вернулся к заботам уткофермы и мелкой рационализации, но «задумался» еще глубже и неотступней. Должно быть, потому, что схватившая его тема дороги была не простая, а первоглавная, корневая. Это с электропрялкой, охранительной машиной или автоснегоходом решаешь задачи технической локальности, а если взялся за навозоуборшик, например, или за передвижную доильную установку, тут встает уже квадратная сложность решения. Ведь стыкуешь в тесноту соединения объекты разнородной строптивости: промышленность – с биологией, холодный неумолимый механизм – с теплой трепетностью чуткого мускула, жесткое – с гибким, одушевленное – с бездушным. Правда, категорической дурой бездушности ни серьезную машину, ни другой какой механизм скромной мирности назвать нельзя, человек, творя их, влагает в напряжении всю свою душу, но механизмы принимают только малую частицу ее, только функциональную душевность того дела, для которого человек их создал. Что же надо сделать, чтобы сотворить душевно емкий механизм, способный к приятию от человека если не всей души, то большей, самой деятельной ее части? Подумать подумаешь, а ответ скоро не скажешь.
Работал Сеня не то чтобы плохо, он вообще не работал – присутствовал с отсутствующим видом в инкубаториях, брудергаузах или утятниках – маточниках, но был еще бестолковей новичка Пети Иванцова, и все техническое обслуживание механизмов волок, выбиваясь из сил, слесарь Натальин.
Вера Анатольевна с трудом терпела такое безобразие и наконец не выдержала, пришла к Сене на дом. Все разговоры на ферме были зряшными: она просто не могла достучаться до его разума, до осознания непозволительности такого поведения. Долго сомневалась, стоит ли жаловаться Фене, но сколько же можно! В конце концов деньги нам платят за работу, а не за пассивную созерцательность. Ведь целую неделю он ходит как американский наблюдатель и даже не соизволит дать совет слесарю, а потребуешь объяснений – бормочет что-то невразумительное, косноязычное, с претензией на наукообразность.
Феня после работы успела сготовить ужин, покормила Сеню и Михрютку, потом поросенка и вот сидела в задней комнате у окна, штопала свой рабочий халат. Была она в сломанных очках, перевязанных на переносице черной изолентой, в замызганном фартуке, непричесанная и едва увидела Веру Анатольевну, красивую и требовательную, уже в вечернем платье, с распущенными по плечам волосами, с блестящими во все очки глазами, все в ней ревниво возмутилось, обидчиво закричало, затосковало. И она еще должна была выслушивать выговор за мужа. Феня вскочила, сорвала свои очки и, не раздумывая, спустила кобеля на начальницу:
– Явилась? Здрасьте – пожалуйста! И нарядная какая, в золотых очках, туфли «ни шагу назад», клипсы – на свиданье, что ли, а к нам по пути? Выступай, выступай, красавица, выставляйся, соломенная вдова, показывай свой молодой товар, дави нас, старух несчастных! Поди, мимо дома Межовых прошлась, Зою Яковлевну подразнила, а? Ну пойдем, полюбуйся, полюбуйся на своего работника – вот он, наш кормилец!
И, распахнув одной рукой дверь в переднюю, другой втолкнула растерявшуюся Веру Анатольевну.
Почти голый, в одних трусах, Сеня, обложившись грязными деталями, лежал посреди пола и, орудуя длинной линейкой и толстым плотницким карандашом, что-то вычерчивал на оборотной стороне столовой клеенки. Рядом стояла на коленях Михрютка, перепачканная машинным маслом и мазутом, и разбирала электропрялку. Разводной ключ у ней со звоном срывался, но она, верная помощница отца, пососав то один, то другой ушибленный палец, упорно откручивала непослушную гайку. На вошедших они даже не взглянули.
– Ты что же прялку-то уродуешь, негодница? – не стерпела Феня.
– И грязные шестерни на серванте…
– Папка велел. Электромотор ему надо.
– Ага, мотор! А ты клеенку зачем портишь, аспид. Оголил стол и рисует. Давай мою клеенку счас же! – И, нагнувшись, потянула за угол свое сокровище, но тут же получила по руке линейкой и отшатнулась.
– Не мешай, – предупредил Сеня. – И освободите помещенье. Обе.
Сказано было с такой властной повелительностью, что они послушно вышли в тихонько прикрыли дверь.
– А ты говоришь, сколько можно, – всхлипнула от обиды Феня.
– Двадцать лет вот терплю, весь дом, обстановка вся в мазуте. Каждый день мой, бели, крась – чистоты не увидишь.
– Но ведь так невозможно дальше, надо что-то делать.
– А что сделаешь, если он на железках помешан? Запретишь? Его отец бил смертным боем, запугал по гроб жизни, а все одно не отвадил. Сама же видишь. Если «нашло», никаких резонов не признает и никого не боится.
– Два-адцать лет… – Вера Анатольевна поджала полные, слегка вывернутые губы, сочувственно покачала головой. – Вы героическая женщина, Феня.
– Станешь и геройской, куда денешься, если припечет.
– Но вы могли бы разойтись. Сейчас все-таки семидесятый год двадцатого века.
– Да ты что! А его куда? Он же как дите малое, пропадет без меня.
– Но почему вы должны страдать, до времени стариться?
– Я – страдать? – Феня рассердилась от ее сочувствия и упоминания о старости.
– Да ты что, откуда взяла?! Это ты страдаешь об своем Межове, а мой Сеня при мне.
– Ну знаете! Я не намерена выслушивать ваши домыслы на свой счет и не позволю…
– А что я сказала-то, господи? Правду сказала. Сеня весь совхоз своей техникой обиходовал, золотые руки, не пьет, не курит, получку всегда до копеечки мне…
– Я о другом, как вы не понимаете!
– И в другом хороший. – Феня заалела, поправила ладонью седеюшие волосы. – И в другом ни одному мужику не уступит, да только никого, окромя меня, он не знал и знать не хочет.
Вера Анатольевна стала пунцовой.
– Извините, но я не могу в таком тоне… – И застучала беспятыми модными колодками к порогу. Уже отворив дверь, приказала: – Пусть завтра же берет очередной отпуск или пишет заявление об уходе.
– Батюшки, вот напугала!
Дверь гневно захлопнулась, и довольная собой Феня торжествующе метнулась к окошку – Вера Анатольевна, опустив голову, всхлипывая, торопливо бежала к калитке.
Надо же – плачет! В Хмелевке никто не видел ее плачущей. Говорят, ничем не проймешь, палкой слезу не выбьешь, а тут потекла. Чем же я ее разобидела? Вроде ничего такого не говорила. Дурачила малость, конечно, да ведь и она не больно правая: принесла жалобу жене на мужа! Кто так делает? Муж и жена – одна сатана.
Феня подняла с полу халат с воткнутой в него иголкой, взяла с лавки покалеченные очки и опять присела у окна за штопку. Стежок за стежком, один к другому, и распиравшая ее злость незаметно опала, сменилась сожалением. Ведь ничего оскорбительного Вера Анатольевна не говорила. Предупредила насчет Сени, так ведь по-хорошему хотела, по-людски. Неужто лучше, если бы она не к тебе пришла, а своему начальству докладную настрочила? И тебя она пожалела не как-нибудь, не свысока, а от души, по-бабьи – видела же, вся горница у тебя изгваздана, стол голый, мазутные железки раскиданы где попало, муж и девчонка замурзаны. Да и жалилась ей ты сама, сочувствия выпрашивала, а когда получила, ее же и попрекать стала, дурища! И кем – Межовым! Или позавидовала, что она к одному этому мужику на всю жизнь прикипела? Скотина же ты, скотинка безрогая!
И вечернее платье в вину ей поставила, и туфли, и даже очки, которые она всю жизнь носит! Ей что же, прийти к вам такой распустехой, какой ты ее встретила? Да ты вспомни, как сама-то собираешься в чужие люди, да если еще за делом, за серьезной беседой. И ведь ты старуха рядом с ней, а в ее-то годы, бывало, и бигуди кипят в кастрюльке, и утюг жаром пышет, и брови торопишься пинцетом прополоть-подравнять, и пудра, крем, духи наготове. Пока не накудришься, марафет не наведешь, из дома ни ногой. Эх, хивря ты, хивря бестолковая! Овца глупая! Да таких баб, как она, больше нет во всей Хмелевке, окромя Зои Яковлевны. Та тоже себя для других не жалеет, тоску по нерожденным детям работой глушит, хлопотами о нас. Как же это так сотворено в жизни не по правде: Зое детей бы полон дом – она пустая ходит, Вера одним мужиком утешилась бы – нет, живи бобылкой и не гневайся, Межов другую любит. Видно, от века так: не родись красивой, а родись счастливой.
Феня бросила халат на лавку и пошла в переднюю.
– Хватит стучать-то, солнышко вон закатывается, а вы опять все изгваздали. Когда убираться стану?
– Не мешай, – повелел Сеня.
Но теперь она не подчинилась, пошла устрашающей грудью вперед:
– Это я мешаю? Ах ты, змей косорукий! Да я двадцать лет твою мазутную одежу стираю, двадцать лет железки твои грязные терплю, звон твой противный слушаю! Да ты знаешь, что из-за тебя счас хорошую женщину обидела, самое Веру Натольевну?! В слезах от нас пошла, в рыданьях! И все из-за тебя, из-за твоих железок – ферму бросил, товарищев своих бросил, работу бросил! Живите как хотите, я изобретенье делаю! Скольких же людей ты мучаешь, какие горькие слезы из-за тебя льются!..
Сеня мог бы сейчас запустить в нее чем попало, мог выставить в толчки, но Феня знала, что он не переносит слез, даже упоминания о них боится, и стала со слезой кричать о чужих и своих слезах, проклинать его, грозила выгнать или уйти с детьми куда глаза глядят. Пусть тут тешится своими железками день и ночь, пусть хоть весь дом заваливает ими – не жалко, только бы не знать больше этого мучительства.
Сеня растерялся, виновато встал, поправил грязные трусы.
– Фенечка, да что ты, красавица стосильная, раскричалась? Клетки нервной структуры гибнут без восстановления первоначальности.
– У меня не сгибнут, не бойсь. А погибнут, туда и дорога, отдохну от этой жизни.
– Хватит, мамка, завела! – вмешалась Михрютка – Вытру я тут, уберу, все уж отвинтила. А утром полы помою.
И Сеня опять выстелился:
– Не сердись, Фенечка, все сделаю, что скажешь. Мне вот только закончить надо, нельзя бросать такое изобретенье вначале.
– Да чего бросать, когда его у тебя расколотили! Бросать-то уж нечего, сам же говорил.
– Не магистраль – другое изобретенье начал.
– Ох господи, когда же это кончится! – И, не удержавшись, захлюпала, жалея себя и свою разнесчастную жизнь.
Ночью они помирились.
Успокоенные, довольные друг другом, лежали они в супружеской широкой постели и вспоминали самое начало совместной жизни, первое знакомство. Было оно не очень выгодным для Фени, но, женщина смелая, откровенная, она не боялась невыгодности и вспоминала тот давний зимний день уже без стыда, потому что успела кое-что изменить в нем, поправить, занавесить.
В который уж раз переживая сладкий ужас, она и сейчас видела пухлый искрящийся снег, в котором она обожглась и малость отрезвела, буйного Ваську с кочергой в руках и веселого Федьку, орущего ему с порога бытовки: «Окуни, окуни ее еще разок в сугроб!»
Бытовка стояла на окраине тогдашней Хмелевки, село по случаю праздника гуляло, слышны были разудалые переборы гармошек, веселые нестройные песни, частушки.
Феня кинулась к Сене, ошалело застывшему с открытым ртом – как же, сама Феня Цыганка в таком виде, вдова-невеста хмелевских молодцов, не вернувшихся с войны! И эта-то красавица сиганула ему за спину, боясь Васьки, а Сеня все не двигался, улыбался, и когда косматый Васька замахнулся на него кочергой – «А-а заступничек!» – пришел в себя. И вроде без усилия вырвал кочергу, дал Ваське легкую подножку и железными своими руками связал ему, лежащему, ноги той же кочергой, перекрутил ее как проволоку.
Васька, сидя в снегу, пробовал освободить ноги, пытался встать со связанными и в бессильной злобе катался по тропе, звал Федьку. А тот веселый-веселый, а погрустнел, когда увидел, как большеголовый сельский дурачок будто шутя усмирил его неробкого приятеля. И опасливо посторонился, пропуская Сеню с Феней в бытовку.
В тот год женатой, счастливой беспокойности он так был занят освоением природных богатств Фени, что забыл про изобретательство и ничего не делал, кроме постоянной работы возчика продуктов в магазины райпотребсоюза. Правда, помогал еще приемной своей дочке Розе учить уроки. И два других года были пустыми, потому что перед образованием рукотворного волжского моря все хмелевцы стали переселяться на возвышенное место, пришлось ставить вот этот дом, сарай, изгородь. К концу пятилетки он сделал только усовершенствованный детекторный приемник для нового дома – отвлекли другие заботы: Феня потребовала ребенка. Илиади после обследования его виноватого организма сказал, что истовость в любви, к сожалению, не принесет им искомой пользы, не надейтесь, Погоревав, Феня откровенно предложила «прикупить» на стороне, чтобы не брать из детдома с неизвестно какими врожденными изъянами. А тут в отцы своему ребенку она выберет подходящего человека, чтобы не унижать Сеню, дать ему достойных детей. И Сеня, подумав, согласился, поскольку Феня любила его и детей, а он любил детей и Феню. Но переживал страшно.
А потом притерпелся, потому что Феня, кроме этих редких случаев злодоброй неверности, оставалась преданной мужу и семье, не мешала его изобретательству и учебе в вечерней школе, терпела его железки и ночные бдения над книгами, защищала от злой молвы при неудачах и гордилась при изобретательских победах.
Сеня заполнил семь амбарных книг чертежами и описаниями изобретений, примерно половина их воплотилась в действующие модели и образцы, а десятка два механизмов и установок работали на фермах и в мастерских совхоза. Кроме того, он сделал немало рационализаторских усовершенствований и различных приспособлений. За эту подвижническую деятельность ему объявляли благодарности в приказах, давали премии до пятидесяти рублей, награждали Почетными грамотами и даже водили в милицию, штрафовали, вызывали в суд. Это уж за портативный самогонный аппарат «Черная туча», сделанный им для знакомых мужиков из соковарки. Мужики размножили удачную модель, но оказались плохими конспираторами. Сеню в тот год таскали на допросы чуть ли не каждый месяц. Щербинин еще был жив, но лежал в больнице. Если бы выздоровел – посадил бы. И правильно.
– А как ты вел меня под ручку на другой конец Хмелевки, помнишь, Сеня? Встречные над тобой подсмеивались, спрашивали, не невесту ли ведешь, а ты даже не улыбался и всем отвечал, нет – жену. Никогда я не видала тебя таким серьезным. И если бы ты знал, Сенечка, как я тогда радовалась! Ноги несли меня как пушинку, земли не чуяла, и светилась я вся от счастья, от рождественского твоего подарка-предложения. Меня ведь никто уж не звал в жены – бабе тридцать, а замужем не была, гуляет, дочь школьница…
К большим, глобальным изобретениям выходил он не часто. Первой такой попыткой был проект универсальной механической коровы (УМК-1), отвергнутый покойным Щербининым без всякого обсуждения. Если-де и для твоей «коровы» нужны корма, дело дохлое. Следующие две попытки тоже были неудачны, и только теперь он вышел на неисчерпаемую тему современной дороги жизни.
– Весь тот год любовался ты моей пригожестью, – смаковала Феня, – тешился бабьей моей красотой. Откуда только ты силу брал? Ты и спал-то тогда по два часа в сутки. А я готова была совсем не спать, я уж знала: никакой ты не дурачок и не блаженный, а самый настоящий человек, самостоятельный и надежный. Столько лет смеются над твоей добротой, над изобретеньями, если не удадутся, а ты стоишь на своем, не бросил любимого дела и что теперь ни смастеришь – лучше всех, ей-богу! И мою красоту ты понял не как другие, не для своего минутного удовольствия, а для всей жизни – никогда этого не забуду! Наши мужики-то, они как рассуждают? Нам с лица не воду пить, и с корявой можно жить – старая пословица зря не молвится. На красоту-то все падки, ее охранять надо, воевать за нее, а то уведут. Только неправильно это, Сеня. Красота, она и сама за себя постоит, если захочет. Настоящей бабе, Сенечка, много мужиков не надо, ей одного дай, но своего, чтобы только для нее был, чтобы родной, ненаглядный, единственный. Как ты, Сеня! Только с тобой я поверила, что есть на свете любовь. Ей-богу! И занимайся своими железками сколько хочешь, плюнь на мою ругань – я баба, двадцать лет терпела, еще сорок потерплю. Люблю я тебя, горе ты мое веселое!
И крупная, полная Феня, тяжело скрипнув кроватью, прижалась благодарно к худенькому Сене, жилистому, мускулистому, как маленькая девочка к всесильному отцу, и он погладил ее по голове, по тугому плечу, обтянутому гладкой ночной рубашкой. И вздрогнул от нечаянной мысли, поданной привычным явлением: волосы Фени заметно искрили, и на плече из-под его руки тоже с легким треском вспыхивали и гасли мелкие искорки. Сеня улыбнулся и погладил сильнее, резче – за рукой но Фениной рубашке с треском пошла огненная полоса.
– Ты чего, Сень?
– Статический заряд электричества, – ответил он. – В волосах меньше, а на рубашке количественно больше.
– Кабы хлопчатая или полотняная, а эта завсегда трещит. – И сладко зевнула. – Охо-хо-хо-хонюшки, трудно жить Афонюшке… Разговорились мы нынче, спать давно пора.
– Не в том дело сущности, искусственная или естественная. Волосы у тебя вот естественные, а тоже имеют заряд. И шерсть естественной натуральности имеет, но не всегда показывает. Если же потереть ее, например, янтарной палочкой, то палочка наэлектризуется зарядами шерсти и станет притягивать мелкоразмерные кусочки бумаги. Все предметы, живые и мертвые, все вещества имеют статический заряд электричества различной плотности и емкости микрофарад. Но не в этом дело сущности, а в том, что такое электричество? Нас учили: упорядоченный и направленный поток электронов. Они текут от источника к потребителю электричества, от генератора – к лампочке. Если текут в постоянности периода времени, значит, они вытекают через лампочки, через свет, который имеет вес фотонной массы, материальность. Но генератор, который дает поток электронов, и провода, по которым идет поток, остаются в прежней величине первоначальности. Откуда же берутся электроны, если источник и проводник сохраняют целость своей массы? Почему они не кончаются? Или электроны встречно направлены и шустрят туда-сюда? Но если так, если они только бегают из конца в конец, а не истекают в световом качестве фотонов, значит, они всегда сохраняются в целости. Но если они будут в целости, они не дадут мелких фотонов, из которых состоит свет. А свет-то они дают. Почему же сами не вытекают? В этом все дело сущности, Феня, если вдуматься хорошенько…
Но Феня не вдумывалась, Феня спала. В лунном полусумраке полное спокойное лицо ее было как у беломраморных греческих богинь с закрытыми веками больших глаз. Только Феня была красивей всех богинь античной истории, потому что была живая, теплая.
Сеня перелез через нее на пол, погладил, едва касаясь, по голове и тихонько, на цыпочках, пошел в горницу за амбарной книгой. Надо было развить в определенность законченной мысли нечаянные раздумья об электричестве постоянного и переменного тока нашей многообразной природы, живой и мертвой.
XIIIПришлось брать очередной отпуск, который по графику ему полагался в октябре. Феня радовалась: теперь и Михрютка не станет бегать безнадзорной и Сеня будет под присмотром девочки. Они любят друг дружку и станут держаться вместе. А потом Черная Роза приедет, вернутся из лагерей Тарзан и Генерал Котенкин. Когда вся семья соберется, глядишь, и Сеня оклемается, придет в себя от изобретательской хвори, вернется на уткоферму.
Сене, привыкшему каждое утро торопиться с завтраком, подкачивать шины древнего велосипеда и ехать па ферму, первые дни было немного не по себе, но его уже подчинил замысел нового изобретения, и скоро он забыл не только об уткоферме, но и о Фене, о доме, о любимой Михрютке, обо всех хмелевцах – замысел хотел скорее воплотиться, стать явью, а это оказалось еще сложнее, чем с его покойной уже магистралью. Правда, он теперь не уничтожал традиционную дорогу, не убирал с нее машину, он заменял только двигатель внутреннего сгорания на электродвигатель. Практически вроде бы ничего нового. Да и зачем тут что-то открывать, когда лучшего двигателя не найдешь: почти бесшумен, никаких вредных выхлопов, прост, ни тебе газораспределительного механизма, ни коробки передач и прочих сложностей трансмиссии, достаточно простого кабеля, бензина не требуется, КПД значительно выше…
Значит, что же, электромобиль? Да, он, родимый. И недостатки его нам известны: химический источник энергии нуждается в частой подпитке, батареи аккумуляторов громоздки и тяжелы, без подзарядки работают не больше сотни километров. Следовательно, нужны сменные батареи, аккумуляторные станции, время на замену и подзарядку… Все это выполнимо, хоть и дорого, но главное – остается неустранимой громоздкая масса батарей. Если у грузовика полторы-две тонны аккумуляторов, да плюс электродвигатели, да шасси, да кузов с кабиной – такой будет возить только самого себя. Никаких полезных дел с такими машинами не сделаем, планы не выполним и внесем в свою жизнь одно недоумение.
Значит, задача суживается, но оставляет великой сложности содержание: дать электромобилю легкие, энергоемкие батареи и способность проходить без подзарядки хотя бы тысячу километров. Каким образом этого достичь?
Несколько дней Сеня сидел в районной библиотеке, но потом взбунтовалась неотступно сопровождавшая его Михрютка: читать ты можешь и дома, и на водной станции, я купаться хочу, загорать хочу, играть хочу, лето скоро кончится, в школу идти не тебе, а мне! Идем, а то не буду тебя любить!..
Ослушаться Михрютку он не мог даже в таком запойном состоянии творчества и в конце недели набрал пудовую сумку литературы: по разным видам энергетики, по двигателям и машинам, по строительству и эксплуатации дорог, по механизации сельского хозяйства… И теперь с утра уходил с Михрюткой на пляж водной станции, лежал в трусах на теплом песочке и читал расчудесные эти книги. Вокруг гомонили купающиеся, с вышки прыгали, шлепаясь телами, мальчишки и парни, серебристый колокол на столбе гремел удалой музыкой, а Сеня беседовал с авторитетными специалистами: с доцентом Новиковым Юрием Федоровичем, с профессором Петровичем Николаем Тимофеевичем или с молодым ученым химиком Юрием Чирковым. Так приятно беседовать с хорошими знающими людьми. Профессор Петрович, к примеру, говорит, а ты слушаешь. Если чего-то недослушал в замедленности усвоения, пропустил – вернись, прочитай еще и еще, книжка, которой вы оба доверились, не откажет.
Но на решение главной задачи натолкнули Сеню не книжки, а купанье, к которому его однажды принудила неотступная Михрютка. Подбежала мокрая, обрызгала холоднющей водой и неурочно влезла с нелогическим вопросом:
– Папк, а в Африке и зимой – лето, да?… И весной, и осенью?
Сеня покивал, не отрываясь от книги.
– Везет неграм, каждый день купайся и загорай. – Упала, голенастая худышка, на песок, перекатилась с живота на спину и опять на живот, обмотавшись желтой песчаной пеленкой, вскочила: – Хватит читать, а то мамке скажу. Сколько дней ходим, а ты лежишь и лежишь, ни разу не искупнулся. Вода теплая – теплая…
– Подожди, не мешай.
– Мамка глядеть за тобой велела, а ты – не мешай! Ох господи, когда я от вас умру!..
– Отстань, Михрютка.
– Я те дам отстань, пошли сейчас же! – выхватила книгу, бросила в сумку и, взяв его за руку, потащила к воде.
Сеня подчинился. Он всегда ей подчинялся.
Вода и вправду была теплой, только сперва казалась холодной, а когда окунешься и поплывешь – теплая, особенно в верхнем слое.
Сеня плыл и чувствовал, как вода ласково обнимает его всего, орошает сухую его кожу приятной влажностью, как обволакивает, пропуская в себя, в текучую свою бесформенность мускулистое его тело; он чувствовал, что прохладное обтекание происходит с легким трением воды о кожу, чувствовал сопротивление воды своему движению и невольно (а может, под влиянием прочитанного) подумал, что кожа всего тела от этого трения электризуется, образует определенного знака заряды – очень уж было приятно после солнцепека, вольготно, хорошо. Если тело погнать быстрее, наверняка возникнут заряды. Корпус теплохода тоже электризуется во время движения, но поскольку масса воды соприкасается с основной массой земли, заряды эти снимаются.
– Вернись, папк, не заплывай далеко! – послышалось с берега.
И, охотно возвращаясь на зов дочери, Сеня вдруг безотчетно возрадовался – почувствовал, что где-то рядом, в окрестностях рассудка, стучится, возвещая о приходе, ответ на его вопрос о подзарядке аккумуляторов.
Он вышел на берег, успокоил Михрютку и поплыл опять, чтобы усилить прежнее физическое ощущение и вынудить мысль разгадки показаться хоть на миг – он сразу ее узнает, радушно впустит в рабочее помещение рассудка, и они займутся делами общей полезности для людей. Но увидел он сперва не мысль, а вертящиеся колеса автомобиля, плотное прилегание шин к асфальту, услышал шуршание их – а это верный признак трения, – и тут она высунулась, мысль-разгадка: если есть вращение, если есть трение, то должно быть и электричество! Дорога – размотанный, плоский статор, колесо – ротор, и пусть оно, вращаясь, не только везет меня, но еще и подзаряжает аккумуляторы своей батареи!
Сеня вернулся на берег и стал торопливо собираться. Михрютка закапризничала: до вечера еще далеко, она совсем-совсем не хочет есть, пошли опять купаться. Или загорать. Но теперь Сеня не уступил. Одевшись, он взял сумку с книгами и решительно зашагал домой. Михрютка, натянув платьишко на мокрое тело, поспешила за ним.
Чтобы дорога выполняла обязанности статора, надо вместо инертных наполнителей включить в асфальт электризующиеся материалы, надо чтобы дорога выполняла по совместительству должность магнитопровода. Эта задача ясна и разрешима. Но как быть с ротором?
Пневматическая шина – великое изобретение, именно она, резиновая эта шина, сделала колесо упруго-эластичным, амортизирующим, она, мягкая и прочная, позволила высокие наземные скорости, но именно она, гениальная эта шина, не годилась для ротора, потому что резина – диэлектрик, изолятор. Но неужели нельзя шину-диэлектрик превратить в шину-проводник, включив в ее состав определенные металлические частицы? Можно, конечно, надо только изменить нужным образом технологию изготовления, но сохранится ли при этом эластичность шины?
– Куда разлетелся так, я все время вдогонушку, – хныкала Михрютка, еле поспевая за ним.
Сеня не отвечал, занятый своим. В Хмелевке ничего не сделаешь, думал он, Веткин не подскажет, нужны другого ранга специалисты, повыше. А что если к авторам этих книг в Москву закатиться? Все в одном месте, каждый про свое дело объяснит: Петрович про изобретательство, Новиков – про сельскую механизацию, Чирков и вовсе электрохимик, самонужный дефицитный человек. Или в главную контору по изобретениям наладиться, наверно, есть такая, не может не быть в нашей предусмотрительной стране. Если откажут в сомнении пользы – прямиком в Верховный Совет всего Советского Союза: выручайте, товарищи избранные начальники, дело у нас общее, коллективной индивидуальности…
Дома Сеня, отправив Михрютку на кухню обедать, переоделся в выходной костюм, достал спрятанные Феней за икону божьей матери отпускные, отсчитал полсотни десятками, остальные тридцать положил обратно – на семейные расходы. Маловато, конечно. Подумал и доложил туда десятку из своих. Теперь будет поровну, хотя справедливости тоже нет, семье – сорок и ему одному – сорок. Но ведь в дорогу же ему, только билет в оба конца встанет не меньше тридцатки, если с постельным бельем, да на автобус до станции полтора рубля, да в Москве на метро, на троллейбус, на попить-поесть…
– Куда вырядился, папк?
– Закудакала – пути не будет.
– Тьфу, тьфу моим словам! – Михрютка поплевала через левое плечо.
– Далеко, папк, собрался?
– В Москву за новыми песнями. А то в отпуске нахожусь, а без песен. На автобус не опоздать бы. Десять минуток осталось, бегом придется, шагом не поспею.
– А ты на велике, папк. Гостинец привезешь?
– Спасибо, надоумила, моя красавица, обязательно привезу. – Он взял на дорогу сумку с книгами, сунул туда белый батон. – А велик-то как же, на остановке оставить?
– Меня возьми. Я из-под рамки умею, пригоню.
– Умница ты моя стосильная! И гостинец привезу и новую песню. Айда скорее.
Во дворе он снял с бельевой веревки прищепку, прихватил ею правую штанину внизу и взял у стены велосипед. Михрютка побежала открывать калитку.







