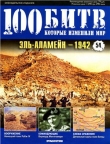Текст книги "Дипломатия Франклина Рузвельта"
Автор книги: Анатолий Уткин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
Через несколько часов после утреннего заседания второго дня Рузвельт пригласил Сталина на двустороннюю встречу. Рузвельт попытался найти решение проблемы, которая самым очевидным образом разделяла две великие державы. Он сказал Сталину, что приближаются очередные президентские выборы и он собирается баллотироваться на третий срок. В США живут около семи миллионов американцев польского происхождения, их голоса для победы демократической партии крайне необходимы. Как практичный политик, он будет драться за эти голоса. Лично он, Рузвельт, согласен со Сталиным, что польское государство должно быть восстановлено, что его восточные предвоенные границы должны быть отодвинуты на запад, а западные перемещены вплоть до Одера, но обстоятельства избирательной борьбы не позволяют ему открыто высказываться по вопросу о границах. Сталин ответил, что понимает проблему президента.
Рузвельт решил пойти по второму кругу, по той же схеме, но уже говоря о литовцах, латышах и эстонцах. Американцы считают важнейшим право этих народов на самоопределение. Он лично полагает, что жители названных республик на выборах выскажутся за присоединение к СССР. Сталин ответил, что прибалтийские республики не имели никакой автономии в царской России, которая была союзницей Англии и Соединенных Штатов, и никто не поднимал тогда подобного вопроса. Он не понимает, почему союзники это делают сейчас. Идя примирительным курсом, Рузвельт сказал, что общественность в США попросту не знает и не понимает этой проблемы. Сталин заметил, что публику следовало бы просветить. Вечером, затрагивая самые чувствительные струны, Рузвельт выразил надежду, что СССР восстановит дипломатические отношения с лондонским правительством поляков.
Важно подчеркнуть, что "подкупающим" Сталина обстоятельством было то, что Рузвельт не ставил "польский вопрос" во главу угла. В данном случае надо вернуться на несколько недель назад, когда Рузвельт так объяснял свое отношение к претензиям лондонского комитета поляков. "Я сказал: вы что, думаете они (русские. – А. У.) остановятся, чтобы сделать приятное вам или нам в этом вопросе? Вы что, ожидаете, что Великобритания и мы объявим войну "дяде Джо", если они пересекут вашу старую границу? Даже если бы мы хотели этого, Россия могла бы выставить армию вдвое больше наших объединенных сил, и у нас просто не было бы шансов вмешаться в эту ситуацию. Что еще важнее, я не уверен, что честный плебисцит, если он здесь возможен, показал бы, что эти восточные провинции не предпочтут возвратиться к России. Да, я действительно полагаю, что границы 1941 года являются столь же справедливыми, как и любые другие".
Дело не ограничилось внутренними обсуждениями. В Тегеране и Рузвельт и Черчилль одобрили намерение Советского Союза произвести изменения границы между СССР и Польшей. Черчилль это сделал в первый же день встречи, вечером. Рузвельт тогда выждал паузу. Но в последний день конференции он абсолютно недвусмысленно заявил Сталину, что одобрил бы перенос восточной польской границы на запад, а западной польской границы – до реки Одер. Правда, Рузвельт сделал оговорку, что потребность в голосах польских избирателей на президентских выборах 1944 года не позволяет ему принять "никакое решение здесь, в Тегеране, или наступающей зимой" по поводу польских границ. Склонившись над картами, Черчилль и Сталин обозначили то, что Черчилль назвал "хорошим местом для жизни поляков", их новые границы. Рузвельт фактически присоединился к этому.
Именно как достижение компромисса воспринимал Рузвельт советско-американское понимание на конференции по всем основным вопросам. Эта идея отражена в едином коммюнике и во всех последующих комментариях президента. И когда Рузвельт 3 декабря вылетел из Тегерана в Каир, он был доволен: его план продвижения к искомому послевоенному миру реализуется. Он установил рабочие отношения с СССР, он нащупал возможности компромисса по польскому вопросу, он нашел в СССР понимание относительно будущей роли Китая, Западной Европы, проектов построения иного, отличающегося от предвоенного, мира. Обещание СССР выступить против Японии облегчало выполнение азиатских планов Америки. Дела шли желаемым образом.
Полагаем, не будет ошибкой сказать, что в ходе тегеранской встречи "большой тройки" Рузвельт сделал коррективы в своем стратегическом плане создания опеки "четырех полицейских" и расклада сил внутри четырехугольника. Сущность этих корректив заключалась в том, что президент пришел к выводу о возможности достаточно тесных и взаимовыгодных советско-американских отношений в будущем. Мир, в котором США и СССР станут друзьями, определенно виделся как более стабильный, более упорядоченный. Две сверхмощные державы, найдя общий язык, самым надежным образом гарантировали бы мир от войны.
Рузвельт, несомненно, ощущал успех, и он покинул Тегеран будучи убежденным, что его стратегическая линия в мировой дипломатии начала реализовываться в самых существенных своих аспектах. Теперь, в свете тегеранских договоренностей, он гораздо меньше опасался американских изоляционистов (ужас перед которыми, порожденный в 1919 – 1921 и 1935 годах, постоянно его преследовал), он верил, что сумеет убедить конгресс и общественность в необходимости выхода США на подлинно мировые позиции.
Далек был от этого оптимизма Черчилль. Идену, Морану и послу в Москве Керру он сказал после Тегерана: "Может быть еще одна кровавая война. Мне не хотелось бы видеть ее. Я хотел бы проспать. Я хотел бы спать на протяжении миллиарда лет".
Его врач отметил охватившую премьера – и столь нехарактерную для него – черную меланхолию. Но несмотря на явное физическое истощение, Черчилль отправился в Италию к генералу Г. Александеру. "Он может быть нашей последней надеждой на спасение. Мы должны что-то делать с этими проклятыми русскими".
Идейная установка Рузвельта в данном случае была противоположна тому, что выше уже называлось "рижской аксиомой" – предположению, что СССР руководствуется идеей победы коммунизма во всей Европе. Рузвельт выработал собственное представление о сути советской внешней политики. Он исходил из того, что СССР готов к коллективному сотрудничеству в послевоенном мире, что он может быть лояльным партнером и в интересах Америки достичь этого партнерства.
Перемены (или коррективы) в стратегическом видении президента, видимо, лучше всего иллюстрирует его вторая (после Тегерана) встреча с Черчиллем в Каире. У президента уже не возникало желания вызывать для закрытых бесед Чан Кайши, он был гораздо более холоден и менее уступчив с англичанами. Китайцы не получат всей обещанной прежде помощи. А вот подготовка высадки во Франции, которая даст американцам контроль над Западной и Центральной Европой, должна быть ускорена. В Чунцине Чан Кайши почувствовал, что его акции падают. Это видно из телеграммы генералиссимуса высокому американскому покровителю во время второй каирской конференции англо-американцев. Чан Кайши писал, что союзники оставляют Китай беззащитным перед механизированной мощью Японии.
Жесткость Рузвельта в Каире выразилась, помимо прочего, в том, что он в одностороннем порядке принял решение о главнокомандующем войсками союзников на Западе. Им будет генерал Эйзенхауэр. И когда президент и премьер-министр подъехали к сфинксу, смотревшему на них "с высоты сорока столетий", они напряженно молчали. И Рузвельт молчал, когда Черчилль говорил о размножающихся, как мухи, русских, которые превзойдут по численности белое население Англии и Соединенных Штатов.
Ближайшие сотрудники свидетельствуют, что возвратившийся накануне рождества 1943 года президент Рузвельт никогда не выглядел более удовлетворенным и уверенным в себе. Не задерживаясь в Белом доме, он выехал к себе в Гайд-парк – впервые за годы президентства он встречал рождество не в официальной резиденции. И его речь в сочельник по радио дышала невиданным еще оптимизмом. Он объявил, что поручил Эйзенхауэру атаковать противника "с нашей стороны компаса" навстречу победоносным войскам русских. Рузвельт сообщил американскому народу, что нашел общий язык с маршалом Сталиным. "Я полагаю, что мы найдем общую линию поведения с ним и русским народом". В этом выступлении президент заверил американцев, что они "могут смотреть в будущее с подлинной, обоснованной уверенностью", что "мир на земле, добрая воля в отношении народов могут быть утверждены и обеспечены... В Каире и Тегеране мы посвятили свои усилия выработке планов по созданию такого мира, который единственно может быть оправданием всех жертв войны".
А мы можем подвести промежуточный итог. Рузвельт накануне решающей фазы войны сделал многое для урегулирования отношений с самой важной для него страной антигитлеровской коалиции. Он фактически признал балтийские государства частью СССР, поддержал советскую точку зрения на будущие границы Польши, необходимость создания условий по постоянному ограничению Германии и Японии посредством территориальных изменений и размещения стратегических баз, предоставление четырем крупнейшим странам особых прав в будущей мировой организации. Рузвельт полагал, что он в некоторой мере ослабил (если не развеял) страхи советского руководства в отношении послевоенного англосаксонского блокирования. Это был кредит, данный историей Рузвельту накануне окончательного определения позиций в крупнейшей дипломатической борьбе.
В тени оставался фактор создаваемого атомного оружия. Ученые, да и некоторые политики, предупреждали американское руководство, что монополию на его изобретение сохранить нельзя, и лучше сделать это оружие средством объединения, а не разъединения антигитлеровской коалиции.
Черчилль уже в 1943 году беспокоился о том, чтобы американо-английские усилия не были предвосхищены немцами (логично, они враги) и русскими (а это говорило о той роли, которая отводилась ядерному оружию в послевоенной дипломатии). Заместитель У. Черчилля по вопросам атомной энергии сэр Джон Андерсон тогда же отметил, что бомба "будет устрашающим по своему значению фактором в послевоенном мире, поскольку даст любой обладающей этим секретом стране абсолютный контроль". Президент Ф. Рузвельт отдал особый приказ хранить секрет проекта "Манхеттен" не только от немцев, но, подчеркиваем, и от русских.
В конце 1943 года Минск был еще в руках немцев, Ленинград находился в тисках блокады. Западные союзники сражались лишь на Сицилии и в ливийских песках, вся Западная Европа продолжала оставаться гитлеровской крепостью. Военные действия второй раз – теперь уже с востока на запад – прокатывались над Центральной Россией. Поделиться с Советским Союзом ядерными секретами в такой обстановке явилось бы актом союзнической солидарности в самом высоком значении этого слова. Советская физическая наука отличалась высоким уровнем, и ее вклад в совместный атомный проект мог бы послужить основой сплоченности, а не раскола.
Можно представить себе и Совет Безопасности ООН, опирающийся на ядерное средство возмездия в своей охране мира от военных конфликтов. Нетрудно представить и основы послевоенной кооперации, общий пул ядерного горючего, создание Международного агентства по атомной энергии на много лет раньше, чем это произошло впоследствии – и с гораздо более широкими полномочиями. А главное, возможно было бы избежать периода страшного напряжения, вызванного атомным шантажом одной стороны, а затем обоюдным соревнованием в ядерных вооружениях, в ходе которого под вопрос встала сама биологическая форма жизни на Земле. Мир в полной мере ощущает сейчас последствия той узкой точки зрения, которая предполагала использовать атомное оружие для подкрепления силовой дипломатии страны, первой взявшей его на вооружение.
"Оверлорд"
Президент не беспокоился о том, что должны были получить русские. Он думал, что их требования справедливы.
У. Леги. 1945 г.
Рузвельт в эти годы хотя и носил титул главнокомандующего, но никогда не надевал униформы. Напротив, его обычная одежда была сугубо цивильной, никакого "подлаживания" к военному стилю: фланелевая рубашка, старая шляпа, беззаботно-небрежно завязанный галстук создавали впечатление о дядюшке, отправляющемся на уик-энд. Но такие авторитеты, как Эйзенхауэр, были поражены его знанием карт боевых действий и быстротой оценки местности. Военные ценили закатанные рукава его рубашки – демократический президент руководил армией демократической страны. Рузвельт с одинаковой легкостью общался и с генералом и с рядовым. И в армии много говорили о его поступке на Гавайях: президент попросил провезти его через палату инвалидов, лишившихся конечностей. Он не сказал им ни слова, только улыбался и махал рукой. Чувствуя их горе, он показывал своим видом, что все в жизни можно превозмочь, и нет места отчаянию.
Тегеран был поворотным пунктом в эволюции дипломатической стратегии президента Рузвельта. В ней обозначились, по меньшей мере, три новых акцента. Во-первых, Рузвельт теперь был полон решимости окончательно сокрушить мощь стран "оси". В начале 1944 года в ответ на просьбы "смягчить" требование безоговорочной капитуляции, выдвинутое в отношении Германии, он подчеркнул свою непреклонность. "Довольно долгие годы учебы и личного опыта в самой Германии и за ее пределами привели меня к убеждению, что философия немцев не может быть изменена декретом, законом или приказом. Изменение философии немцев должно пойти эволюционным путем и может по времени занять жизнь двух поколений". Рузвельт хотел уничтожения Германии как силового центра. Он полагал, что если этого не сделать, то немцы после очередной паузы начнут третью мировую войну. В представлениях Рузвельта о будущем Западная Европа в целом должна была уступить лидерство другим претендентам.
Во-вторых, обозначились изменения в отношении китайской стратегии Рузвельта. Благодаря американским победам последних месяцев война приблизилась к Японским островам, и теперь президент надеялся довести потери японского флота до 200 тысяч тонн, это оборвало бы связи между Японией и плацдармом японцев в Китае. Были намечены способы налаживания воздушного моста с Чунцином. В январе 1944 года в американские ВВС начали поступать тяжелые бомбардировщики с большим радиусом действия. Сотни, а затем и тысячи самолетов уничтожали индустриальную мощь Японии. Теперь Рузвельт не сомневался, что и без обольщения четы Чан Кайши он получит желаемый доступ к стране, которая еще недавно была почти вне пределов досягаемости. У Рузвельта крепнет уверенность, что, кроме США, никто не способен поставлять Китаю средства для модернизации, а значит, воздействие на китайский фактор можно считать гарантированным.
Третий новый элемент рузвельтовской стратегии связан с историческими событиями, происходившими в начале 1944 года на советско-германском фронте. Советские войска, ликвидировав блокаду Ленинграда, вышли к довоенной границе с Финляндией, совершили бросок по Украине и достигли границы с Румынией. Война вступила в новую фазу. Забрезжила заря победы. И в союзной дипломатии наряду с новыми надеждами (Тегеран) обозначились новые проблемы.
Глядя на Белый дом теперь, мы видим, как именно в 1944 году федеральная система начинает приспосабливаться к роли "правителя империи". Прежний аппарат президента разрастается, информация захлестывает его, военные ведомства, разведка и службы стратегических оценок превращаются в гигантские учреждения. Проблемы, которые здесь рассматриваются, имеют глобальные параметры. Действия Объединенного комитета начальников штабов, Комитета военной мобилизации, Объединенного штаба планирования приобретают трансконтинентальный характер. Бюро федерального бюджета теперь распоряжалось колоссальными суммами. Все эти многочисленные службы "замыкались" на помощниках президента.
Рузвельт в эти очень важные месяцы рубежа 1943 – 1944 годов, будучи, как обычно, внешне непринужденно общителен, по-прежнему разрабатывал дипломатическую стратегию в самом узком кругу. Однако место заболевшего Гопкинса (у него обострилась язва) занял в качестве советника по военно-дипломатическим вопросам адмирал У. Леги, а в качестве советника по внутренним вопросам – Дж. Бирнс. При этом крайне централизованный характер принятия решений стал устойчивой чертой Вашингтона военного времени. Выше уже говорилось, что Рузвельт презирал бюрократию и всегда стремился "спутать карты" строгого бюрократического подчинения. Он выдвигал вперед то одного, то другого деятеля, создавая между ними конкуренцию и играя на ней. Так, военные проблемы он обсуждал то с Маршаллом, то со Стимеоном, и ни один не мог сказать, кто более за них ответствен.
Президент любил организовывать экстренные комитеты, рабочие группы, временные структуры и т. п. Именно таким образом он пытался избавиться от закоснелости мышления. При этом Рузвельт часто сознательно стремился к тому, чтобы одна организация не знала, чем занимается другая с параллельными целями. В такой обстановке президент исключал всякую возможность оппозиции, дробил связи помощников, получал целый букет мнений, из которых финальное выбирал сам. Добавим к этому любовь президента к секретности. Рузвельт чувствовал себя в такой системе как рыба в воде. Многих же прочих подобная система сбивала с толку.
Воспоминания об этом периоде говорят об ухудшении здоровья Рузвельта. Хотя его энергия продолжала изумлять, вечером его донимали головные боли. Временами по утрам он имел измученный вид. Десять лет назад его давление было 78 на 136, а теперь (март 1944 г.) – 105 на 188. Врачи отметили расширение сердца. Страшное напряжение войны начало сказываться на президенте. Диагноз – гипертония, сердечная недостаточность. Прописано: не плавать в бассейне, диета в 2600 калорий, десятичасовой сон, отдых после обеда, ограничения в курении. Врачи просто не рискнули предложить ему недельный отдых. Но Рузвельт сам решил принять приглашение Б. Баруха отдохнуть в его поместье в Южной Каролине. Он сократил свой рацион спиртного до полутора коктейлей перед ужином, число сигарет "Кэмел" уменьшил с тридцати до пяти. Гопкинсу он пишет в эти дни, что наслаждается отдыхом, спит двенадцать часов в день, лежит на солнце, контролирует свой темперамент, "и пусть весь мир катится к черту".
А для проведения ответственной дипломатии президент был необходим как никогда прежде. Никто не мог заменить его во главе дипломатической службы великой державы. Это было критическое время. Именно тогда, когда Рузвельт, основываясь на тегеранских договоренностях, поверил в возможности сотрудничества с СССР, в кругу его ближайших сотрудников начали доминировать те, кто шел противоположным курсом. Вместо Гопкинса и Дэвиса главными советниками стали выступать Леги, Буллит, Гарриман.
О взглядах У. Буллита говорилось выше. После Тегерана вместе с У. Буллитом позицию подозрительного отношения к СССР как к возможному политическому противнику стал разделять государственный секретарь К. Хэлл. В начале 1944 года он писал американскому послу в Москве А. Гарриману: "Во все возрастающей степени меня охватывает беспокойство по поводу... действий советского правительства в области внешней политики".
Сейчас мы знаем, что проект этого послания подготовил один из экспертов государственного департамента по Советскому Союзу Ч. Болен, будущий американский посол в СССР. Ч. Болен писал, что отсутствие консультаций СССР с западными союзниками по поводу восточноевропейской политики будет воспринято в США как стремление идти своим путем, не обращая внимания на союзников. (Как будто англо-американцы показали малейшую склонность учитывать пожелания Советского Союза в принятии капитуляции и обсуждении вопросов будущего Италии. Напомним, что аналогичные пожелания Москвы в отношении военно-политического контроля вызвали подлинный гнев у Рузвельта и Черчилля.) Этот документ, посланный 9 февраля 1944 года, видится отправной точкой развития той линии американской дипломатии, которая по мере приближения развязки стала ориентироваться на жесткость в отношении восточного союзника.
Пока Соединенные Штаты не бросали Советскому Союзу вызов – это было немыслимо, именно Советский Союз нес ношу противоборства с Германией. Пока американская дипломатия не затрагивала проблему границ, пока в государственном департаменте даже крайне антисоветски настроенные дипломаты не ставили под вопрос обеспокоенность СССР своей безопасностью в будущем. Пока в Вашингтоне практически все считали, что ради участия СССР в войне против Японии можно (и нужно) пойти на любые уступки союзнику. Но уже возникает тенденция взять на себя ответственность за вопросы, возникающие крайне далеко от США, прямо касающиеся безопасности СССР и никак не касающиеся безопасности Соединенных Штатов.
Атмосфера секретности, которая окутала Белый дом, особенно касалась атомного проекта. Доклады от руководителя атомного проекта В. Буша к Рузвельту шли в одном экземпляре и никогда не "оседали" в архивах Белого дома. Президент не рассказывал о "Манхеттене" даже государственному секретарю. Рузвельт лично позаботился о том, чтобы работа в трех ключевых лабораториях – в Оак-Ридже, Хэнфорде и Лос-Аламосе была полностью изолирована от внешнего мира. И хотя в атомном проекте приняло участие огромное число лиц – более полутораста тысяч – на "официальную поверхность" в Вашингтоне эта тайна "не всплывала" никоим образом. Нужно отметить широкое распространение практики, в общем и целом не характерной прежде для общественной жизни США: тщательная цензура переписки, подслушивание телефонных звонков, запрет даже намекать домашним на характер производимой работы, повсеместное использование личной охраны, кодирование имен. С разработкой проблемы использования атомной энергии в Америку пришли атрибуты полицейского государства. Колоссальный по объему работ проект "Манхеттен" финансировался настолько хитроумным способом из разных статей военных ассигнований, что не вызвал подозрения у самых внимательных исследователей бюджета.
Рузвельт решил несколько расширить число лиц, осведомленных о работе, способной изменить сам характер американской дипломатии, только в феврале 1944 года, когда "посвященные" Стимсон, Маршалл и Буш встретились с лидерами конгресса – Рейберном, Маккормиком и Мартином. Руководители проекта обрисовали его возможности в самом общем виде. Прежняя практика глубокой секретности продолжалась, конгрессмены вотировали деньги, не зная их истинного предназначения.
* * *
Значительная часть 1944 года, столь важного с точки зрения дипломатии, ушла у Рузвельта на усилия по переизбранию. В дипломатии много времени отняло решение "польского вопроса". Дело в том, что Советская Армия 5 января 1944 года пересекла польскую границу, и польское эмигрантское правительство в Лондоне призвало к "максимально раннему восстановлению суверенной польской администрации на освобожденных территориях республики Польша, единственного и законного слуги и выразителя идей польской нации". По поводу этого заявления Сталин телеграфировал Черчиллю, что "эти люди неисправимы". В заявлении советского правительства от 11 января об эмигрантском польском правительстве говорилось как о "неспособном установить дружественные отношения с Советским Союзом". Ответное заявление "лондонских поляков" от 15 января 1944 года призывало США и Англию вмешаться в дискуссию с СССР по поводу "всех важнейших вопросов".
Но и Рузвельт и Черчилль должны были призвать эмигрантское польское правительство к реализму. Двадцатого января 1944 года Черчилль на встрече с лидерами поляков в Лондоне посоветовал им "принять "линию Керзона" за основу для дискуссий", поскольку им обещаны немецкие территории на западе вплоть до Одера. Черчилль выступал в непривычной роли адвоката Советского Союза. Потребности обеспечения безопасности СССР от еще одного сокрушительного германского наступления, объяснял Черчилль, а также "огромные жертвы и достижения русских армий" в процессе освобождения Польши дают русским право на пересмотр польских границ.
Со своей стороны Рузвельт, желая достичь компромисса, пообещал 7 февраля 1944 года Сталину, что после разрешения проблемы границ Польши ее правительство примет отставку своих наиболее известных антисоветских членов. Рузвельт сделал несколько шагов, которые не часто попадают в поле зрения аналитиков, пытающихся спустя почти пятьдесят лет "развязать" польский узел. Двадцать четвертого марта 1944 года он позволил выдать требуемые по советскому запросу паспорта двум американским полякам возможным кандидатам в новое польское правительство. Эти и другие признаки говорили о том, что идея создания нового польского правительства не была чужда президенту. Черчиллю он писал о необходимости сбавить тон в дискуссиях о будущем Польши. "Главное – это вовлечь польскую военную мощь, включая силы подполья, в эффективную борьбу против нацистов".
Вхождение предвыборной борьбы в решающую стадию не позволило Рузвельту откладывать визит премьер-министра эмигрантского правительства С. Миколайчика далее июня (напомним, визит откладывался по инициативе американского правительства более полугода). Семь миллионов поляков всегда голосовали в США как единый блок, и демократическая партия в этом блоке нуждалась. Но Рузвельт предпринял все же специальные меры, чтобы визит Миколайчика не нанес ощутимого удара по советско-американскому пониманию. Посол Гарриман, находившийся в мае в Вашингтоне в отпуске, получил указание убедить советское руководство, что Рузвельт будет верен тегеранской договоренности. Приезд Миколайчика не повлечет за собой общенационального обсуждения польского вопроса в США. А 17 июня президент лично писал Сталину, что визит Миколайчика "никоим образом не связан с какими-либо попытками с моей стороны вмешаться в спор между польским и советским правительствами... Я должен убедить вас, что не создается никаких планов или предложений, затрагивающих польско-советские отношения". Написано это десять дней спустя после высадки в Нормандии, где уже полторы сотни тысяч солдат закрепляли плацдарм и более всего нуждались в летнем наступлении Советской Армии. В своем ответе Сталин "высоко оценил" позицию президента США.
Подготовка к высадке во Франции делала для Рузвельта все более актуальным нахождение контакта с французскими политическими кругами. Четырнадцатого января 1944 года последовало заявление К. Хэлла, главные строки которого таковы: "Союзники надеются, что французы подчинят свои политические усилия необходимости единства для разгрома врага".
Государственный секретарь был полон решимости предоставить власть в освобождаемой Франции союзной военной администрации. "Желательным было бы, конечно, – пишет Хэлл, – общее выступление трех великих держав, но если СССР и Великобритания по каким-то причинам откажутся поставить свои подписи под американским заявлением, пусть оно служит выражением собственной политики США в отношении Франции".
Двадцать четвертого января 1944 года президент прислал Хэллу меморандум: "Я видел на прошлой неделе Галифакса (посла Англии. – А. У.) и сказал ему откровенно, что уже более года я придерживаюсь следующего мнения: Индокитай не должен быть возвращен Франции, он должен быть взят под международную опеку. Франция владела страной – тридцать миллионов жителей в течение почти ста лет, и ее жители ныне в худшем состоянии, чем сто лет назад".
Симпатизировал ли этим планам посол Галифакс? Чтобы узнать это, нужно посмотреть, о чем говорили между собой Уинстон Черчилль и Шарль де Голль на встрече в Марракеше в середине января. Ясно, что собеседники были далеки от восхваления Соединенных Штатов. Мысли, которыми де Голль делится в мемуарах, он, несомненно, изложил английскому премьеру. "Уже присутствие в этом кругу (в кругу великих держав. – А. У.) Англии зачастую казалось им (Соединенным Штатам) неуместным, несмотря на то, что Лондон всячески старался ни в чем не перечить Америке. А как мешала бы там Франция со своими принципами и своими руинами!.. Что касается Азии и ее рынков, то по американскому плану предусматривалось положить там конец империям европейских государств. В отношении Индии вопрос, по-видимому, уже был решен. В Индонезии Голландия вряд ли может долго продержаться. Но вот как быть с Индокитаем, если Франция оживет и вновь займет место среди великих держав?.. Вашингтон старался сколь возможно дольше рассматривать Францию как поле, оставленное под паром, а на правительство де Голля смотреть как на явление случайное, неудобное и в общем не стоящее того, чтобы с ним считались, как с настоящей государственной властью. Англия не позволяла себе такой упрощенной оценки положения. Она знала, что присутствие, сила и влияние Франции будут завтра, так же как это было вчера, необходимыми для европейского равновесия".
Результаты бесед в Марракеше еще скажутся в дальнейшем. Британский министр иностранных дел А. Иден писал своему послу в Алжире Дафф Куперу: "Для меня ясно, что любая мировая организация, которая может быть создана, должна быть укреплена различными системами союзов".
Наиболее важным Иден считал союз Англии с Западной Европой.
Американские планы в отношении Франции были приблизительно следующими: найти достаточно послушного французского генерала и передать ему функции верховной гражданской власти, подчиненной союзному командованию. Де Голлю "намерение президента напоминало грезы Алисы в стране чудес. В Северной Африке, в обстановке куда более благоприятной для намерений Рузвельта, он уже попробовал было провести ту политику, которую задумал осуществить во Франции. Из его попытки ничего не вышло. Мое (де Голля. – А. У.) правительство пользовалось на Корсике, в Алжире, Марокко, Тунисе, Черной Африке независимой властью; люди, на которых Вашингтон рассчитывал, надеясь воспрепятствовать этому, сошли со сцены".
В начале марта 1944 года Эйзенхауэр получает от Рузвельта инструкции, предполагающие сотрудничество с провинциальными выборными лицами в противовес центральной французской власти, создание которой откладывалось на неопределенный период времени. Эйзенхауэру запрещалось жертвовать хотя бы частью прерогатив. Посол США в комитете де Голля Вильсон описал Эйзенхауэру прием в Белом доме, во время которого президент высказал свое мнение, что Франция не нуждается в сильном центральном правительстве. "По его мнению, – пишет Вильсон, – в период, последующий за освобождением и до того времени, пока потрясенные французы не придут в себя и не станут готовы обсуждать конституционные вопросы, Франция будет управляться местными властями в департаментах и коммунах, как это в действительности имело место многие годы третьей республики. Президент сказал, что Эйзенхауэр будет иметь полную свободу в выборе своих французских партнеров и не обязан подчиняться чьим бы то ни было рекомендациям".