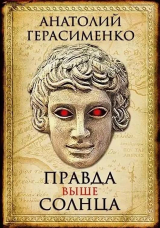
Текст книги "Правда выше солнца (СИ)"
Автор книги: Анатолий Герасименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 37 страниц)
☤ Глава 11. Участь смертных
Афины. Девятый день месяца таргелиона, первый час после восхода. Отличный день для морского путешествия. И очень плохой день для всего остального.
– Мы-то знали, что это случится, сынок. Вот будь Зевс свидетель, знали! Но чтобы так… Не чаяли никогда. Думали, сам догадаешься, что ни на меня, ни на старика не похож. Или ещё что. А оно вот как вышло. Ох, сыночек…
Федра, конечно, плакала. Притискивала Акриона к неохватной груди, похлопывала, как маленького, по голове. Причитала, частила жалобной скороговоркой, то в голос, то низким горячим шёпотом. У ног, метя пыль хвостом, вертелся дворовый пёсик, взлаивал в тон хозяйке. От Федры пахло молоком, свежими лепёшками, оливковым маслом, ромашковым настоем для волос. Пахло домом.
– Ну мама, – бормотал Акрион, – ну будет, да что уж, оставь. Мама, да всё хорошо. Ну…
Было отрадно произносить это простое, с детских лет примелькавшееся слово. Вчера он единственный раз назвал так Семелу и не мог того себе простить. Как только повернулся язык, как нашлось место в сердце для той холодной, чужой, бессердечной покойницы? Когда вот же она – мама.
– Явились к нам люди, все одетые богато, хорошо. Принесли тебя, спящего. Говорят, вот вам дитё. Кто да откуда – не ваше дело. Я гляжу: такой малютка красавец! Такой славный! Взяла на руки и целый день не отпускала. А ты весь день-то и спал. Только к ночи проснулся. Заплакал сперва, закричал, в угол забился. Ну, я тебя – на колени, да колыбельную петь. Ты и утих. Потом этак ко мне приник и снова спать…
Акрион чуть слышно вздохнул. Он пришёл в отчий дом до рассвета. Выдержал всё, что последовало за встречей. Сперва – родительская радость: сын нашёлся! Потом – гнев: где бродил, отчего не дал о себе знать? Затем – прощение: поистине, были причины, чтобы забыть на время о родных. После – раскаяние: столько лет не говорили правду, таили от сына подлинную его историю… Наконец – признания, объятия и слёзы, слёзы, слёзы. Солнце взошло, развеялся утренний туман, а Акрион всё сидел рядом с матерью на вынесенной во двор скамейке, слушая и узнавая подробности, которых, в общем-то, знать не хотел.
– А мы-то со стариком уж вовсе отчаялись надеяться, что у нас детки будут. И Деметре жертвы приносили, и Гестии, и Гименею. Даже в Элевсин ездили, и я там, дура старая, на Фесмофориях плясала с молодухами. Всё зря. И тут – такой подарок! Решили, что это боги нам тебя, сжалившись, подарили. Но, видно, за любой подарок богам положено платить. Да не жертвами, а вот так вот, в одночасье. Ох, что делается… Что делается-то…
Наконец, Федра, напричитавшись, нажалобившись, отпустила его и заспешила на кухню. Зычно, хозяйкиным голосом кликнула рабынь, грохнула чем-то железным: сына надобно собрать в дорогу. В опасную дорогу, дальнюю. Акрион украдкой вытер щёку, мокрую от материных слёз. Поднялся со скамьи. Оглянулся.
Киликий стоял у забора, что разделял – или соединял, как посмотреть – два двора, двор Акриона и двор родителей. Старческие руки замком сцепились на ручке клюки, белели костяшками. Борода, обычно вдоволь умащенная маслом, сейчас торчала седым колтуном. Поймав взгляд Акриона, Киликий улыбнулся. Без радости, через силу. Уголок губ его подрагивал.
– Так-то, – сказал он, натужно кашлянув. – Вот такие дела…
Пустил петуха на последнем слове, отвернулся, пряча глаза – правый, здоровый, и левый, заплывший бельмом.
Акрион сам не заметил, как прянул к отцу. Как-то вдруг, разом очутился рядом с ним, сжал в объятиях лёгкое стариковское тело. Задохнулся от жалости и любви. Искал слова, чтобы сказать всё, что было на уме: ведь столько ролей сыграл, столько красивых стихов учил назубок. Кажется, на любой случай мог бы вспомнить подходящую строку. Но ничего не вспоминалось.
– А я… Я про тебя Гермесу рассказывал, – наконец, проговорил он, сглотнув, и отступил на шаг.
Киликий снова кашлянул, рассмеялся хрипло и коротко.
– Вон, значит как, – сказал он, похлопав Акриона по руке. – Самому Гермесу? И что ж рассказывал?
Акрион смущённо улыбнулся:
– Как ты в Афины приехал, чтобы с Сократом беседовать. И про свиток твой тоже.
Киликий недоверчиво поднял брови:
– А что, Гермес читал Сократа?
– Читал? Да он наизусть «Этиологию» знает! – воскликнул Акрион, радуясь, что увёл отца от горьких дум. – Я только про даймоний ему прочёл по памяти – а он подхватил, слово в слово.
– Смотри-ка, – покрутил головой Киликий. – Вот ведь мудрец был Сократ. Подлинно достойный. Даже богам про него известно.
Он вдруг встрепенулся, пристукнул клюкой.
– Я же тебе хотел прочесть оттуда. Сейчас. Сейчас-сейчас…
И захромал в дом. Акрион, оставшись в одиночестве, с внезапной тоской оглядел знакомый – лучше всего на свете знакомый – двор. Низенькая галерея-пастада, алтарь Феба, сарай с облупившейся под самой крышей штукатуркой. Кусты рододендрона у забора, что роняют последние цветы. Земля усеяна яркими лепестками, и пёстрые куры роются в них.
Теперь его дом не здесь, и даже не по соседству. Теперь он будет жить во дворце. С сёстрами и советниками, с сотней рабов и прислужников. Хочет ли он этого? Будет ли это хорошо?
Стукнула клюка, зашуршал папирус. Вернулся Киликий со свитком.
– Вот, послушай, – единственный зрячий глаз суетливо шарил по строчкам, и второй, слепой, послушно, хоть и бесполезно, повторял движения собрата. – Где же… А, вот. Нашёл. «Требуется очень сильный дар провидения, чтобы как-нибудь невзначай, полагая обрести благо, не вымолить себе величайшего зла, когда боги расположены дать молящему именно то, о чем он просил». Понимаешь?
– Нет, – честно ответил Акрион. – То есть, сознаю то, что хотел сказать Сократ. Но не возьму в толк, к чему ты это сейчас...
Киликий нахмурился.
– Трудно говорить о таких вещах, – признался он. – Видишь ли, тебя можно считать счастливейшим из людей. Наставник – сам Гермес, а путь указывает не кто иной, как Феб. Но… они – боги, Акрион. У них свои понятия о жизни, о смерти, о вечности. Будь настороже, блюди себя. Любой шаг в компании бога может оказаться важным испытанием.
Акрион опустил голову.
– Спасибо, папа, – сказал он медленно. – Я… Я буду осторожен.
Через полчаса он вышел со двора, одетый в дорожный плащ, с плотно набитой сумкой за плечом. На душе было гадостно. Снова появилось странное, пугающее чувство, что попал в какой-то старый миф. Вот теперь нужно совершить подвиг, чтобы искупить вину и вернуть себе царство. Отчего же он не чувствует себя героем? Отчего же в сердце его только скорбь и тяжесть вины?
Прошлой ночью вампирши-эринии стали ещё страшней прежнего. Кружились над головой, когтили стоячий воздух потустороннего мира. И ещё они обрели способность говорить. Обвиняли Акриона в смерти Ликандра, в гибели Семелы. «Виновен, виновен, виновен! – визжали они. – Наш, наш, наш!» Он кричал в ответ, что неповинен. Что отца убил, не помня себя, под действием чар, а мать наткнулась на собственный кинжал. Боги, да ведь Акриона даже рядом не было в этот миг! Но вампирши не унимались: «Наш, наш, навеки наш!»
В ужасе он проснулся и долго не мог уснуть. Комкал простыни, лежал с открытыми глазами в дворцовой прохладной опочивальне. Хотел ведь идти к родителям с вечера, но страшная сморила усталость, едва ноги волочил, сил хватило лишь добрести до постели во дворце. Неудивительно – после всего, что стряслось... Да только эринии не дали выспаться.
«О, дай мне сил, Феб, – измученно подумал Акрион. – Они ведь отстанут, когда я верну твой курос в Дельфы? Скажи мне, дай знак…»
Знака не было.
Зато был Кадмил.
Божий посланник ждал, прислонившись к стене соседнего дома. Уплетал лепёшку, заедал из пригоршни сушёным инжиром, поглядывал на небо и в целом имел вид поистине божественно умиротворённый.
Рядом стояли, прядая мохнатыми ушами и одинаково подогнув заднюю ногу, две взнузданные кобылы гнедой масти.
– Простился? – спросил Кадмил, когда Акрион приблизился.
– Простился, – вздохнул Акрион. Похлопал по сумке: – Они мне поесть в дорогу собрали...
Кадмил сунул в рот остатки лепёшки.
– Вот сразу видно: не тот родитель, кто родил, а тот, кто воспитал, – жуя, одобрительно сказал он. – Я с собой тоже кой-чего прихватил. В лодке лежит. Живы будем – не помрём. Ну что ж, поехали в Пирей.
Они сели на лошадей и двинулись по улице. Солнце светило уютно и негорячо, с агоры слышались крики торговцев. Справа белела между домами великанская глыба Акрополя, над вознесёнными в небо статуями богов кружили чайки. Новый день начинался в Афинах, и многим он сулил куда больше счастья, чем Акриону.
– Ну, и о чём ты говорил с родителями? – спросил Кадмил. – Впрочем, можешь не отвечать, это личное.
Акрион поправил ремень сумки.
– Отчего же, – сказал он осторожно. – О Сократе говорили.
– Вот как? – удивился Кадмил.
– Ну, верней, не только о нём, – признался Акрион. – Мама рассказала, как меня принесли в дом. В тот же день, когда Семела отняла память. Оказывается, родители… То есть, Киликий и Федра даже не знали, чей я сын. Догадывались, конечно. Похож ведь. Но им никто не сказал наверняка.
– Похож – это не то слово, – подтвердил божий вестник. – Я вот сразу узнал. Вы с Ликандром – что один человек, только у тебя лицо поглупей. И без бороды.
Он засмеялся. Акрион выдавил принуждённый смешок.
– Киликий учил, что хороший актёр должен бриться, – сказал он. – Отец и сам ходил безбородый, пока не отошёл от дел.
– Актёры же выступают в масках, – пожал плечами Кадмил.
– Легче вживаться в роль, – объяснил Акрион. – Если надо сыграть женщину. Или мальчика. И потом, борода из-под маски всё равно видна.
– Надо вам уже баб на орхестру пускать, – нахмурился Кадмил. – Как-никак, девяностые Олимпиады на носу. Аполлон премудрый давно уж повелел смертным устраивать представления в любой праздник. Не то что раньше – раз в год собрались в театре, и хватит. Стало быть, можно ввести и другие новшества. Как тебе такое: женщина-актёр? А?
Акрион покосился на Кадмила: не подначивает ли, по своему обычаю? Но Кадмил был, кажется, совершенно серьёзен.
– Не знаю, – сказал Акрион с сомнением. – А как женщины будут мужские роли играть?
Кадмил прыснул со смеху, хлопнул в ладоши. Захохотал так, что шарахнулись, скандально каркая, вороны с ближних крыш.
– О, Зевс всеблагой, – вымолвил он сквозь смех, – обязательно расскажу Локсию. Всё, дружище Акрион, уговорил! Будут вам в театре бабы.
Акрион несмело хмыкнул, пытаясь сообразить, когда это он уговаривал Кадмила на такое сомнительное мероприятие. Но тот не дал подумать вволю.
– Так что же о Сократе? – спросил, всё ещё посмеиваясь. – Должно быть, отец первым завел разговор? Он ведь у тебя начитанный муж.
Акрион набрал было воздуху для ответа, но прикусил язык. Рассказать живому, настоящему богу про отцовские опасения? Мол, в «Этиологии» написано, что с вашим братом надо держать ухо востро? Ну нет. Ещё не хватало дерзить Гермесу.
– Да вот, – он лихорадочно перебирал всё, что помнил из Сократовой мудрости, – папа напомнил то место, где насчёт возмездия…
– Возмездия? – Кадмил одобрительно кивнул. – В самый раз, подходящая тема. Ты несёшь возмездие злодеям!
– Я? – Акрион стушевался. – Ну, это конечно…
Эринии.
Хлопанье крыльев. Бледные истоптанные цветы нездешней земли.
Визг, раздирающий уши. «Виновен, виновен, виновен».
– По мне самому возмездие плачет! – вырвалось у него.
Кадмил поглядел искоса:
– Всё не можешь простить себе ту ночь? Когда убил Ликандра?
Акрион не ответил.
Кадмил какое-то время ехал молча. Впереди виднелись Пирейские ворота: Афины, а с ними и отчий дом, оставались позади.
– «Человек несправедливый и преступный несчастлив при всех обстоятельствах», – заговорил Кадмил негромко. Тон его был серьёзным, бог больше не улыбался. – «Но он особенно несчастлив, если уходит от возмездия и остается безнаказанным, и не так несчастлив, если понесет наказание и узнает возмездие богов и людей». Отец напомнил тебе эту главу?
Акрион чуть двинул головой: ни согласно, ни отрицательно. Не мог врать Гермесу-душеводителю. Но как жалили слова Кадмила! Как кстати пришлись. Как болезненно кстати…
– Сократ говорил о природном умении различать добро и зло, – произнёс Кадмил задумчиво. – До него были софисты, которые учили, что всеобщей истины нет, и он их посрамил. Доказал, что добро – это непреложная истина, которую хранит в своём сердце любой из смертных. Но всё это применялось к людям, чья воля свободна. К людям, которые сознательно выбирают жизненный путь. А что, если человек находится под глубоким влиянием чужих идей? Что, если эти идеи навязаны теми, кто далек от слов «добро» и «зло»? Что, если сами понятия добра и зла подменены, извращены? Истолкованы так, как это удобно… кому-то ещё?
Он пристально поглядел на Акриона.
– Ты… – Акрион смешался. Потом сообразил. – Ты обо мне? О том, что я был околдован? Не знал, где подлинная правда, и оттого не знал, где добро и зло?
Кадмил отвёл взгляд.
– Примерно да, – сказал он угрюмо.
Акрион задумался. Они ехали вдоль Длинных стен, древних, замшелых, ветхих. В густой тени раскладывали свой скарб купцы, работорговцы выводили на помосты живой товар, прогуливались в ожидании клиентов ранние порне. Стены видели многое – куда больше, чем то, что довелось увидеть Акриону за последние несколько дней. Но, пожалуй, не нужно было прожить столько же, сколько стояли стены, чтобы отличить хорошее от дурного. Отличить свежий товар от лежалого. Рабство от свободы. Свидание со шлюхой от настоящей любви.
– Я понял, – сказал Акрион с затаённой радостью. – Это всё неважно. Кто угодно почувствует разницу. Самый ловкий обманщик, самый гнусный разбойник – они осознают зло, которое совершили. И либо раскаются…
Он взглянул на Кадмила и осекся. Вечно насмешливое, лицо бога потемнело, словно бы от самых тяжких мыслей. Лоб пересекли морщины, уголки рта опустились. Впрочем, Кадмил, заметив, что на него смотрят, тут же тряхнул головой и беспечно улыбнулся.
– Либо раскаются, либо – что? – спросил он.
– Либо… – Акрион развёл руками, – погибнут, наверное. Ведь так?
Кадмил хмыкнул и, перегнувшись через лошадиный бок, сплюнул в пыль.
– Конечно, погибнут, – сказал он легко. – Рано или поздно. В конце концов, такова участь всех смертных, а?
Акрион засмеялся. Всё было в порядке. Гермес просто хотел преподать ему урок – и преподал. А что Акрион по недомыслию урок не понял – это уже только его, Акрионова беда. Впрочем, авось, ещё выдастся случай понять.
Они проехали в молчании весь остаток дороги между Длинных стен до Пирея и дальше, через Пирей к гавани. Кадмил был занят думами, божественными размышлениями, которых Акрион, скорей всего, не смог бы постичь, даже если бы старался изо всех сил – по причине ограниченности человеческого разума. Поэтому он не пытался вызвать Кадмила на разговор. Тем более что собственные мысли не давали покоя. Кололи, терзали, жгли.
«Не знал правды, – твердил про себя Акрион, как заклятие. – Не видел правды. Меня захватила воля Семелы, и кровь отца – на её руках. А сама Семела? Кто повинен в её гибели? Наткнулась на статую. Убила – буквально! – сама себя. Но почему тогда так тошно, словно бы сам её зарезал? И эринии, проклятые чудовища, они тоже винят меня в её смерти. Да, я впал в буйство, она испугалась, выбежала без огня в темноту, и от этого случилось всё дальнейшее. Только ведь и само буйство – это проклятье Пелонидов, моего преступления здесь опять-таки нет. Отчего же так погано на сердце?!»
Что-то коснулось ноги Акриона. Вокруг шумел порт, как всегда, полный моряков, торговцев, снующих туда-сюда рабов, мастеровых в пыльной одежде – и нищих. Слепой попрошайка, сидевший у дороги, тянул вслед путникам сложенные пригоршней ладони, хрипел беззубым ртом: «Монетку, добрые люди, не найдётся ли монетки?»
Акрион содрогнулся при виде его покрытых струпьями век. Натянув поводья, остановил лошадь, нашарил в сумке кошель и бросил нищему серебряную чешуйку гемиобола. Тот благодарно забормотал, а Акриону вспомнился другой слепец, Эдип, невольный отцеубийца. «Те, кто не знает, что такое зло, стремятся не к нему, а к тому, что кажется им благом, оно же оказывается злом», – писал Сократ. Эдип, как и Акрион, не знал, кого убивает; он хотел защитить свою честь, восстановить справедливость, стремился к благу. Так же и Акрион, стараясь как можно лучше сыграть роль, желал добра.
«На словах просто различить хорошее и дурное, – с тоской подумал Акрион. – На деле же осознаёшь всё слишком поздно. Ох, если бы знать тогда, знать всё заранее! Только сейчас понимаю, что Сократ имел в виду, когда говорил, что знание – величайшая добродетель».
Тем временем под лошадиными копытами скрипнули доски причала, вокруг замаячили лодочные невысокие мачты. Фелука, которую накануне вечером присмотрел Акрион, покачивалась на волнах, привязанная к массивным, позеленевшим от морской влаги бронзовым кольцам. Тут же, на причале стоял её хозяин, загорелый рыбак, одетый в обтерханный, точно у раба, гиматий – прямо на голое тело.
Кадмил, спешившись, коротко переговорил с хозяином, дал ему пару серебряных сов. Спрыгнул в лодку, призывно махнул рукой.
– Залазь, первейший из граждан! – крикнул он. – Времени до ночи мало, Кронос ждать не умеет!
Первейший из граждан… Намеренно ли Кадмил процитировал Софокла, или просто к слову пришлось? Как бы то ни было, натренированная память Акриона ухватилась за строчку и принялась разматывать нить монолога. «Сойдя в Аид, какими бы глазами я стал смотреть родителю в лицо иль матери несчастной? Я пред ними столь виноват, что мне и петли мало!» Слова бились в голове, пока Акрион широкими гребками выводил фелуку на большую воду, пока, прощаясь, глядел на исполинские, утренней дымкой затянутые силуэты Афины и Аполлона. «А город наш, твердыни, изваянья священные богов, которых я себя лишил, несчастный! Я первейший из граждан здесь…»
– Суши вёсла, – велел Кадмил. Он успел надеть диковинное чёрное платье и возился, привязывая себя за талию к скамье верёвкой. – Сейчас поедем с ветерком.
Акрион покорно кивнул. «О, если б я был в силах источник слуха преградить, из плоти своей несчастной сделал бы тюрьму, чтоб быть слепым и ничего не слышать. Жить, бед не сознавая, – вот что сладко…» Он уложил вёсла вдоль бортов, сел, покрепче упёршись ногами в днище.
Что-то щелкнуло внутри Кадмилова костюма. Лодка тронулась и пошла, набирая скорость, всё быстрей и быстрей. Акрион сощурился, отёр лицо от морских брызг.
– Если хочешь, можешь дрыхнуть, как в прошлый раз, – разрешил Кадмил. – Толку от тебя в дороге всё одно никакого. Подай-ка сюда только вон тот пузырь, а то на солнышке нагреется.
Акрион передал ему мех с разбавленным вином, лежавший под скамьёй. Кадмил взвесил мех в руке, приложился, сделал глоток. Тряхнул волосами, гикнул. Лодка рванулась вперёд, присела на корму, из-под носа вырвались буруны.
– О-хэ! – воскликнул Кадмил. – Этак еще до темноты долетим!
Акрион кивнул и полез под лавку, где лежала свёрнутая коровья шкура. Укрылся с головой, поёрзал в поисках удобного положения. Грудь и спину ломило после давешней вспышки в дворцовом подвале, когда он вырвал из стены крюки, к которым был привязан – и после всего, что случилось затем. После страшной, отвратительной бойни. «Но речь вести не должно о постыдном. Богами заклинаю: о, скорей меня подальше скройте, иль убейте, иль в море бросьте прочь от глаз людских!» Иль в море бросьте прочь от глаз людских… Он тихо застонал – как стонут от сильной боли, не желая того.
– Эй, – позвал Кадмил негромко.
Акрион выпростал голову из-под шкуры. Кадмил глядел просто, без насмешки.
– Я знаю, каково тебе сейчас, – сказал он.
«Знает? – недоверчиво подумал Акрион. – Сын самого Зевса, бог хитроумия и озорства? Как он может знать о таком?»
Кадмил кивнул, словно услышал его мысли.
– Это пройдёт, – сказал он. – Если станет совсем паршиво, просто помни, что это пройдёт. Забудешь. Привыкнешь. Правда.
Акрион качнул головой, не зная, что ответить. Снова укрылся шкурой.
Лодка подрагивала, разрезая волны. Пахло смолой, солью, мокрым деревом, рыбьей чешуёй. На корме вновь послышалось бульканье, затем Кадмил замурлыкал под нос песенку. Акрион без особой охоты прислушался.
Собака сказала кошке: не злись, сестрица!
Давай-ка больше не будем с тобой спорить.
«Он тоже её слышал?» – мелькнуло в голове. Хотелось подняться, спросить. Но деревянное ложе качалось, баюкая, успокаивая. Последние несколько суток Акрион спал урывками: в его сны вторгались эринии, визжали, гнали по туманному полю, заросшему бледными цветами…
…Он вздрогнул всем телом, выпав из дремоты. Спросонья показалось, что перед глазами – кожистое крыло чудовища. Акрион в ужасе забился, оттолкнул от себя то, что заслоняло лицо. Но это была просто коровья шкура, жёсткая, мохнатая и довольно пахучая. А снаружи глядело весёлое солнце, Аполлонов дар.
Акрион вздохнул. Закрыл глаза.
И потерялся в тёплом полумраке.
Врагами были – друзьями навек стали.
Забыли беды, живём, не зная печали.
Когда он проснулся, было темно и тихо. Лодка больше не покачивалась и, похоже, никуда не плыла. Акрион откинул шкуру и увидел над собой звёздное ночное небо.
– Проснулся? – донеслось с кормы. – Ну ты и горазд Гипноса славить!
Акрион потянулся, чувствуя, как, несмотря на неудобную позу, славно отдохнуло всё тело. Даже боль в растянутых мышцах почти прошла.
– Мы уже в Лидии? – спросил он, садясь.
– В Лидии, в Лидии.
В грудь толкнулось что-то холодное и мягкое – мех с вином. Акрион взял мех, в котором, судя по весу, плескалось на самом дне. С удовольствием отхлебнул. Завертел головой, пытаясь что-либо различить в темноте. Вдалеке теплились огоньки жилых домов. Где-то брехали собаки, тонко и весело ржал жеребёнок.
– А где море? – спросил Акрион с удивлением.
Кадмил издал довольный смешок:
– На этот раз я лучше подготовился. Оказывается, здесь есть речка, называется Каистр. Вот по ней мы и поднялись, пока ты спал. Клянусь Кронидом! Ты так храпел, что всех лягушек распугал по дороге.
Они оба негромко рассмеялись. Странно, но на душе у Акриона значительно полегчало. То ли помог долгий сон, то ли он и впрямь начал привыкать, как предсказывал Кадмил.
Акрион поболтал мех и допил остатки.
– Так куда же мы приплыли? – спросил он. – И… Прошу прощения, Долий, но мне бы отлить. Где тут можно?
Кадмил – тёмный силуэт на корме фелуки – сделал широкий жест рукой:
– Мы в паре стадиев от Эфеса. Что же до ссанья, то весь Каистр к твоим услугам, эллин! Надо сказать, воняет эта речушка так, что небольшое вливание ей пойдёт лишь на пользу.
Всё ещё смущённо посмеиваясь, Акрион встал на носу лодки и справил нужду в кромешной темноте, ориентируясь на плеск воды. Кадмил тем временем запалил на корме факел и принялся чем-то шуршать, издавая невнятные возгласы. Лодка чуть покачивалась.
– Держи-ка одёжку, – сказал он спустя минуту.
– Опять местными притворяться будем? – спросил Акрион, принимая узел тряпья.
– Лучше, – хохотнул Кадмил и завозился в темноте. – Напяливай давай.
Акрион развернул платье. Грубая ткань, длинные полы.
– Это… жреческое? – догадался он. – Чтоб не признали в храме?
– Точно. Тебе коротковато, но ночью и так сойдёт.
Переоблачившись, они вытащили лодку на берег и, освещая факелом дорогу, отправились туда, где горели домашние огоньки, вблизи оказавшиеся пастушьими кострами у городских стен. Ворота, разумеется, были уже закрыты на ночь. Кадмил, подойдя к стене, протянул руку. Акрион, вспомнив прежние их полёты, ухватился и был тотчас вознесён на высоту двух дюжин локтей, а затем возвращён на землю, уже в пределах Эфеса. Кадмил порылся в сумке, извлёк какой-то невиданный прибор. Помедлил, глядя на круглую, источавшую волшебное зелёное свечение диковину со стрелкой внутри.
– Туда, – он ткнул пальцем в направлении вонючего переулка. В переулке, словно откликаясь, пискнула крыса. – Вперёд, герой Аполлона! Только ступай потише, здесь стража на каждом углу.
Ночной Эфес в этот раз был другим. Тёмным, безлунным, безлюдным. Ни одного стражника, вопреки опасениям Кадмила, они не встретили. Чем теснее громоздились вокруг городские улочки, тем сильней давила на уши тишина. И тем тяжелей становилось на сердце. Так бывает, когда проснёшься утром и, ещё не осознав себя, не покинув пределы Морфея, вспоминаешь смутно: накануне случилась беда, нечто дурное, из-за чего весь грядущий день пойдёт не так. Спустя миг память о вчерашнем вернётся, и захлестнёт горе: предал друг, или погиб родич, или разбилась любовь. Но и эти мгновения между сном и невыносимой явью – они отравлены. Так отравлено было каждое мгновение ночи в Эфесе. Смутным предчувствием несчастья. Тревожным томлением.
Храм Артемиды тоже изменился. Акрион помнил светлые, облитые луной колонны, резные навершия, угловатые тени на ступеньках. Сейчас перед ним, закрывая звёзды, вздымалась мертвенная чёрная громада. Колонны походили на ноги чудовища, готовые раздавить человеческую букашку, осмелившуюся потревожить покой богини. Акрион задрал голову, силясь различить, где заканчивается каменная тьма, и начинается тьма небесная. Вздрогнул: еле видные, грозные фигуры над фронтоном были точь-в-точь эринии, готовые слететь и растерзать святотатца.
Кадмил тронул его за плечо:
– Что, струхнул? Не робей. Это же не настоящей Артемиды храм. Моя-то сестричка, конечно, не стерпела бы, что к ней вламываются в святилище. А Анассу бояться не нужно. Жалкое подобие нашей эллинской красавицы. Даже из лука стрелять не умеет.
Он тихо хихикнул. Акрион содрогнулся. Они стояли там же, где в прошлый раз, перед тем как разыграть сценку для начальника стражи. Площадь, мощённая булыжником, казалась в темноте мрачным озером, какие, по легендам, бывают в Аиде. Вокруг храма, усиливая впечатление, ползли огоньки – словно не стражники вышагивали там, а плыли души мёртвых, обречённые на вечную скорбь.
– Второй раз прежняя уловка не сработает, – пробормотал Акрион. – Через двери нас не впустят.
– Не впустят, – согласился Кадмил. – И, тем более, не выпустят, особенно с драгоценным куросом. Вон как бдят служивые. Сторожат со всех сторон. Только про одну сторону забыли. Хватайся за руку.
Они взмыли в небо – будто хотели дотронуться до звёзд. Промелькнули внизу огни, пронеслась в опасной близости статуя над фронтоном. Кадмил завис над крышей и аккуратно приземлился. Акрион отпустил руку, покачнулся на шаткой черепице.
– За дело! – велел Кадмил. – Только не шуми.
Стали разбирать черепицу, складывая её тут же, на конёк. Из прорех в кровле забрезжил свет: внутри храма горели факелы. Когда неровное, с зубчатыми краями отверстие достигло двух локтей в ширину, Кадмил вновь велел Акриону держаться крепче, и они медленно слетели вниз, в наос.
Внутри никого не было, все жрецы спали по своим кельям. На стенах горели факелы – скудно, давая больше копоти, чем света. Посреди храма грозно вздымалась каменная Артемида. Голова богини терялась в багровом сумраке, видны были только простёртые руки, которые будто бы тянулись к незваным гостям, желая схватить, задушить, раздавить. Грудь статуи усеивали круглые наросты – не то множественные сосцы, не то уродливые украшения.
Акрион огляделся.
– Меня в прошлый раз вели туда, – сказал он сдавленным шёпотом и показал вглубь наоса. – Там подземный ход.
– Эйя! – откликнулся Кадмил. – Указывай путь. Только голову получше замотай. Не ровен час, попадётся кто навстречу. Я-то невидимым стану, а ты…
– А я немым притворюсь, – хрипло сказал Акрион, пытаясь улыбнуться. Кадмил беззвучно хохотнул, и они, обойдя белую плиту алтаря, направились к двери, ведущей в подземный ход.
Им никто не встретился. Ни в узком коридоре, где стены блестели, отражая свет лампы, которую Кадмил вручил Акриону. Ни в тайном святилище, где журчание воды ломалось каменным бойким эхом, а чернокаменная статуя – малая копия той, большой, что стояла в наосе – глядела на пришельцев с бессильной злобой. Акрион долго ощупывал стену за спиной Артемиды, каждый миг безотчётно ожидая, что изваяние оживёт, повернётся и обрушит на него всю мощь божественного гнева. Наконец, нашарил тайный выступ, надавил, и каменная плита скользнула внутрь.
Пройти полстадия по тайному ходу. Найти рычаг на грубо обтёсанной базальтовой стене. Щелчок, скрежет, дуновение ветра.
Тайная келья Фимении. Запах благовоний не успел выветриться, и ещё пахнет жильём – ношеной одеждой, едой, дыханием. Пахнет сестрой.
– Вот, – сказал Акрион, ставя лампу на пол. – Это он. Аполлон Дельфиний.
Курос блеснул сапфировым оком, улыбнулся мудрыми, безразличными губами.
Кадмил оттеснил Акриона плечом, деловито ощупал бок изваяния. Постучал костяшками. Курос отозвался гулким тупым звуком.
– Хвала пневме, – сказал Кадмил непонятно и с облегчением. – Традиционная техника. Слоновая кость и золото на деревянной основе. Весит, должно быть, не больше трёх талантов. Вынесем.
Акрион оглянулся. Почему-то не хотелось покидать тесную келью. Хотелось, наоборот, сесть на топчан, разжечь курильницу, помолиться Фебу. Подумать, помедлить. Он нашарил за пазухой Око, стиснул в ладони. О, Аполлон всеблагой. Видишь: я вдали от дома, в логове врага. На сердце у меня – смятение и страх. О, дай мне сил, Аполлон, всего немного. Чтобы обрести покой. Чтобы снова знать, где добро, а где зло. Чтобы искупить то, что сделал. Дай сил, милосердный боже…
– Пошевеливайся, времени в обрез, – заворчал Кадмил, перекидывая сумку на бок и доставая моток прочной верёвки. – Обвязывай, да покрепче.
Верёвка скользила вокруг деревянного тулова, обложенного слоновой костью, петляла подмышками, собиралась змеиными кольцами на шее.
«Прости нас, Дельфиний, – мысленно попросил Акрион. – Неподходящим образом мы с тобой обращаемся. Но по-другому никак. Скоро вернешься домой, в Пирей. Люди обрадуются…»
Кадмил протиснулся к очагу. Вынул из сумки нечто маленькое, загадочное. Наклонился, втиснул в щель между камнями. Акрион хотел спросить: что там? Но не посмел.
«Деяния божественные вне разумения смертных, – подумал он. – Кадмил знает, что делает. Я и так слишком много донимаю его вопросами. И всё время пользуюсь его помощью. А сам-то для успеха ровно ничего не совершил. Оно понятно: Гермес – как и положено, хитроумный. Мудрый. Печётся обо мне. Настоящий друг… Если, конечно дозволено бога назвать другом. Но как-то это всё неправильно».
Он завязал последний узел. На конце верёвки была сделана петля – видно, Кадмил позаботился заранее.
«Я будто бы не хозяин своей судьбе».
– Ну что? – нетерпеливо спросил Кадмил. – Готово? Наклоняй, подхвачу.
Они несли драгоценный курос по тайному ходу. Несли мимо статуи Артемиды, и многогрудая богиня простирала длани, желая удержать тех, кто осквернил святилище, похитил драгоценность. Несли мимо звенящих вод бассейна, всё дальше и дальше, всё выше и выше. Несли в потёмках, потому что лампу пришлось погасить – не хватало рук держать её. Несли, пересиливая боль в натруженных спинах, несли, дыша сбивчиво и тяжело, несли, перешёптываясь и еле слышно бранясь под нос.






