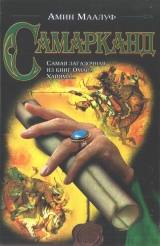
Текст книги "Самарканд"
Автор книги: Амин Маалуф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
III
Эту ночь Омар провел без сна в деревянном флигеле – бельведере, стоящем на пригорке посреди огромного сада Абу-Тахера. На низком столике перед ним лежали калам[11]11
тростниковое перо.
[Закрыть] и чернильница. Книга была открыта на первой странице. Рядом стояла погасшая лампа.
На заре прекрасная, как видение, рабыня принесла ему поднос с дольками дыни, новую одежду и шелковую ткань из Зандана для тюрбана.
– Мой господин ждет тебя после утренней молитвы.
Когда он вошел в диван, тот был уже полон: истцы, просители, придворные, посетители всякого рода и среди них студент со шрамом, явившийся за новостями. Стоило Омару переступить порог, как кади уже приветствовал его, призывая и других последовать его примеру.
– Добро пожаловать имаму[12]12
стоящий впереди, вождь, руководитель.
[Закрыть] Омару Хайяму, человеку, с которым никто не сравнится в знании обряда, завещанного нам Пророком, несравненному, непререкаемому авторитету в вопросах веры.
Посетители один за другим поднимались со своих мест, кланялись и приветствовали его почтительными словами. Омар исподтишка наблюдал за Рассеченным, чье лицо расплылось в неком подобии улыбки, тогда как на самом деле его душило возмущение. Абу-Тахер пригласил Омара занять место по правую руку от себя, заставив прочих подвинуться, после чего заговорил:
– С нашим выдающимся гостем случилась неприятная история. Вчера вечером он, ученый, почитаемый в Хорасане, Фарсе и Мазандаране, желанный гость любого из городов, любого из правителей, подвергся нападению на улицах Самарканда!
Поднялся шум, раздались возмущенные возгласы, кади выждал некоторое время, а затем жестом успокоил собравшихся:
– Мало того, на базаре чуть было не разгорелся бунт. И это накануне приезда нашего глубокочтимого Насер-хана, Светила Царства, которого мы уже сегодня ожидаем из Бухары, если на то будет воля Господа! Не мыслю себе, что было бы, не разгони мы толпу. Говорю вам, многие головы полетели бы с плеч!
Он сделал паузу, чтобы перевести дух, усилить впечатление от сказанного и дать страху поселиться в сердцах собравшихся.
– К счастью, один из моих давних учеников, здесь присутствующий, узнал нашего выдающегося гостя и предупредил меня. – Он указал на Рассеченного и попросил того встать. – Как ты узнал имама Омара?
В ответ послышалось нечто невразумительное.
– Громче! Наш дядюшка в летах не слышит тебя! – громогласно повелел кади, указав на белобородого старца слева от себя.
– Нашего выдающегося гостя я узнал по его красноречию, – с трудом выдавил из себя Рассеченный, – ну я и поинтересовался, кто он, прежде чем вести его к кади.
– Ты хорошо поступил. Если бы вспыхнул бунт, пролилась бы кровь. Пойди сядь рядом с гостем, ты это заслужил.
Пока Рассеченный с лживо-покорным видом шел по залу, Абу-Тахер шепнул Омару:
– Пусть он и не станет твоим другом, зато теперь не сможет прилюдно нападай на тебя. – И громко, на весь зал, вопросил: – Могу ли я надеяться, что, несмотря на все, что он перенес, Омар-ходжа не будет думать о Самарканде дурно?
– То, что произошло вчера вечером, уже забыто. Вспоминая об этом городе, я буду видеть совсем иной его образ, образ одного замечательного человека. Я говорю не об Абу-Тахере. Лучшая похвала, которой может удостоиться кади, это похвала не его достоинствам, а прямоте тех, за кого он в ответе. Так вот, в день моего приезда лошак мой с трудом одолел последнюю возвышенность, за которой уже виднелись Кишские ворота, и только я слез с него, как ко мне подошел незнакомец.
«Добро пожаловать в наш город, – проговорил он. – Есть ли у тебя здесь родные, друзья?»
Я отрицательно помотал головой и поостерегся останавливаться, боясь, что он окажется разбойником, попрошайкой или просто навязчивым человеком. Но он снова заговорил:
«Пусть моя назойливость не пугает тебя, благородный человек. Мой хозяин приказал мне встречать здесь любого, кто въедет в город, чтобы предложить ему гостеприимство».
Человек этот, судя по всему, был скромного достатка, но одет опрятно и не лишен хороших манер. Я последовал за ним. Вскоре он открыл массивную дверь, я переступил порог и оказался в коридоре со сводчатым потолком, который вел во двор караван-сарая с колодцем посередине. Двор был заполнен вьючными животными и занятыми своими делами людьми. По всему его периметру шло двухэтажное строение с комнатами для постояльцев. Человек сказал:
«Можешь оставаться здесь сколько хочешь, одну ночь или несколько месяцев. Тут ты найдешь кров и пищу, а также корм для скотины».
Когда же я поинтересовался платой, он обиделся:
«Ты гость моего хозяина».
«А где же сам великодушный хозяин? Я желал бы поблагодарить его».
«Тому уж семь лет, как его не стало, но он оставил мне сумму, наказав полностью потратить ее на гостей Самарканда».
«Могу я знать, как звали твоего хозяина, чтобы хотя бы рассказать о его благодеяниях?»
«Один Всевышний заслуживает твоей благодарности. Обращайся к Нему, а уж Он будет знать, кто этот благодетель».
Несколько дней оставался я в гостях у этого человека. Уходил, возвращался, меня всегда ждали изысканные яства, а за моим лошаком ухаживали лучше, чем это сделал бы я сам.
Омар оглядел присутствующих, словно ища отклика на свой рассказ. Но, странное дело, поведанная им история не вызвала ни в ком ни восхищения, ни удивления. Видя его замешательство, кади проговорил:
– Множество городов претендует на звание самых гостеприимных из всех исламских городов, но лишь Самарканд заслужил чести так именоваться. Насколько мне известно, никогда ни один путник не платил здесь за кров и пищу, некоторые семьи даже разорились на этом. Но похвальбы от самаркандцев ты не услышишь. В городе более двух тысяч питьевых фонтанчиков из глины, меди, фарфора, ты мог заметить их повсюду, они доступны всем и всегда полны свежей воды. Неужели ты думаешь, что кто-то один мог начертить на них свое имя, чтобы принимать благодарность?
– И впрямь нигде не встречал я подобной щедрости. Но позвольте задать вопрос, который не дает мне покоя.
– Догадываюсь, о чем ты хочешь спросить: как люди, столь высоко ставящие добродетель гостеприимства, могут допускать то, что случилось вчера с тобой?
– Или с несчастным стариком Долговязым Джабером.
– Отвечу тебе одним словом: из страха. Любая жестокость здесь порождена страхом. Нашу веру со всех сторон осаждают: карматы из Бахрейна, имамиты из Кума, жаждущие отмщения, семь десятков сект, румы[13]13
Румы, или ромеи-византийцы.
[Закрыть] из Константинополя, неверные всех, мастей, но более всего исмаилиты[14]14
Исмаилизм – ответвление шиизма. Исмаилиты считали духовными вождями (имамами) своей тайной секты только потомков от Магомета от Али. Шестым имамом был Джафар ибн Мухаммед асх Садик (Правдивый). Он отстранил старшего своего сына Исмаила от наследования за пристрастие к вину. Исмаил умер раньше отца, не оставив сына (имамат передавался по линии старшего сына). На Исмаиле главная линия рода Мухаммеда прервалась. Однако исмаилиты считали, что Аллах не мог прервать эту святую линию, и божественная благодать Пророка продолжает передаваться по наследству, но тайно, от одного скрытого имама к другому.
[Закрыть] из Египта, чьи адепты наводнили Багдад и проникли даже в Самарканд. Никогда не забывай, чем являются наши исламские города – Мекка, Медина, Исфахан, Багдад, Дамаск, Бухара, Мерв, Каир, Самарканд: оазисами, всегдашними заложниками песчаных бурь, которые вмиг могут быть превращены в пустыню, стоит отнестись к ним с небрежением. – Бросив взгляд в окно, кади опытным глазом определил время и поднялся. – Пора встречать нашего повелителя – И хлопнул в ладоши: – Пусть нам принесут чего-нибудь на дорожку!
У него вошло в привычку запасаться в дорогу изюмом; приближенные и гости подражали ему. Слуги внесли огромный медный поднос с горкой светлого изюма и обнесли каждого.
Когда очередь дошла до Рассеченного, он протянул свою горсть Хайяму:
– Ты, конечно, предпочел бы, чтобы виноград был тебе предложен в виде вина.
И хотя он говорил негромко, словно по волшебству наступила тишина – затаив дыхание, все ждали, что ответит Хайям.
– Хочешь выпить, с умом выбирай виночерпия и того, с кем собираешься разделить удовольствие, – прозвучало в ответ.
Рассеченный слегка возвысил голос:
– Я-то и капли в рот не возьму, потому как хочу попасть в рай. А ты вроде не очень-то туда стремишься.
– Провести целую вечность в компании с поучающими тебя трезвенниками? Нет уж, благодарю покорно, Господь уготовил нам иное.
На этом их обмен колкостями пресекся. Омар поспешил на зов кади:
– Не помешает, если горожане увидят, как ты скачешь на лошади рядом со мной, это сгладит впечатление от вчерашнего.
В собравшейся на подступах к резиденции толпе Омару показалось, что в тени грушевого дерева мелькнула та, что взяла у него вчера из рук орешки. Он попридержал кобылу, пытаясь разглядеть ее, но Абу-Тахер скомандовал:
– Скорее, горе нашим костям, если хан прибудет раньше нас.
IV
Испокон веков астрологи утверждали, что четыре города возникли на земле под знаком мятежа: Самарканд, Мекка, Дамаск и Палермо. И не ошиблись! Никогда эти города не подчинялись своим правителям, разве что их к тому принуждали, никогда не следовали прямым путем, разве что он был проложен мечом. С помощью меча Пророку удалось сбить спесь с жителей Мекки, подобно ему поступлю я и с жителями Самарканда!
Насер-хан, владыка Заречья, стоял перед своим троном – гигантским, покрытым медью сооружением, утопающим в коврах, и метал громы и молнии, заставляя трепетать родных и гостей; взгляд его бродил по толпе, выискивая жертву: кого-то посмевшего не сдержать дрожь, или принявшего недостаточно сокрушенный вид, или напоминавшего ему о предательстве. Все инстинктивно пытались спрятаться за соседа или всей своей повадкой – согбенной спиной, понурой головой – выразить ему сочувствие и переждать грозу.
Так и не найдя жертвы, Насер-хан стал с остервенением стаскивать с себя парадные одежды, бросать их на пол, топтать ногами, изрыгая россыпь звучных ругательств на своем родном кашгарском диалекте – смеси тюркского и монгольского. По обычаю облеченные высшей властью с утра надевали на себя по три, четыре, иной раз до семи расшитых кафтанов, от которых в течение дня избавлялись, передавая их тем, кого желали отличить или наградить. Поступив так, Насер-хан дал понять, что сегодня никто из его подданных этого не заслужил.
День приезда Насера в Самарканд должен был стать праздничным, как и всякий раз, когда город посещал государь, однако случилось так, что радость угасла в первые же минуты его появления. Взобравшись по крутой мощеной дороге, ведущей от реки Сиаб к городу, хан торжественно въехал в него через Бухарские, северные ворота. Тогда еще его лицо светилось всеми своими черточками, маленькие глазки казались посаженными глубже, чем обычно, скулы лоснились в янтарных солнечных лучах. И вдруг его настроение резко изменилось. Это произошло в тот самый миг, когда он приблизился к группе из двух сотен именитых граждан, окружавших Абу-Тахера, среди которых находился и Омар, окинул их беспокойным подозрительным взором и не увидел тех, кого искал. Он натянул поводья, заставив лошадь встать на дыбы, и поскакал прочь, ворча себе под нос что-то неразборчивое. При этом он сидел на своей вороной кобыле так, словно аршин проглотил, ни разу больше не улыбнулся и не ответил на овации тысяч жителей, с рассвета дожидавшихся его появления. Многие размахивали над головой прошениями, написанными по их просьбе писцом, но никто не осмелился приблизиться к нему и самолично их подать. Его приближенный собрал прошения, обещая представить их на рассмотрение.
Процессию возглавляли четыре всадника с высоко поднятыми династическими штандартами коричневого цвета, затем верхом на коне ехал хан, за ним голый по пояс раб с огромным опахалом. Не делая нигде остановок, процессия миновала главные улицы города, обсаженные искореженными тутовыми деревьями, и, не заезжая на базар, двинулась вдоль арыков до квартала Асфизар. Там, в двух шагах от резиденции Абу-Тахера находился временный дворец шаха. В прошлом властители селились внутри цитадели, однако в результате недавних сражений она пришла в негодность. С тех пор на ее территории размещался турецкий гарнизон, разбивший палаточный город.
При виде убийственного настроения хана Омар засомневался, стоит ли ему идти во дворец и воздавать ему почести, но кади и слышать не хотел его возражений, втайне надеясь, что присутствие поэта поможет разрядить обстановку. По дороге Абу-Тахер просветил Хайяма относительно случившегося: высшее духовенство города решило бойкотировать церемонию встречи, обидевшись на хана за то, что он приказал дотла сжечь Большую мечеть Бухары, где укрылись его противники.
– Между сюзереном и духовенством, – объяснял кади, – идет постоянная война, порой открытая, кровавая, но по большей части тайная.
Будто бы дошло даже до того, что улемы[15]15
мусульманские богословы.
[Закрыть] вошли в сговор с группой военачальников, которых приводило в отчаяние поведение их повелителя. Его предки принимали пищу вместе с воинами и не упускали возможности напомнить всем, что их власть опирается на воинскую доблесть выходцев из народа. Но со временем турецкие ханы стали все больше напоминать персидских правителей прошлых веков: воспринимали себя чуть ли не как богов, окружали себя все более сложным церемониалом, для высших армейских чинов непонятным и даже унизительным. И, потому часть высшего состава армии пошла на сближение с духовенством и не без удовольствия выслушивала, как поносят Насера, обвиняя его в отходе от норм ислама. Чтобы запугать военачальников, хан вел себя по отношению к улемам жестоко. Сыграл тут свою роль и пример отца, довольно набожного человека, тем не менее в самом начале своего царствования снесшего с плеч одну изрядно обмотанную шелковым тюрбаном голову.
В 1072 году Абу-Тахер был среди тех немногих, кто сохранил с ханом добрые отношения: он и сам частенько наведывался к нему в Бухару, где находилась главная резиденция, и во всякий его приезд в Самарканд устраивал ему торжественный прием. Кое-кто из улемов неодобрительно посматривал на его соглашательство, но большинство ценили в нем посредника.
И теперь ему предстояло в очередной раз исполнить свою роль примирителя, не перечить Насеру, использовать мельчайший просвет в его настроении, чтобы пробудить в нем лучшие чувства. Он выжидал, когда минуют самые тягостные минуты, когда хан поудобнее устроится на мягкой подушке трона, и только тогда исподволь повел свою тончайшую, незаметную для непосвященного игру по сближению сторон. Омар вздохнул с облегчением, видя, как умело обходится Абу-Тахер с разгневанным монархом: по его знаку дворецкий привел юную рабыню, которая подобрала с пола разбросанные, будто тела на поле брани, одежды. Присутствующие тотчас почувствовали облегчение, распрямились, иные отважились даже шепнуть что-то на ухо соседу.
Выйдя на середину зала, кади встал напротив хана, склонил голову и застыл, не роняя ни звука, до тех пор, пока Насер не бросил ему властным тоном, в котором сквозило пренебрежение:
– Пойди скажи всем улемам этого города: пусть с рассветом явятся к моим ногам. Голова, что не склонится, полетит с плеч долой. И чтобы не вздумали бежать от моего гнева, все равно не убегут.
Стало ясно: буря улеглась, выход из сложной ситуации наметился, и когда строптивцы повинятся, господин перестанет свирепствовать.
* * *
На следующий день Омар вновь сопровождал кади ко двору, где обстановка изменилась до неузнаваемости. Насер восседал на некоем подобии ложа, застеленного ковром темных тонов. Перед ним стояли два раба: один держал поднос с засахаренными розовыми лепестками, другой – сосуд, наполненный благоухающей водой, и полотенце. Шах брал по лепесточку, клал на язык и ждал, когда лакомство растает во рту, затем протягивал руку ко второму рабу, вытиравшему ее, и так раз двадцать, тридцать, все время, пока перед ним проходили депутации: от городских кварталов – Асфизара, Панжхина, Загримаша, Матюрида, торговых корпораций и ремесленников – жестянщиков, бумагоделов, шелководов, разносчиков воды, а также делегации от общин, находящихся под его покровительством, – еврейской, несторианской, огнепоклонников.
Каждая делегация начинала с целования земли, затем приветствовала хана челобитием, продолжавшимся до тех пор, пока он не подавал знака. После этого глава делегации произносил несколько фраз, и все пятились к выходу: поворачиваться к государю спиной не дозволялось. Подобный ритуал мог быть введен либо слишком озабоченным собственным величием сувереном, либо чересчур недоверчивым подданным.
Затем наступил черед церковных иерархов, их появления ждали с любопытством и страхом. Абу-Тахеру не составило труда убедить их явиться, ведь заявить о своем недовольстве – одно, а упорствовать в непослушании – другое, и мученической смерти никто из них не желал.
Десятка два священников предстали пред очи хана и склонились в глубочайшем поклоне, ожидая знака, по которому можно выпрямиться. Но знака не последовало. Прошло десять минут, двадцать. Уже и молодые были не в силах оставаться в неудобной позе, что ж говорить о пожилых. Как быть? Выпрямиться без позволения правителя значило неминуемо подвергнуться наказанию. И вот они один за другим стали падать на колени, что являлось не менее почтительной позой, но не столь тяжкой. И только когда последнее колено коснулось земли, хан мановением руки велел им подняться и удалиться без всяких приветствий. Произошедшее никого не удивило, это было ценой за непокорность, так было заведено.
Затем к трону стали подходить турецкие военачальники, именитые горожане, дехкане, зажиточные землевладельцы – все они прикладывались губами кто к ноге повелителя, кто к руке, кто к плечу, согласно своему общественному положению. После них на середину вышел поэт и прочел высокопарную оду во славу монарха, которая весьма утомила последнего. Жестом прервав поэта, он подозвал дворецкого и отдал приказ, который тому надлежало донести до присутствующих:
– Владыке наскучили одни и те же сравнения со львом, орлом и особенно небесными светилами. Пусть те, кому больше нечего сказать, удалятся.
V
Повеление хана вызвало среди двух десятков поэтов, дожидавшихся своей очереди, смешки, перешептывания, фырканье, иные отступили назад, а затем и вовсе ретировались. А вперед твердой походкой вышла женщина. Омар взглядом спросил о ней кади.
– Поэтесса из Бухары, называет себя Джахан. «Джахан» означает «необъятный мир». Молодая вдова с очень бурной личной жизнью, – произнес кади осуждающим тоном.
Но это лишь подогрело любопытство Омара, не отводившего взгляда от Джахан, слегка приподнявшей чадру, так что видны были лишь ненакрашенные губы. Она прочла весьма недурные стихи, в которых – странное дело – ни разу не прозвучало имя хана. В них лишь тонко прославлялась река Согд – благодетельница Самарканда и Бухары, чьи воды теряются в песках пустыни, поскольку ни одно море не достойно ее вод.
– Стихи твои хороши, пусть твой рот наполнится золотом, – произнес Насер свое обычное.
Поэтесса склонилась над огромным подносом с золотыми динарами и стала класть в рот монеты, а присутствующие – считать вслух их количество. Когда она чуть не задохнулась и подавила позыв выплюнуть все наружу, двор во главе с государем принялся хохотать. Насчитали сорок шесть динар. Дворецкий знаком предложил ей вернуться на место.
Не смеялся только Хайям. Глядя на Джахан, он пытался понять произошедшее на его глазах: ее стихи были так чисты и образны, сама она не робкого десятка, однако все испортила унизительная сцена получения ею вознаграждения. Перед тем как опустить чадру, она приподняла ее чуть выше, бросив в сторону Омара взгляд, который он попытался удержать, вобрать в себя. Это мгновение, для двоих длившееся вечность, не было замечено никем из окружающих. «О двуликое время, в длину движущееся в ритме солнца, в ширину – в ритме страстей», – пронеслось в голове Хайяма.
Кади похлопал друга по руке, желая привлечь его внимание, и сладчайший миг был прерван. А незнакомка успела исчезнуть.
Абу-Тахер счел, что наступил подходящий момент для того, чтобы представить хану своего молодого друга.
– Ваш августейший кров приютил величайшего ученого Хорасана – Омара Хайяма, которому в науках о травах и звездах нет равных.
Кади не случайно выбрал медицину и астрологию из многочисленных дисциплин, в которых преуспел Омар, ведь именно эти две отрасли знания неизменно пользуются благосклонностью государей: первая способствует продлению жизни, вторая – продлению успешного царствования.
Хан оживился, сказал, что весьма польщен. Однако, не расположенный к ученой беседе и явно заблуждаясь относительно намерений гостя, счел уместным отблагодарить и его.
– Пусть его рот наполнится золотом.
Омар лишился дара речи, к горлу подступила тошнота. Абу-Тахер заметил это и забеспокоился. Боясь, как бы отказ не оскорбил хана, он бросил на Омара значительный взгляд и подтолкнул его вперед. Однако Хайям был намерен во что бы то ни стало избежать постыдного ритуала.
– Ваше Величество, соблаговолите простить меня, но я пощусь и ничего не могу брать в рот.
– Но, если я не ошибаюсь, рамадан закончился три недели назад!
– Во время рамадана я находился в пути, направляясь из Нишапура в Самарканд, и мне пришлось прервать пост, дав обет позднее продолжить его.
Кади внутренне ахнул, все кругом заволновались, один хан оставался невозмутим.
– Ты ведь в курсе всех тонкостей соблюдения обрядов, так скажи, нарушит ли Омар-ходжа пост, наполнив рот золотыми монетами, а затем опорожнив его? – спросил он.
– Строго говоря, – принялся отвечать кади самым невозмутимым тоном, – все, что попадает в рот, нарушает пост. К тому же можно и проглотить монетку.
Насер выслушал его, но ответ не совсем удовлетворил его, и потому он вновь обратился к Омару:
– Назвал ли ты мне подлинную причину своего отказа?
– Это не единственная причина, – после недолгого колебания произнес тот.
– Говори, тебе нечего бояться.
Омар прочел стихотворение:
– Чтоб тебя! – в сердцах прошептал Абу-Тахер.
Зла Хайяму он не желал, но уж очень силен был страх перед ханом. Еще свеж был в памяти недавний его гнев, и он не был уверен, что удастся еще раз обуздать его. А тот замер и молчал, словно погрузился в глубокое размышление. Окружающие ждали, каким будет его первое слово, иные предпочли удалиться до того, как разразится новая буря.
Омар воспользовался всеобщим замешательством, чтобы отыскать взглядом Джахан: закрыв лицо руками, она стояла, прислонившись к колонне. Уж не из-за него ли она так переживала?
Наконец хан встал, решительно направился к Хайяму, дружески похлопал его по плечу, взял за руку и повел за собой.
«Хозяин Заречья проникся таким уважением к Хайяму, что приглашал его посидеть на троне рядом с собой», – донесли до нас хроники.
– Ну вот ты и друг шаха, – бросил Абу-Тахер Омару, стоило им покинуть дворец.
Его радость была под стать только что испытанному страху, от которого у него пересохло горло.
– Неужто ты забыл поговорку: «У моря нет соседей, у царя – друзей», – последовал ответ.
– Не пренебрегай дверью, которая распахнулась перед тобой, мне кажется, твое место при дворе!
– Придворная жизнь не для меня. Моя единственная мечта, мое заветное желание – обсерватория, утопающая в розах, звезды над головой, чарка в руке и красавица рядом.
– Такая, как поэтесса? – рассмеялся Абу-Тахер.
У Омара и впрямь на уме была она, но он молчал, боясь выдать себя. Кади посерьезнел:
– Прошу тебя об одной милости!
– Осыпать милостями по твоей части.
– Пусть так! Предположим, я попросил бы у тебя кое-что взамен.
Они вернулись в дом кади, разговор продолжался за накрытым столом.
– Есть у меня одна мысль относительно книги. Оставим на время «Рубайят». Стихи – неизбежный каприз гения. Подлинные области человеческого знания, в которых ты знаток, – медицина, астрология, математика, физика, метафизика. Не ошибаюсь ли я, считая, что после Ибн-Сины никто не разбирается в них лучше тебя? – Хайям молчал. Абу-Тахер продолжал: – Я хотел бы, чтобы ты написал книгу на основе всех твоих знаний, главную книгу, и посвятил ее мне.
– Не думаю, что можно написать труд, обобщающий все познания человечества, потому-то до сих пор я сам предпочитал читать, изучать, но ничего не писать.
– Объясни, что ты имеешь в виду?
– Древние ученые, греческие, индийские, восточные, оставили немало трудов по всем отраслям знания. Повторять сказанное? К чему? Спорить с ними? Меня без конца тянет это сделать, но тогда другие, которые придут после меня, поспорят со мной. Что же останется от книг ученых? Только то недоброе, что они писали по поводу своих предшественников. То, что они опровергли, будет помниться, а то, что создали нового, неизбежно подвергнется осмеянию. Таков закон, действующий в науке, в поэзии же такого закона нет, она не опровергает созданного до нее и не опровергаема последующими творениями, она спокойно живет в веках. Поэтому я и сочиняю. А знаешь, что меня завораживает в науках? Я нахожу в них высшую поэзию: в математике пьянительно кружится голова от цифр, в астрономии слышишь загадочный шепот вселенной. Но только не надо говорить со мной об истине! – Помолчав, он продолжил: – Я бродил в окрестностях Самарканда, повсюду видел развалины с надписями, не поддающимися прочтению, и думал: что осталось от города, некогда стоявшего на этом месте? Я не имею в виду людей – самых недолговечных из существ, но что остается от созданной ими цивилизации? Какое царство выжило, какая наука, какой закон, какая истина уцелели? Ничего, сколько ни рылся я в руинах, мне удалось найти лишь черепок горшка с изображением лица и фрагмент фрески. Вот чем будут мои бедные стихи через тысячу лет: черепками, осколками, обломками навсегда погребенного мира. От города остается безразличный взгляд, брошенный на него полупьяным поэтом.
– Мне понятны твои слова, – прошептал Абу-Тахер, на которого произвели впечатление доводы Хайяма. – Но не станешь же ты посвящать правоверному кади отдающие вином стихи!
Хайям нашел способ выразить благодарность своему покровителю, разбавил вино водой, если можно так выразиться. Он принялся за написание алгебраического труда, посвященного кубическим уравнениям. Для обозначения неизвестного числа он применял арабское слово chay, означающее вещь, в трудах испанских ученых оно превратилось в Xay, а впоследствии от него осталась лишь первая буква X, которой весь мир стал обозначать неизвестную величину.
Этот труд был завершен Хайямом в Самарканде и посвящен кади: «Мы жертвы века, в котором люди науки не ценятся, и лишь немногие из них имеют возможность предаться подлинным изысканиям… То немногое знание, что является достоянием сегодняшних ученых, обращено на получение материальных выгод… Я уж было отчаялся встретить в этом мире человека, который был бы одинаково заинтересован и в науке, и в мирских делах и был бы искренне озабочен судьбой рода людского, но Господь удостоил меня своей милости и послал мне великого кади, имама Абу-Тахера. Его заботам обязан я возможностью довести до конца сей труд».
Когда вечером того дня Хайям возвратился в свой бельведер, вокруг была кромешная тьма. Шел конец месяца шавваль, только что народилось новое ночное светило, но и его закрыли облака. А лампу он с собой не захватил, сочтя, что уже слишком поздно, чтобы читать или писать, и потому стоило ему удалиться от дома кади, как пришлось пробираться на ощупь, цепляясь за кусты, натыкаясь на ветки плакучих ив, спотыкаясь о камни. Когда же он был у цели, чей-то нежный голосок с упреком произнес:
– Я ждала тебя раньше.
Неужели голос этой женщины мог почудиться ему только оттого, что он так мною о ней думал? Стоя у двери, он вглядывался в темноту, но так ничего и не различил. Снова словно сквозь завесу послышалось:
– Хранишь молчание? Отказываешься верить, что женщина посмела проникнуть в твое жилище? Во дворце наши взгляды встретились, в них пробежала искра, но там были хан, кади, придворные, и ты отвел взгляд. Как и многие другие мужчины, ты предпочел оставить все как есть. К чему бросать вызов судьбе, к чему навлекать на себя гнев хана из-за какой-то женщины, вдовы, которая может подарить тебе лишь острый язык и сомнительную репутацию?
Загадочная сила сковала Омара, он не мог ни пошевелиться, ни разжать губы.
– Молчишь,– продолжала Джахан, в голосе которой сквозь иронию пробивалась нежность. – Тем хуже, я и дальше могу говорить одна. До сих пор инициативу проявляла лишь я. Когда ты покинул дворец, я стала о тебе расспрашивать, узнала, где ты живешь, сказала, что отправилась навестить кузину, которая замужем за богатым торговцем из Самарканда. Обычно, когда я путешествую вместе со двором, мне удается устроиться на ночлег в гареме, там у меня есть подруги, которые ценят мое общество и с нетерпением ждут моих рассказов, я для них не соперница, поскольку видов на их мужа не имею. Я могла бы соблазнить его, но слишком часто навещала жен сильных мира сего, чтобы это вызывало у меня желание уподобиться им. Для меня сама жизнь значит гораздо больше, чем мужчины! Пока я чья-то жена или вдова, государь благосклонно взирает на мои занятия поэзией. Вздумай он жениться на мне, прощай, свобода.
С трудом выйдя из состояния оцепенения, лишившего его дара речи, Омар пока мало что понял из речей Джахан, когда же решился ответить, то обратился не столько к ней, сколько к себе или чьей-то тени:
– Сколько раз юношей и позже, повзрослев, встречался я с чьим-то взглядом, улыбкой. Ночами мечтал, чтобы этот взгляд перевоплотился из мечты в реальность, стал ослепительной точкой в ночи. И вот наконец сегодня в этом необычном доме и нереальном городе ты со мной: красавица, поэтесса, да к тому же первая сделала шаг навстречу.
Она рассмеялась.
– Первая-то первая, но ты ведь еще не дотронулся до меня, не видел меня, да и не увидишь, потому как я намерена исчезнуть до восхода солнца.
В густой темноте раздалось шуршание шелка, разнесся аромат духов. Омар задержал дыхание, плоть его проснулась, и простодушный, как у школьника, вопрос сорвался с его губ:
– Покров все еще на тебе?
– На мне нет иных покровов, кроме ночного.








