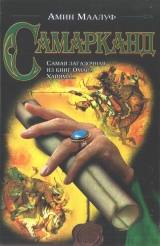
Текст книги "Самарканд"
Автор книги: Амин Маалуф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
XXXVII
По вечерам почти все лавки на базаре Тебриза закрыты, но он не пуст, улочки оживлены, гудят от разговоров, дым, поднимающийся над кальянами, потихоньку прогоняет дневные запахи. Я бреду за Говардом. На перекрестке собралась кучка мужчин, другая уселась в кружок на тростниковых стульях. Говард останавливается, здоровается с одним, другим. Повсюду, завидя его, дети бросают игры и почтительно расступаются перед ним.
Наконец мы добираемся до изъеденной ржавчиной калитки. Говард уверенно толкает ее, и мы оказываемся в запущенном саду, в глубине которого спрятан глинобитный домик. Говард стучит семь раз, дверь распахивается, мы оказываемся в просторном помещении, освещенном подвешенными к потолку фонарями «летучая мышь». Они раскачиваются от проникающих в помещение порывов ветерка. Присутствующие, должно быть, привыкли к этому, у меня же очень скоро появляется ощущение, что я на борту утлого суденышка, никак не удается сконцентрировать внимание, хочется одного – лечь и на несколько мгновений прикрыть глаза. Заседание долго не кончается. «Сыновья Адама» горячо приветствуют Баскервиля, а заодно и меня, сперва как его друга, а затем и инициатора его приезда в Персию.
Когда же я счел, что с моей стороны не будет невежливым сесть и прислониться к стене, из глубины комнаты на встречу мне двинулся какой-то человек в белом бурнусе – очевидно, самый главный в собрании.
– Бенжамен! – воскликнул он.
Я снова встал, сделал два шага ему навстречу и не поверил своим глазам. Фазель! Мы бросились в объятия друг друга.
Чтобы оправдать свою порывистость, не вяжущуюся с его обычной сдержанностью, он пояснил собравшимся:
– Господин Лесаж был Другом сеида Джамаледдина!
В ту же минуту из важного гостя я превратился то ли в исторический монумент, то ли в священную реликвию: собрание преисполнилось благоговейного трепета.
Я представил Говарда Фазелю, до этого они были знакомы лишь заочно. Фазель больше года не наведывался в Тебриз, свой родной город. Его присутствие на этом собрании среди жалких стен при пляшущем освещении фонарей «летучая мышь» показалось мне не случайным и пробудило беспокойство. Разве он не являлся одним из лидеров демократического крыла Меджлиса, опорой конституционных преобразований? Разве сейчас подходящий момент для того, чтобы покидать столицу? Я прямо задал ему эти вопросы, чем явно смутил его, хотя я и говорил по-французски и тихим голосом. Он оглянулся по сторонам и вместо ответа спросил:
– Где ты остановился?
– В караван-сарае армянского квартала.
– Этой ночью жди меня.
К полуночи в моей комнате набралось человек шесть: Баскервиль, Фазель, трое его товарищей, которых он назвал мне лишь по именам, и я.
– Ты задал мне вопрос, почему я здесь, а не в Тегеране. Так знай: столица уже потеряна для конституции. Объявить об этом в присутствии трех десятков человек я не мог, поднялась бы паника. Но это правда.
Все мы были слишком изумлены его словами, чтобы как-то отреагировать на них.
– Две недели назад ко мне пришел один журналист из Санкт-Петербурга, он пишет для «Речи». Его фамилия Панов, подписывается он псевдонимом «Тане», – продолжал он.
Это имя было мне известно, его статьи иногда цитировались лондонской печатью.
– Он социалист-демократ, враг царизма, но, прибыв в Тегеран несколько месяцев назад, скрыл свои убеждения, был вхож в русскую миссию, и не знаю уж как, но заполучил компрометирующие власти документы, а именно проект государственного переворота, который должна была совершить казачья бригада, чтобы восстановить абсолютную монархию. Все четко черным по белому: выпустить на базаре шайку воров, чтобы подорвать доверие торговцев к новому режиму, одновременно священникам обратиться к шаху с просьбой уничтожить конституцию как противоречащую исламу. Разумеется, Панов рисковал, вручая мне эти документы. Я поблагодарил его и тут же потребовал чрезвычайного заседания парламента. Детально изложив факты, я заявил о необходимости низложения монарха, замены его одним из его сыновей, роспуска казачьей бригады, ареста замешанных в заговоре священнослужителей. Несколько ораторов поддержали мои предложения.
И тут вдруг придверник поставил нас в известность, что полномочные послы России и Англии явились в здание Меджлиса с не терпящей отлагательства нотой. Заседание было прервано, председатель парламента и премьер-министр вышли. Когда они вернулись, на них не было лица. Оказывается, дипломаты поспешили предупредить их о том, что в случае низложения шаха обе державы сочтут своим долгом вмешаться в дела Персии и введут войска. Нас собирались задушить, запрещая нам даже защищаться!
– Откуда такое рвение? – убито поинтересовался Баскервиль.
– Царю не нужна на его границах демократия, а слово «парламент» приводит его в бешенство.
– Но британцы-то другое дело!
– Вовсе нет. Если бы персам удалось управлять своим государством по-взрослому, самостоятельно, их примеру могли последовать индийцы! Англии осталось бы сматывать удочки. Кроме того, не забывайте о нефти. В 1901 году один британский подданный, некий Кнокс д’Арси, получил за двадцать тысяч фунтов стерлингов право эксплуатации нефтяных скважин на территории всей Персидской империи. До сих пор добыча была мизерная, но вот уже несколько недель, как обнаружены огромные залежи нефти на бахтиарских землях. Вы об этом, конечно же, слышали. Для нашей страны это могло бы явиться важным источником доходов. Я попросил парламент пересмотреть контракт с британским подданным на более выгодных для нас условиях. Большинство депутатов меня одобрило. С тех пор министр-посланник Англии перестал со мной знаться.
– А ведь именно в садах его миссии имел место бест, – задумчиво произнес я.
– Тогда англичанам казалось, что русское влияние на страну слишком велико, что от персидского пирога им достается небольшой кусок, вот они и подначивали нас протестовать, распахнули для нас двери миссии. Поговаривают, что именно они размножили снимок, компрометирующий Науса. Когда же мы одержали победу, Лондон добился от царя согласия на дележку: север Персии становился отныне зоной русского влияния, а юг – заповедными местами Англии. Стоило британцам получить желаемое, демократические ценности тотчас утратили для них притягательность, как и царь, они усмотрели в них неудобство для себя и пожелали от них избавиться.
– Но по какому праву?! – взорвался Баскервиль.
Фазель отечески улыбнулся и продолжал рассказ:
– После визита в парламент дипломатов депутаты пали духом. Будучи не в состоянии противостоять сразу такому количеству врагов, они не нашли ничего лучшего, как обрушиться на несчастного Панова. Некоторые выступающие обвинили его в Мошенничестве и анархизме, мол, единственной его целью было поссорить Персию и Россию.
Журналист явился со мной в парламент и ждал меня в приемной у входа в зал заседаний, чтобы в случае необходимости подтвердить мои слова. Депутаты потребовали его ареста и выдачи царской миссий. Поставили на голосование.
Выдать палачам человека, который действовал в наших интересах, идя против своего собственного правительства?! Ну уж нет! Я, обычно такой сдержанный, не мог этого потерпеть, вскочил на стул и как помешанный закричал: «Клянусь землей на могиле моего отца, если этого человека арестуют, я созову «сыновей Адама» и утоплю парламент в крови. Ни один из тех, кто проголосует за это предложение, не выйдет отсюда живым!» Они могли лишить меня депутатской неприкосновенности и арестовать меня. Но не посмели. Заседание перенесли. В ту же ночь я покинул столицу и отправился в свой родной город. Панов со мной, скрывается в Тебризе, дожидаясь, когда можно будет пересечь границу.
Наша беседа продолжалась всю ночь.
Рассвело, послышались первые призывы к молитве, а мы все судили-рядили, выдвигали множество гипотез и никак не могли остановиться на чем-то одном, хоть и были вконец измотаны. Первым спохватился Баскервиль: потянулся, взглянул на часы и поднялся, почесывая затылок.
– Уже шесть! Бог ты мой, ночь напролет проговорили! С каким лицом предстану я перед учениками? И что скажет Его Преподобие, видя, как я возвращаюсь в такой час?
– Ты всегда можешь сказать, что провел ночь с женщиной!
Но Говарду было не до смеха.
Не хочу утверждать, что это было совпадением, поскольку случай тут ни при чем, однако как не отметить, что в тот самый момент, когда Фазель завершил свой рассказ о кознях против молодой персидской демократии, как раз и начался государственный переворот.
Как я впоследствии узнал, к четырем часам утра среды 23 июня 1908 года тысяча казаков под командованием полковника Ляхова выступила на Бахаристан – место заседаний парламента в центре Тегерана. Здание окружили, входы и выходы перекрыли. Члены местного энджумена, заметив передвижение войск, бросились в соседнее здание, где недавно был установлен телефон, чтобы позвонить некоторым депутатам и демократически настроенным религиозным деятелям, таким как айятолла Бехбахани и айятолла Табатабай. Они еще до рассвета явились к зданию парламента, чтобы выразить солидарность с конституцией. Странное дело, казаки беспрепятственно пропустили их. Видимо, им было приказано всех впускать, но никого не выпускать.
Стала собираться толпа. На рассвете протестующих против действий казаков было уже несколько сотен, и среди них немало «сыновей Адама». Карабины по шестьдесят патронов на брата с таким вооружением нечего и думать одолеть противника. Да и, кроме того, не было единодушия в том, следует ли применять оружие. Заняв позиции на крышах и у окон, защитники парламента не знали, стоит ли им стрелять первыми, тем самым дав сигнал к неизбежной бойне, или ждать, что давало врагу фору при свершении государственного переворота.
Только это еще и сдерживало казаков, готовых к осаде Меджлиса. Ляхов в окружении русских и персидских офицеров был занят диспозицией живой силы и пушек. Всего пушек насчитывалось шесть, самая мощная находилась на площади Топхане. Несколько раз полковник прогарцевал в зоне досягаемости ружейного выстрела, но айятоллы удержали «сыновей Адама» от выстрела, боясь, как бы царь не воспользовался этим в качестве предлога для оккупации Персии.
К середине утра был отдан приказ об атаке. Хотя и заведомо неравный, бой тем не менее длился шесть или семь часов. Обороняющимся удалось вывести из строя три пушки.
Это был героизм отчаяния. На закате в персидском парламенте, первом за всю историю Персии, был вывешен белый флаг. Однако, после того как отгремели последние залпы, Ляхов снова приказал стрелять. Директивы царя стали ясны всем: не просто покончить с парламентом как с общественным институтом, но и разрушить само здание Бахаристана, чтобы жители Тегерана увидели руины и навсегда зареклись что-то менять в своей стране.
XXXVIII
Бои в столице еще не закончились, как первый выстрел раздался в Тебризе. По окончании уроков в школе я зашел за Говардом: нам предстояло встретиться с Фазелем в одном из энджуменов и втроем отправиться на обед к одному из его родственников. Не успели мы углубиться в лабиринт базарных улочек, как где-то, судя по всему, неподалеку, грянули выстрелы.
С любопытством, не лишенным безрассудства, мы поспешили прямо туда, откуда они донеслись. И вышли на орущую толпу. Пыль, дым, лес дубинок, ружей и факелов, крики – все это неслось на нас. Что кричали, я разобрать не мог, поскольку это было на азери – разговорном турецком, бывшем в ходу в Тебризе. Баскервиль перевел: «Смерть конституции! Смерть парламенту! Долой атеистов! Да здравствует шах!» Десятки жителей разбегались в стороны, спасаясь от разъяренной колонны. Какой-то старик тянул за веревку обезумевшую козу. Женщина споткнулась и упала, сынишка лет шести помог ей подняться и бежать.
Мы с Говардом также ускорили шаг, спеша добраться до места встречи с Фазелем. По дороге нам встретилась группа молодых людей, строивших баррикаду: несколько стволов, на которые в беспорядке были навалены столы, кирпичи, стулья, лари, бочки. Нас узнали и пропустили, советуя поторопиться и объяснив: «те должны пройти здесь», «они хотят сжечь квартал», «они поклялись перерезать всех «сыновей Адама».
Когда мы добрались до энджумена, то увидели Фазеля, окруженного несколькими десятками вооруженных человек. Сам он был без ружья, только при пистолете – австрийском «Манлихере», – который служил ему для того, чтобы указывать каждому место, которое он должен занять. Он был спокоен, не то что накануне – так может вести себя человек действия, когда приходит конец невыносимому ожиданию.
– Ну вот! – бросил он нам с едва заметным победным выражением. – Все, о чем предупреждал Панов, сбылось. Полковник Ляхов устроил государственный переворот и провозгласил себя военным комендантом Тегерана, введя в городе комендантский час. С утра открыта охота на сторонников конституции по всей стране. Не исключая и, Тебриз.
– Как быстро развиваются события! – удивился Говард.
– Русский консул, которого предупредили о перевороте телеграммой, проинформировал религиозных деятелей Тебриза. Те призвали своих собратьев собраться в полдень в Девиши, квартале погонщиков верблюдов. А оттуда уж разошлись по городу. В первую очередь отправились к одному моему знакомому журналисту – Али Мешеди, выволокли его из дому, невзирая на крики его жены и матери, перерезали ему горло, отсекли правую руку и бросили в луже крови. Но не сомневайтесь, до наступления вечера Али будет отмщен.
Голос Фазеля дрогнул, выдавая его волнение, он помолчал, задышал ровнее и продолжил:
– Я пришел в Тебриз потому, что знаю: этот город выстоит. Земля, на которой мы находимся, все еще управляется конституцией. Отныне парламент и законное правительство здесь! Битва предстоит знатная, следуйте за мной!
Мы с Говардом и еще с полдюжины сторонников Фазеля двинулись за ним. Он вывел нас в сад и, обойдя дом, подвел к деревянной лестнице, конец которой терялся в густой листве. Мы взобрались по ней на крышу, перешли мостик, поднялись еще на несколько ступенек и оказались в помещении с толстыми стенами и узкими окошками, похожими на бойницы. Фазель предложил нам взглянуть на город сверху: мы были как раз над самым уязвимым местом квартала, перегороженным баррикадой. За ней виднелось десятка два человек с карабинами на изготовку.
– Есть и другие, – пояснил Фазель. – И так же решительно настроенные. Они перекрыли все подступы к кварталу. Будет чем встретить свору реакционеров.
«Свора», как он выразился, была между тем уже неподалеку. Она, должно быть, задерживалась в пути, предавая огню дома, в которых собирались «сыновья Адама», но теперь приближалась.
В какой-то момент все вокруг нас и под нами задрожало. Как бы ты ни был готов к зрелищу разбушевавшейся толпы, призывающей к смерти и мчащейся прямо на тебя, какие бы толстые стены ни укрывали тебя от нее, испытание это – одно из самых страшных.
– Сколько их? – невольно вырвалось у меня.
– Тысяча-полторы, – громко, четко и спокойно ответил Фазель и добавил, словно отдавая приказ: – Ну а теперь мы их испугаем.
И распорядился выдать нам с Говардом ружья. Мы обменялись взглядами, в которых сквозило веселое удивление, и с отвращением и одновременно завороженно взяли в руки врученные нам холодные предметы.
– Встаньте у окон и стреляйте в тех, кто будет приближаться. Я должен вас покинуть, у меня для этих варваров заготовлен один сюрприз!
Фазель вышел. Завязался бой, хотя, возможно, назвать это боем было бы преувеличением. Орущая и беснующаяся толпа налетела на баррикаду, стремясь с ходу взять ее, словно это был бег с препятствиями. «Сыновья Адама» стали стрелять, с десяток нападающих упали, остальные подали назад, лишь одному удалось взобраться на баррикаду, его проткнули штыком. Не в силах наблюдать за агонией, я отвел глаза.
Большая часть манифестантов держалась теперь подальше от баррикады, продолжая призывать к смерти. Затем последовала вторая волна атаки на баррикаду, на сей раз более умелая, сопровождаемая стрельбой по ее защитникам и окнам. Один из «сыновей Адама» получил пулю в лоб, это была пока единственная потеря с нашей стороны. Залпы его товарищей стали косить первые ряды атакующих.
Наступление захлебнулось, противники конституции отступили, готовясь к новому броску, но тут вдруг залп чудовищной силы сотряс квартал. В гущу атакующих угодил снаряд, они бросились врассыпную. Защитники демократии принялись потрясать ружьями с криком «Machrouté! Machrouté!» («Конституция! Конституция!»). Десятки трупов остались лежать перед баррикадой.
– Мое ружье все такое же холодное, я не израсходовал ни одного патрона. А ты? – шепнул Говард.
– Я тоже.
– Видеть в прорезь прицела голову незнакомца и нажать на спусковой крючок…
Несколько минут спустя появился ликующий Фазель.
– Ну как вам мой сюрприз? Это старая французская пушка – наша Банж[76]76
Названа так по имени Шарля Рагона де Банжа (1833–1914), французского офицера, создателя многих пушек, применяемых в боях в 1914–1918 гг.
[Закрыть], проданная нам одним офицером. Она на крыше, пойдемте полюбуемся на нее! В ближайшее время установим ее на самой большой площади Тебриза и напишем: «Эта пушка спасла конституцию».
Мне показалось, что он слишком оптимистичен в оценке происходящего, хотя и нельзя было не признать, что за несколько минут одержана важная победа. Стала ясна его цель: создать островок, где приверженцы конституции могли бы собраться, найти убежище, но главное – обдумать, каковы их последующие действия.
Если бы нам сказали в тот тревожный июльский день, что, окопавшись на нескольких улочках Тебриза с нашими двумя охапками ружей Лебедь[77]77
Лебель Николя (1838–1891), один из разработчиков ружья, носящего его имя (1886), служившего до Второй мировой войны.
[Закрыть] и единственной пушкой Банж, мы вернем всей Персии похищенную у нее свободу, кто бы в это поверил?
Именно так и случилось, правда, один из нас – самый лучший – заплатил за это жизнью.
XXXIX
Мрачные дни наступили для родины Хайяма. Была ли это та самая заря, обещанная Востоку? От Исфахана до Казвина, от Шираза до Хамадана тысячи глоток исторгали один и тот же вопль: «Смерть!» Отныне о свободе, демократии, справедливости можно было рассуждать лишь в подполье. Будущее представлялось неким запретным сном, сторонники конституций изгонялись из общественных мест и улиц, энджумены подвергались разорению, книги сжигались. Этот процесс прокатился по всей стране, и нигде его не удалось остановить.
Нигде, кроме Тебриза. Кроме того, когда наконец подошел к концу нескончаемый день переворота, оказалось, что из тридцати главных кварталов города один – Амир-Хиз – так и не сдался. Ночью несколько десятков человек охраняли к нему подходы, а Фазель, находясь в энджумене, превращенном в штаб, чертил на помятой карте стрелы, красноречивее всего говорящие о его боевом настрое.
Нас была дюжина, тех, кто в неясном, дрожащем свете фонарей «летучая мышь» следил за движением его карандаша.
– Враг все еще под впечатлением потерь, которые понес, выпрямившись, проговорил он. – И считает нас сильнее, чем мы есть на самом деле. У него нет больше пушек, и он гадает, сколько их у нас. Необходимо воспользоваться этим преимуществом и без промедления выбить его из города. Шах пошлет подкрепление, еще несколько недель, и они будут в Тебризе. До тех пор город должен быть наш. Сегодня же ночью атакуем. – Он склонился над картой, а вместе с ним и мы. – Внезапный бросок через реку, поход на цитадель, атака с двух сторон – с базара и кладбища. До вечера цитадель должна перейти к нам.
Цитадель была взята лишь десять дней спустя. Ожесточенные бои велись за каждую улицу, каждую пядь земли, но мы наступали, и все оборачивалось в нашу пользу. В субботу овладели конторой Индо-Европейского телеграфа, благодаря чему появилась возможность поддерживать связь с Тегераном, другими городами страны, Лондоном и Бомбеем. В тот же день к нам присоединилась целая полицейская казарма, вместе с ней мы заполучили пулемет «максим» и три десятка ящиков с боеприпасами. Эти успехи возродили веру в нас населения, и стар и млад стали смелее стекаться в освобожденные нами части города, иногда даже со своим оружием. В несколько недель враг был отброшен к городским окраинам. В его руках находилась только малонаселенная северо-восточная часть города, расположенная между кварталом Погонщиков верблюдов и полем Сахиб-Диван.
В середине июля одновременно с временным правительством была учреждена армия, состоящая из волонтеров. Говард был назначен ответственным за снабжение. Отныне большую часть времени он торчал на базаре, производя учет провизии. Торговцы помогали ему во всем. Сам он чувствовал себя как рыба в воде в персидской системе мер и весов.
– Надо забыть литры, килограммы, унции, пинты. Здесь в ходу джай, мискаль, сир и харван, что соответствует тому, что способен перевезти осел. – Он пытался обучить и меня. – Основная, базовая единица – джай, ячменное зерно средней величины, покрытое кожицей, но с обрезанными с двух сторон усиками.
– Как сложно! – прыснул я.
Он метнул в меня полный укора взгляд, я счел необходимым показать свое рвение:
– Так, значит, джай – самая малая весовая единица?
– Вовсе нет, – возмутился он как ни в чем не бывало, сверившись с записями. – Вес ячменного зерна равен весу семидесяти зерен полевой горчицы или шестидесяти волоскам из хвоста лошака.
По сравнению с его обязанностями мои были куда легче! Ввиду моего плохого владения разговорным персидским в мою задачу входило поддерживать контакт с иностранными подданными и, разъясняя им намерений Фазеля, следить за их безопасностью.
Нужно сказать, что до сооружения Транскавказской железной дороги двадцать лет назад Тебриз был вратами Персии, через которые туда попадали путешественники, товары и идеи. У многих европейских фирм и компаний там были филиалы, например, немецкая компания Моссига и Шунеманна или акционерное общество Восточной торговли солидной австрийской фирмы. Были там и консульства, и американская пресвитерианская миссия, и множество иных учреждений, и я счастлив сказать, что на протяжении всех трудных месяцев осадного положения иностранные подданные ни разу не послужили мишенью для осаждавших.
Мало того, в городе царила атмосфера братства. Я уж не говорю о Баскервиле, себе или примкнувшем к нам Панове. Были и другие: г-н Мур, корреспондент «Манчестер Гардиан», без колебаний вставший в ряды сражающихся и раненый в бою; капитан Анжиньёр, помогавший нам справиться с многочисленными проблемами материально-технического обеспечения и своими статьями в «Ази франсез» вызвавший в Париже и во всем мире порыв солидарности, спасший Тебриз от страшной участи. Деятельное участие иностранцев послужило для иных священнослужителей аргументом против защитников конституции: «сброда европейцев, армян, бабидов и нечестивцев всех сортов». Однако население не было восприимчиво к этой пропаганде и окружало нас трогательной заботой – каждый мужчина был для нас братом, каждая женщина – сестрой или матерью.
Стоит ли уточнять, что именно персы с первого дня оказали нам существенную поддержку: сперва свободные жители Тебриза, затем беженцы, из-за своих убеждений покинувшие родные места в надежде обрести убежище в последнем оплоте конституции. Сотни «сыновей Адама» стекались со всех уголков империи и брались за оружие. Депутаты, министры и журналисты из Тегерана, которым удалось избежать гигантского сачка полковника Ляхова, добирались в Тебриз небольшими группами и, изможденные, растерзанные, изуверившиеся, вливались в наши ряды,
Но самым ценным нашим приобретением была, безусловно, Ширин, которая могла в любое время суток, невзирая на комендантский час, выезжать из столицы. Казаки не осмеливались останавливать ее открытый автомобиль, население с восторгом встречало ее, тем более что за рулем сидел тебризец, редкий в те годы перс, умеющий водить машину.
Ширин поселилась в заброшенном дворце, выстроенном когда-то ее дедом, тем самым убитым шахом. Он собирался проводить в нем месяц в году, однако, по преданию, с первой же ночи почувствовал себя здесь неважно и, следуя советам астрологов, больше сюда не приезжал. Лет тридцать дворец пустовал, его не без некоторого испуга окрестили Пустым Дворцом.
Ширин не побоялась бросить вызов предрассудкам, и ее резиденция превратилась в самое сердце города. В просторных садах – островке прохлады в жаркие летние вечера любили собираться руководители сил сопротивления. Бывал там с ними и я.
Каждый раз, завидя меня, принцесса веселела. Наша переписка установила между нами прочные сообщнические взаимоотношения, в которые никому не удалось бы вклиниться. Разумеется, мы никогда не оставались один на один, десятки товарищей окружали нас на любом ужине. Все без устали спорили, шутили, не позволяя себе переступать рамок приличия. Фамильярность вообще немыслима в этой стране, вежливость приобретает здесь формы красноречивой щепетильности. Часто у людей есть потребность назвать себя «рабом тени его величества» при обращении к себе подобным, а уж когда речь заходит о настоящих величествах или высочествах – особенно ежели это женщины, – то тут не обходится без целования земли, если и не впрямую, то с помощью самых пышных и витиеватых речевых оборотов.
Никогда не забыть мне вечер четверга, 17 сентября.
Был поздний час, все мои друзья разошлись, я и сам уж было откланялся. Но, выйдя за ограду, которой обнесен дворец, спохватился, что забыл портфель с кое-какими важными документами. Пришлось вернуться. У меня и в мыслях не было еще раз взглянуть на принцессу, к тому же я был уверен, что, попрощавшись с нами, она удалилась к себе.
Однако это было не так. Она все еще сидела за столом: одинокая, далекая, с печатью заботы на челе. Не спуская с нее глаз, я как можно более медленно нагнулся за портфелем, стоящим возле стула. Ширин была повернута ко мне в профиль. Недвижная, безучастная ко всему. Я сел и стал смотреть на нее. Меня охватило ощущение, что мы снова в Константинополе в салоне Джамаледдина и этих двенадцати лет не было. И тогда она сидела точно так же: повернувшись в профиль, с голубым шарфом на голове, ниспадающим до пола. Сколько лет ей тогда было? Семнадцать? Восемнадцать? Теперь это была тридцатилетняя женщина, спокойная, зрелая, царственная. Но все такая же стройная. Она сумела устоять перед искушением восточных женщин ее уровня: проводить дни в роскоши, лакомясь восточными сладостями. Была ли она замужем? Разведена? Вдова? Мы никогда не касались этой темы.
О, как мне хотелось уверенным голосом произнести вслух: «Я люблю тебя с тех самых пор, с Константинополя». Губы мои дрогнули и сжались, не издав ни малейшего звука.
Ширин медленно обернулась, без удивления всмотрелась в меня, словно я все время был тут, во взгляде ее мелькнула растерянность. И вдруг перешла на «ты».
– О чем ты думаешь?
Ответ вылетел сам собой:
– О тебе. Всегда. От Константинополя до Тебриза.
Слегка оробевшая улыбка пробежала по ее лицу. Я же не нашел ничего лучшего, как повторить те заветные слова, ставшие для нас неким паролем:
– Как знать, не пересекутся ли однажды наши пути!
Несколько секунд мы оба мысленно пробегали весь этот долгий путь, затем она произнесла:
– Я увезла книгу из Тегерана.
– Рукопись из Самарканда?
– Все это время она лежит на комоде возле моей постели, я не устаю читать ее, знаю наизусть и стихи, и хронику.
– Я бы отдал десять лет жизни за одну ночь с этой книгой.
– И я бы отдала одну ночь своей жизни.
Мгновение спустя я склонился над Ширин, наши уста соединились, глаза закрылись, ничто больше не существовало для нас, кроме монотонного пения цикад, заполнившего наши оглохшие вдруг головы.
Это был долгий обжигающий поцелуй преодоленных лет и барьеров.
Боясь, как бы нас не застигли нагрянувшие вдруг друзья или слуги, мы встали, и она повела меня по крытой галерее до маленькой дверцы, о существовании которой я и не подозревал. Мы поднялись по потрескавшимся ступеням до покоев шаха, которые она сделала своими. За нами закрылись двери, прогремел тяжелый засов, и мы остались наедине и… вместе. Тебриз перестал быть городом на обочине мира, мир томился на обочине Тебриза.
Я обнимал и целовал свою царственную подругу в величественной постели с колоннами и балдахином: собственноручно развязал каждый узелок, расстегнул каждую пуговку на ее платье, ладонями, пальцами, губами заново нарисовал каждый изгиб ее тела, она же отдалась моим ласкам и неумелым поцелуям, а из ее закрытых глаз текли теплые слезинки.
Наступило утро, а я так и не дотронулся до Рукописи. Она лежала на комоде, с другой стороны постели, но Ширин спала нагая, положив голову мне на плечо, прижавшись ко мне грудью, и потому ничто в мире не заставило бы меня пошевелиться. Я пил ее дыхание, запах ее тела, любовался ее забытьем, разглядывал реснички, отчаянно пытаясь разгадать, что заставляет их вздрагивать – приятное сновидение или кошмар. Проснулась же она тогда, когда до нас донесся первый городской шум. Я поспешил уйти, пообещав себе посвятить книге Хайяма следующую ночь любви.








