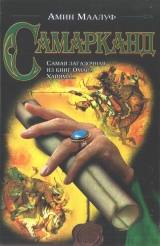
Текст книги "Самарканд"
Автор книги: Амин Маалуф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
XXXII
Если бы все эти люди, что шныряли по холму Илдиз вокруг дома Джамаледдина, написали на своих фесках «шпион султана», они бы не открыли ничего нового и самому наивному из посетителей Учителя. Но, возможно, это и было их целью: отбить охоту бывать у него. Как бы то ни было, но прежде кишащий словно муравейник посетителями, иностранными корреспондентами, заезжими знаменитостями дом в этот сентябрьский день был совершенно пуст. Кроме самого Учителя и его вышколенного слуги, в нем никого не было. Когда меня провели в его кабинет, Джамаледдин в задумчивости сидел в кресле, обитом плюшем и кретоном.
При виде меня его лицо, до того отстраненное, озарилось улыбкой. Он бросился мне навстречу, прижал к себе, извиняясь за зло, которое невольно причинил мне своим письмом и выражая радость по поводу моего избавления. Я в деталях описал ему свое бегство, роль принцессы, а затем уж вернулся к своему краткому пребыванию в Персии и встрече с Фазелем и с Мирзой Резой. Одно упоминание о последнем вывело Джамаледдина из себя.
– Мне только что передали, что его повесили в прошлом месяце. Бог ему судья! Разумеется, он знал, на что идет. Единственное, что поражает, – это срок его заключения. Более ста дней истекло с момента смерти шаха! Его, конечно же, пытали, чтобы выбить из него признания.
Джамаледдин говорил медленно. Он показался мне похудевшим, осунувшимся; его лицо, прежде безмятежное, подергивалось и стало неузнаваемым, хотя он по-прежнему источал магнетическую силу. Складывалось ощущение, что он страдает, особенно когда речь заходит о Мирзе Резе.
– Я все никак не могу поверить, что этот бедный малый, которого я определил здесь на лечение, чьи руки дрожали так, что, казалось, ему не поднять и чашки с чаем, сумел одним-единственным выстрелом из пистолета уложить шаха наповал. А не кажется ли вам, что кто-то воспользовался его безумием, чтобы приписать ему преступление, которого он не совершал?
Вместо ответа я протянул ему протокол дознания, переписанный принцессой. Нацепив очки в тонкой оправе на нос; он несколько раз пробежал его глазами – жадно, с затаенным страхом и даже, казалось, с какой-то внутренней радостью. Затем сложил листочки, сунул их в карман и принялся мерить комнату шагами. Прошло десять минут, он молчал, пока наконец из его уст не донеслось нечто сродни молитве.
– Мирза Реза, потерянное дитя Персии! Если б ты мог быть лишь сумасшедшим, лишь мудрецом! Если б ты мог ограничиться одним предать меня или хранить мне верность! Если б ты мог внушать мне лишь нежность или отвращение! Как тебя любить, как тебя ненавидеть? Да и Богу как с тобой поступить? Отправить в рай к жертвам или в ад к палачам?
После этого он сел и измученно затих, закрыв лицо руками. Я тоже молчал, стараясь задержать дыхание. Потом он выпрямился. Его голос показался мне окрепшим, а сам он словно посветлевшим.
– Слова, которые я прочел, несомненно принадлежат Мирзе Резе. До этого я все еще сомневался. Теперь уверен: это он убил. Возможно, он поступил так, чтобы отомстить за меня. Возможно, считал, что выполняет мою волю. Но я никогда не приказывал ему убивать. Когда он явился в Константинополь и рассказал, как мучил его сын шаха и его окружение, слезы текли у него по лицу. Желая встряхнуть его, я сказал: «Хватит жаловаться! Можно подумать, ты только того и ждешь, чтобы тебя пожалели. Глядишь, и увечье себе нанесешь, только чтобы тебе посочувствовали!» И рассказал ему древнюю легенду: когда армии Дария встретились с армией Александра Великого[61]61
Александр в 334 г. выступил против персов во главе армии в 30 тыс. пехоты, 5 тыс. конницы и 160 боевых кораблей. Войско было оснащено саперной техникой, имело разведку. И хотя Дарий мог выставить более сильную и многочисленную армию, военный гений Александра сыграл свою роль. Выиграв первые сражения в Малой Азии, он подчинил себе затем города Финикии и в 332 г. захватил Египет. Вернувшись в Сирию, двинулся к берегам Тигра и в решающей схватке при Гавгамелах 10 октября 331 г. нанес персам сокрушительное поражение. Бежавший в Бактрию Дарий был убит местным сатрапом, а персидская империя Ахеменидов перестала существовать.
[Закрыть], советники последнего якобы донесли ему, что войска Дария превосходят их численно. Александр пожал плечами и уверенно заявил: «Мои солдаты воюют, чтобы побеждать, солдаты Дария воюют, чтобы умереть!» Джамаледдин сделал паузу, словно для того, чтобы порыться в своей памяти, и продолжал: – Тогда я сказал Мирзе Резе: «Если тебя преследует сын шаха, убей его вместо того, чтобы убивать себя!» Неужто это можно рассматривать как призыв к убийству? И неужто вы, знавшие Мирзу Резу, думаете, что я мог доверить столь важное дело не вполне нормальному человеку, которого множество людей видело в моем доме?
Желая быть искренним, я отвечал:
– Вы не виноваты в преступлении, которое вам приписывают, однако нельзя отрицать вашу нравственную ответственность.
Моя честность тронула его.
– Допустим. Я ведь каждый день желал смерти шаху. Но защищаться мне ни к чему, я уже приговорен.
Он вынул из шкатулки лист бумаги, испещренный аккуратным почерком.
– Сегодня утром я составил завещание.
Он протянул мне его, и я с волнением прочел:
«Я не страдаю оттого, что меня охраняют, как пленника, и не боюсь смерти. Единственное, что приводит меня в отчаяние, – то, что я так и не дождался всходов от тех семян, что бросил в почву. Тирания по-прежнему давит народы Востока, а мракобесие душит их свободный глас. Возможно, мне повезло бы больше, посади я свои семена в плодородную народную ниву вместо бесплодных угодий королевских дворов. Ты, народ Персии, на который я возложил свои самые большие надежды, не думай, что можешь обрести свободу, убрав одного человека. Тебе должно осмелиться стряхнуть с себя гнет вековых традиций».
– Оставьте себе копию, переведите его для Анри Рошфора на французский, «Энтрансижан» – единственный печатный орган, который еще верит в мою невиновность притом, что все прочие числят меня убийцей. Весь свет желает моей смерти. Что ж! Пусть радуются: у меня рак, рак челюсти!
Всякий раз, снизойдя до жалости, он спохватывался и начинал наигранно смеяться и с ученым видом шутить. Так случилось и теперь.
– Рак, рак, рак, – повторил он словно заклинание. – Врачеватели прошлого приписывали все болезни расположению планет относительно друг друга. И только название одной болезни на всех языках сохранило название зодиака. Видно, внушаемый ею страх так велик, что люди не посмели даже переименовать болезнь.
Впав в унылую задумчивость, он вскоре заговорил легким, деланно-непринужденным тоном, оттого еще более пронзительным.
– Будь он неладен, этот рак. Однако ничто не указывает на то, что именно он убьет меня. Шах требует моей экстрадиции, однако султан не может меня выдать, поскольку я как-никак его гость, но и оставить безнаказанным цареубийцу он тоже не может. Как бы ни сильна была его ненависть к шаху и его династии, сколько бы он ни замышлял против того, солидарность сильных мира сего перед лицом таких, как я, нерушима. Что из сего следует? Султан прямо здесь расправится со мной, и новый шах будет доволен, ведь, несмотря на свои неоднократные требования выдать меня, у него нет ни малейшего желания с самого начала своего правления пачкать руки в крови. Так кто же меня убьет? Рак? Султан? Может, у меня даже не будет времени узнать об этом. Но ты, мой юный друг, будешь знать.
У него достало присутствия духа рассмеяться!
На самом деле я так никогда этого и не узнал. Обстоятельства смерти великого реформатора Востока так и остались тайной. Я узнал о ней несколько месяцев спустя, уже дома, в Аннаполисе. Заметка в «Энтрансижан» от 12 марта 1897 года извещала о его кончине, случившейся тремя днями раньше. И лишь к концу лета, когда письмо, обещанное Ширин, наконец дошло до меня, я узнал о том, что говорили о смерти Учителя его ученики.
«В течение нескольких месяцев он испытывал невыносимые страдания. В тот день боль была такой, что он послал слугу к султану, прося прислать ему его собственного дантиста. Тот осмотрел его, вынул из чемоданчика уже готовый шприц и сделал ему укол в десну, объяснив, что боль скоро утихнет. Не прошло и нескольких секунд, как челюсть распухла; видя, что хозяин задыхается, слуга бросился догонять дантиста, который еще не успел ступить за порог дома, но тот, вместо того чтобы вернуться, кинулся бежать к ожидавшему его экипажу. Несколькими минутами спустя сеида Джамаледдина не стало. Вечером за его телом пришли доверенные люди султана: его обмыли и наскоро похоронили».
Рассказ принцессы оканчивался стихотворением Хайяма, которое она сама перевела на английский:
Даже самые светлые в мире умы
Не смогли разогнать окружающей тьмы.
Рассказали нам несколько сказочек на ночь —
И почили в объятиях сна, как и мы.
По поводу судьбы Рукописи, что, собственно, и составило цель ее письма, Ширин была более лаконичной: «Книга находилась среди вещей убийцы. Теперь она у меня. Она будет предоставлена в ваше распоряжение, когда вы того пожелаете, вернувшись в Персию».
Вернуться в Персию, где надо мной сгустилось столько туч?
XXXIII
От моих персидских злоключений во мне образовалась какая-то неутоленная тоска. Месяц я добирался до Тегерана, три месяца оттуда выбирался и всего несколько дней провел в самом городе, их хватило ровно на то, чтобы уловить обрывки запахов и образов. Слишком многое влекло меня обратно в запретную страну: и кальян, погружающий курильщика в состояние приятного ничегонеделания и распространяющий ароматы табака и томпака[62]62
Томпак (металл) – сплав красной меди с добавлением цинка, из которого изготавливаются кальяны.
[Закрыть]; и рука Ширин, таившая в себе некое обещание; и «матушка», к груди которой я однажды приник; и Рукопись в руках ее хранительницы, зовущая меня, открытая мне навстречу. Рукопись особенно…
Тем, кто не испытал на себе чар Востока, мне даже как-то неловко рассказывать о приключившемся со мной в Аннаполисе случае. Было это в субботу под вечер. Сунув ноги в бабуши, облачившись в аба и нахлобучив на голову кюлу из бараньей кожи, я отправился на прогулку по пляжу в одно обычно пустынное местечко. Однако возвращаясь домой, я настолько погрузился в раздумья, что, забыв о своем наряде, сделал крюк по Компромис-роад, а она-то пустынной не бывала никогда. «Добрый вечер, господин Лесаж», «Счастливо прогуляться, господин Лесаж», «Вечер добрый, госпожа Баймастер, мадемуазель Хайчёрч». Приветствия так и сыпались на меня со всех сторон. Я отвечал на них. И только испуганные глаза пастора («Добрый вечер, почтенный!») вернули меня в реальность. Я остановился посреди улицы и с раскаянием оглядел себя всего, даже потрогал шапочку, после чего ускорил шаг, не исключено, что и побежал, словно был не в просторной аба, а голым. Дома я сбросил с себя свой наряд, скатал его и яростно зашвырнул в шкаф с инструментами.
Повторять свой выход я поостерегся, но и той единственной прогулки с лихвой хватило, чтобы ко мне навсегда приклеился ярлык экстравагантного молодого человека. В Англии к эксцентричным личностям всегда относились благожелательно, если не сказать с восхищением, при условии, что они богаты. Америка тех лет плохо поддавалась на такие выверты, с осмотрительностью совершая вираж, которого требовала смена веков. Может, это не касалось Нью-Йорка или Сан-Франциско, но уж моего-то родного города точно. Мать-француженка и персидский головной убор – для Аннаполиса это было слишком!
Это что касается негативных последствий моей причуды. Что до положительных, то я разом приобрел незаслуженную репутацию великого исследователя Востока. Директор местной газетенки Маттиас Веб, прослышав о моей прогулке, обратился ко мне с просьбой поделиться с читателями своими персидскими впечатлениями.
В последний раз Персия упоминалась на страницах «Аннаполис Газет энд Геральд» году, кажется, в 1856-м в связи с трансатлантическим пароходом, гордостью семейства Кунард. Это был первый колесный пароход с металлическим каркасом, налетевший на айсберг. Назывался он «Персия». Тогда погибли семеро моряков из нашего графства.
Люди, связавшие свою жизнь с морем, не шутят со знаками, посылаемыми им судьбой. И потому я счел необходимым отметить во вступительной части своей статьи, что Персия – не совсем правильное название, и сами жители именуют свою страну Ираном, что является усеченным древним названием «Aïrania Vaedja» – «Земля Ариев».
Затем я упомянул об Омаре Хайяме, единственном персе, о котором большинство моих читателей уже слышало, и процитировал из него один отмеченный глубоким скептицизмом стих: «Рай, Ад – кто посетил эти странные края?» Это было необходимо для перехода к рассказу о многочисленных религиях, расцветших на персидской почве, зороастризме, манихействе, суннитском исламе, шиитском исламе, исмалиизме Хасана Саббаха и современных нам бабизме, шейхизме, бехаизме. На это ушло несколько параграфов. Не преминул я напомнить и о том, что слово paradis – «рай» происходит от древнеперсидского paradaeza – «сад».
Маттиас Веб поздравил меня с очевидным знанием предмета, однако когда, подбодренный, им, я предложил сделать наше сотрудничество более регулярным, он вдруг впал в раздражительность:
– Я не против попробовать вас в качестве автора еще раз, если вы обещаете оставить привычку сдабривать текст варваризмами!
Поскольку мое лицо выразило удивление и недоверие, Веб изложил свои доводы:
– Газета не имеет возможности взять специалиста по Персии на постоянной основе. А вот если вы возьметесь за весь раздел новостей из-за рубежа и чувствуете в себе силы приблизить далекие страны к нашим землякам – в таком случае вакансия для вас у меня найдется. Если при этом ваши статьи и потеряют несколько в глубину, они выиграют за счет широты охвата тем.
Улыбки вновь заиграли на наших лицах, он предложил мне своеобразную трубку мира – сигару, и развил свою мысль:
– Еще вчера заграница для нас не существовала. Восток заканчивался на мысе Код. Как вдруг под предлогом того, что один век закатывается, а другой занимается, наш мирный город оказался втянутым в водоворот мировых событий.
Следует уточнить: наш разговор состоялся в 1899 году, почти сразу после завершения испано-американской войны[63]63
Имеется в виду война США с Испанией в конце 90-х годов XIX в. за зоны влияния в Центральной Америке, на Антильских о-вах, в Тихом океане. Благодаря «политике Big stick (дубинки)» Т. Рузвельта и «политике доллара» У. Уилсона США обзавелись в этих регионах настоящими протекторатами (Куба, Гаити).
[Закрыть], в которой наши войска дошли не только до Кубы и Порто-Рико, но и до Филиппин. Никогда прежде США не простирали свою власть так далеко от своих берегов. Наша победа над обветшавшей испанской империей стоила нам не больше двух тысяч четырехсот погибших, притом что в Аннаполисе, где находилась Морская Академия, каждая потеря оборачивалась горем близкого человека: отца, друга, жениха, и самые консервативные из моих соплеменников видели в президенте Мак-Кинли[64]64
Мак-Кинли Уильям (1844–1901) – северо-американский политический деятель, с 1897 г. президент США. Начав войну с Испанией, ввел страну в новое русло широкой международной политики. Убит выстрелом анархиста.
[Закрыть] опасного авантюриста.
И хотя мнение Веба на сей счет было иным, ему приходилось считаться со своими читателями. Чтобы дать мне почувствовать это, почтенный отец семейства, важный седеющий господин встал, прочистил горло, издав рык, и растопырил пальцы, как монстр свои когти.
– На Аннаполис большими шагами надвигается дикий внешний мир, и вам, Бенжамен Лесаж, надлежит обнадежить и успокоить своих земляков.
Нелегкая задача, с которой я таки справился, пусть и без особого блеска. Моим источником информации были статьи моих собратьев в Париже, Лондоне и, разумеется, Нью-Йорке, Вашингтоне и Балтиморе. Из всего, что вышло из-под моего пера по поводу англо-бурской войны, военного конфликта 1904–1905 годов между русским царем и микадо[65]65
Микадо – устаревший титул японских императоров.
[Закрыть] или о волнениях в России, я думаю, ни одна строчка не заслуживает того, чтобы войти в городские анналы.
И лишь в связи с Персией моя журналистская практика заслуживает того, чтобы быть отмеченной. Я горд тем, что «Газета» была первым американским органом, предвидевшим грядущие потрясения, новости о которых заполонят полосы газет всего мира в последние месяцы 1906 года. В первый и, вероятно, последний раз статьи «Аннаполис Газет энд Геральд» будут цитироваться, а то и воспроизводиться слово в слово более чем шестью десятками газет Юга и восточного побережья Америки.
Этим город и газета обязаны мне, а я Ширин. Ведь именно благодаря ей, а не моему недолгому пребыванию в Персии понял я широту и важность готовящихся там перемен.
В течение более семи лет я не получил от принцессы ни одной весточки. Она обещала известить меня относительно Рукописи и исполнила свое обещание. Чего же боле? Вестей от нее я не ждал, это правда, что, однако, не означает, что не надеялся. Каждое появление почтальона будило во мне надежду, я рассматривал почерк на конвертах, искал марку с арабской вязью, цифру пять в форме сердечка. Ежедневное разочарование не страшило меня, оно было для меня словно дань моим мечтам.
Надо сказать, что в это самое время моя семья покинула Аннаполис и переехала в Балтимор, где отныне сосредоточилось ядро деловой активности моего отца и где он вместе со своими младшими братьями намеревался основать банк. Я же предпочел остаться в родном доме со старой, наполовину глухой кухаркой, в родном городе, где у меня была горстка друзей. Не сомневаюсь, что именно мое одиночество придало моему ожиданию такой накаленный характер.
И вот наконец письмо от Ширин. О «Рукописи из Самарканда» ни слова, как и вообще ни слова о личном в этом длинном письме, за исключением, может быть, обращения: «Дорогой далекий друг». Вслед за ним шло описание событий, свершавшихся в ее стране, день за днем. Они были даны в мельчайших подробностях, и ни одна не была лишней, даже если и выглядела таковой в моих глазах профана. Я тут же влюбился в ее неподражаемую интеллигентную манеру писать и был польщен, что из всех мужчин она, чтобы поделиться своими раздумьями, выбрала меня.
Отныне я жил в ритме, задаваемом ее письмами: они приходили раз в месяц. Это была трепещущая хроника, которую я охотно издал бы как она есть, если бы моя корреспондентка не настаивала на соблюдении полнейшей тайны. Она великодушно разрешала мне использовать ее информацию. Что я и делал совершенно беззастенчивым образом, черпая в ней сколько душе угодно и помещая целые пассажи из ее писем без скобок и кавычек в свои статьи.
И все же моя манера излагать факты существенно отличалась от ее. Например, принцессе никогда бы не пришло в голову написать:
«Отправным моментом персидской революции стал тот, когда министру, бельгийцу по происхождению, вздумалось переодеться муллой».
А между тем я был недалек от истины. Хотя и для Ширин уже в 1900 году, во время пребывания шаха на водах в Контрексевиле, было ясно, что это начало революционных событий. Задумав отправиться на воды со свитой, монарх ощутил нехватку средств. Казна, как всегда, была пуста, и он попросил взаймы у царя. Тот одолжил ему двадцать два с половиной миллиона рублей.
Редкий подарок бывает до такой степени отравленным. Чтобы быть уверенным, что южный сосед, постоянно находящийся на грани финансового краха, сможет вернуть эту сумму, российские власти потребовали контроля над персидской таможней, что давало возможность напрямую, из выручки, получать компенсацию. И такое разрешение сроком на семьдесят пять лет было дано! Сознавая, сколь велика полученная бенефиция, и опасаясь, как бы другие европейские державы не осерчали на подобный тотальный контроль за внешней торговлей Персии, царь предпочел доверить это не своим собственным подданным, а королю Леопольду II. В связи с этим в Персии и оказались три десятка бельгийских чиновников, чье влияние подскочило с головокружительной быстротой. Самый видный из них, по имени Наус, добрался, в частности, до высших сфер власти. Накануне революционных событий он был членом правительственного совета, министром связи, главным казначеем, директором департамента паспортов, генеральным директором таможни Персии. Помимо этого, он занимался реорганизацией всей фискальной системы страны, и именно ему приписывали, к примеру, введение нового налога – на груз вьючных животных.
Излишне говорить, что г-н Наус аккумулировал в себе всю ненависть населения Персии, стал символом зависимости ее от иностранного капитала. Время от времени раздавались голоса с требованием его высылки, что было совершенно оправданно еще и потому, что он не отличался ни неподкупностью, ни компетентностью. И все же он оставался на всех своих постах, поддерживаемый царем, или скорее камарильей ретроградов, окружавшей последнего. В правительственной прессе открыто писали о политических целях царя и его приближенных: установить над Персией и Персидским заливом полный контроль.
Положение г-на Науса казалось непоколебимым и оставалось таким вплоть до того момента, когда его покровитель сам не зашатался на троне. Это произошло в более короткие сроки, чем ожидали самые большие фантазеры Персии. В два приема. Сперва война с Японией, которая, ко всеобщему изумлению, окончилась поражением царя и уничтожением русского флота на Дальнем Востоке. Затем восстания народных масс против унижений и притеснений со стороны правящей верхушки, бунт на «Потемкине», Кронштадтский мятеж, события в Севастополе и Москве. Я ограничусь лишь перечислением этих общеизвестных фактов и констатацией того влияния, которое они возымели на Персию, в частности, когда в апреле 1906 года Николай II был вынужден пойти на созыв Думы.
Тут-то и случилось банальнейшее из событий: бал-маскарад, заданный одним бельгийским чиновником высокого ранга, на который г-ну Наусу вздумалось заявиться в наряде муллы. Он был встречен смешками, аплодисментами. Его окружили, стали поздравлять с удачным костюмом, фотографироваться с ним на память. А несколькими днями позже снимок уже раздавали на тегеранском базаре.








