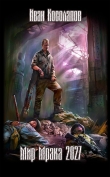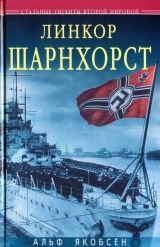
Текст книги "Линкор «Шарнхорст»"
Автор книги: Альф Якобсен
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Глава 2
НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА
БАНКА МЫСА НОРДКАП, ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ 1999 ГОДА.
Видно, экспедиция была обречена с самого начала. Мы не сообразили, что заклятие на нас было наложено еще несколько дней тому назад в Хоннингсваге, где мы активно занимались испытаниями телеуправляемого аппарата (ROV – remotely operated vehicle) судна «Рисё», предназначенного для проведения подводных работ. Картины морского дна, передаваемые по кабелю в кабину управления, были вполне отчетливыми, однако на поверхности моря появилась тонкая радужная пленка масла: откуда-то вытекала гидравлическая жидкость. Следовало бы выяснить причину утечки, но я ничего не замечал – хотелось как можно скорее отправиться в плавание. Ветер, дувший накануне вечером, утих. Море успокоилось, и арктическое весеннее небо над Порсангер-фьордом переливалось оттенками голубого и золотистого цветов.
«Ну что, поехали?» – спросил Стейн Инге Риисе, аквалангист из Вардё. Он никогда не отказывался от приключений и превратил свою техническую подводную службу «Риисе» в высокопрофессиональную компанию, которая специализировалась на выполнении опасных подводных работ. В сорок лет, красивый и энергичный, он прославился на весь мир, когда осенью 1997 года с помощью «Рисё», который до переоборудования был местным паромом, действуя по заданию телевизионного канала «Англия», Канала 4 и норвежской Радиовещательной корпорации, обнаружил останки британского траулера «Гоул» на банке мыса Нордкап, на глубине 300 метров. Британское Министерство обороны считало это задачу невыполнимой.
А теперь я и мой партнер Норман поставили перед Стейном Инге и его экипажем новую и не менее опасную задачу. Сначала с помощью ROV и «Рисё» мы намеревались обследовать тросы, разбросанные на дне около останков «Гоула», а затем пройти 60 миль на восток и попытаться найти остов немецкого линкора «Шарнхорст».
Позднее, вечером того же дня, мы бросили якорь в точке, где лежал «Гоул», т. е. на расстоянии около 55 миль к северу от Нордкапа. Погода все еще была благоприятной. Мы находились в наиболее непредсказуемом районе океана в мире, но поверхность моря была спокойной, как в пруду. Баренцево море, нежившееся в лучах полночного Солнца, напоминало огромное шелковое полотнище.
Итак, погода была на нашей стороне, но все остальное – против. Нас постоянно преследовали неприятности: возникали сбои электронного и гидравлического оборудования, причины которых Стейн Инге и его экипаж пытались устранить. Когда отказало устройство для резки тросов, я понял, что тросам придется подождать. И поэтому сейчас, поздно вечером, в пятницу, мы шли на восток, направляясь к тому месту, которое адмирал Брюс Фрейзер указал как точку гибели «Шарнхорста» и где последние свидетели – Бакхаус, Файфер, Бекхофф и другие – видели, как линкор исчез под волнами. Мы устали, были на ногах и почти не спали уже около пятидесяти часов. На глубине 300 метров нужную точку найти трудно, да и степень риска соответственно возрастает, к тому же из-за всех переживаний у меня внутри все как-то неприятно сжималось.
«Расслабься. Интуиция подсказывает, что мы найдем останки, если их координаты указаны правильно. Я чувствую это нутром», – сказал Стейн Инге, успокаивая меня. Неисправимый оптимист, он каждую возникавшую перед ним задачу воспринимал как личный вызов.
«Надеюсь, ты прав», – пробормотал я. Но я никак не мог избавиться от мыслей, все время крутившихся в голове. Была ли точка действительно указана правильно? А что, если мы ничего не найдем? Сколько мы можем продолжать поиски? Долго ли продержится хорошая погода?
Последнее сообщение, переданное «Шарнхорстом» «адмиралам северных морей» (Admirals Nordmeer) в Нарвик и группе «Норд» в Киль, было перехвачено британской радиоразведкой в 19.30 – как раз перед началом последней, решающей торпедной атаки. В нем говорилось:
«НАПРАВЛЯЮСЬ В ТАНА-ФЬОРД. НАХОЖУСЬ В КВАДРАТЕ AC4992. СКОРОСТЬ 20 УЗЛОВ».
AC4992 – это квадрат на секретной карте Баренцева моря, подготовленной Кригсмарине. Он соответствовал координатам 71°57′ N, 28°30′ E. Согласно расчетам, сделанным на борту линкора, когда сражение уже вступило в заключительную фазу, корабль был на 15–20 миль южнее точки, зафиксированной англичанами. Так кто же прав – адмирал Брюс Фрейзер, находившийся на борту «Дюк оф Йорк», флагмана Флота метрополии (Home Fleet), или капитан цур зее (капитан 1-го ранга. – Прим. пер.) Фриц Юлиус Хинтце на «Шарнхорсте»?
Я решил довериться Фрейзеру, потому что результаты его вычислений могли, как я полагал, подтвердить штурманы еще тринадцати кораблей союзников. Моряки Хинтце были на ногах более суток, выполняя свои обязанности в чрезвычайно тяжелых погодных условиях. Они практически не спали и дважды вступали в перестрелку с британскими крейсерами, причем однажды, в середине дня, когда, по крайней мере теоретически, было достаточно светло. Однако могли ли штурманы «Шарнхорста» так же точно определиться при прочих неблагоприятных условиях? Смогли ли бы они совершенно точно указать положение корабля во время почти трехчасовой его агонии?
Вряд ли, но все имевшиеся в моем распоряжении данные свидетельствовали, что адмирал Фрейзер вполне уверенно докладывал, что координатами точки потопления линкора были – 72°16′ N, 28°41′ E.
Я собрал и тщательно изучил рыбопромысловые карты, на которых был виден интересующий меня район начиная с 1977 года. Я тогда оказался на борту судна «Гарджиа» в качестве репортера одной из газет. В своей статье я, в частности, писал:
«Нет более тяжкого труда, чем траловый рыболовный промысел в Баренцевом море. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на мускулистые руки людей, занимающихся этим промыслом в здешних водах, и видеть, как сильно пьют на берегу те, у кого за плечами хотя бы несколько лет такой работы.
Я знаю, что такое ярусный крючковый лов рыбы далеко в открытом море, в январе, когда ночь продолжается круглые сутки, а рыбаки падают с ног, работая по двадцать часов подряд. Видел, как ловят рыбу кошельковым неводом вблизи от берега и на далеких отмелях; участвовал в процессе ловли рыбы в тесных норвежских фьордах. Но ничто не может сравниться с траулерами… И дело не только в том, что траловые сети поднимают на борт огромное количество рыбы. Дело еще и в том, что кругом натянутые, скользкие тросы, стальные блоки и траловые доски (специальные металлические крылья на концах трала для максимального раскрытия и устойчивости. – Прим. пер.), завывание и лязг лебедок. Траловый лов – это, по существу, отрасль тяжелой индустрии, отправившаяся в дальнее морское плавание».
Я провел много часов в рулевой рубке «Гарджии», изучая старые карты, что побудило меня написать следующее:
«А есть еще карты, эти путеводители по удивительным ландшафтам, скрытым под водой, замусоленные и затертые от многолетнего использования. На них наиболее богатые районы рыболовства испещрены таинственными пометками капитанов. На некоторых картах указаны места нахождения остова „Шарнхорста“ и других опасных объектов под водой, способных повредить тралы, имеются многочисленные пометки, рисунки и карандашные линии. Эти старые листы не просто фиксируют глубины и положение меридианов как результат работы гидрографов; это также итоги и хранилище практического опыта, накопленного в результате тяжкого труда».
Карты, которые я изучал сейчас, свидетельствовали о том же. Именно в той точке, которую адмирал Фрейзер указал как место потопления «Шарнхорста», к северу от подводного объекта, названного местными рыбаками «Бананом», на карте стоял угрожающий крестик: «Засоренное дно. Останки военного корабля. Ловить рыбу не рекомендуется».
Введя эти данные в спутниковую навигационную систему «Рисё», мы выбрали прямоугольную зону поиска с размерами – 7000 метров в длину и 4000 метров в ширину с центром в точке, указанной Фрейзером. После того, как «рыбину» с сонаром опустили за борт, эхолот засвидетельствовал глубину от 290 до 310 метров. При скорости буксировки 3 узла и расстоянии между опорными линиями 300 метров всю зону можно было бы покрыть с помощью сонара с боковым обзором примерно за 25–30 часов.
«Иди отдохни и постарайся поспать, – услышал я совет Стейна Инге. – Мы тебя позовем, как только остов появится на экране». Я так и сделал – пошел в каюту и лежа наблюдал, как волны плещутся у самого иллюминатора, находящегося почти на уровне ватерлинии. Но уснуть никак не мог. Я думал и вспоминал о своей мечте – найти затопленный немецкий линкор еще с тех пор, как я, мальчишка, живший в городе Хаммерфест, впервые услышал о немецкой военно-морской базе, действия которой охватывали всю территорию западного Финмарка и которая оказала такое влияние на судьбу как моих родителей, так и на мою собственную.
В то время Финмарк был границей Европы, выдвинутой на Крайний Север, как бы аванпостом у прямого выхода в безлюдные просторы Ледовитого океана. Однако во время войны и потом стало ясно, что на самом деле этот уединенный район – перекресток, где сталкиваются жизненно важные стратегические и геополитические интересы. Глобальная демаркационная линия, разделившая воюющие стороны, проходила через Баренцево море – от побережья Финмарка на юге до кромки арктического льда на севере, что так наглядно подтвердила история «Шарнхорста». Для меня делом первостепенной важности стал поиск затопленного корабля, символизировавшего силы, под влиянием которых прошло мое детство на берегах Ледовитого океана. Я жадно искал ответы на загадочные вопросы, связанные с гибелью этого гордого корабля. Почему он затонул, хотя и считался непотопляемым? Почему сбросил скорость, когда почти ушел от преследования, которое Фрейзер уже приказал прекратить? Что было причиной последних взрывов, заставившихся вздыбиться и содрогнуться море? Что происходило с почти двумя тысячами людей, утонувших вместе с линкором?
Были и другие вопросы, не находившие ответа. Откуда англичане получили предупреждающие сигналы, благодаря которым им удалось создать идеальную ловушку? Может быть, от смелых норвежских радистов, которые, рискуя жизнью, вели наблюдение за немецкими военно-морскими базами? А может быть, правда, что, если верить официальным английским историкам, эти тайные агенты не имели никакого отношения к данным событиям? Но если это так, тогда зачем они с самого начала находились в тылу врага, несмотря на огромный риск для них самих и их семей?
Наверное, я все-таки отключился, потому что уже вечером меня разбудили: «Начинается ветер. Тебя зовут на мостик».
Судя по поведению «Рисё», что-то было неладно. Когда я лежал у себя в каюте, волны нежно убаюкивали меня. Теперь же судно рывками бросало из стороны в сторону, так что было трудно удерживать равновесие.
Оператор сонара, находившийся на мостике, не спал уже более суток. Кругом были чашки с остывшими остатками черного кофе и переполненные окурками пепельницы.
Я взглянул на рулоны с записями. «Нашли что-нибудь?» – спросил я на всякий случай, хотя ответ и так был ясен.
«Ничего, кроме канав и газовых расщелин. Дно плоское, как блин, так что спрятать нельзя даже траловую доску, не говоря уж о линкоре».
Мне стало не по себе, когда я начал изучать линии на длинных бумажных полосах. В 300 метрах под килем нашего судна простиралось дно океана, чистое, как танцплощадка, хотя и поцарапанное айсбергами, отступавшими отсюда тысячи лет тому назад. Никогда я не видел такого унылого и безжизненного дна океана, это был просто пустырь.
«Неужели нет никаких признаков затонувшего корабля?» – спросил я.
«Нет».
«И ничего такого, что могло бы находиться вблизи от места морского сражения, – торпед, гильз и прочего?»
«Ни соринки».
«Сколько еще мы можем продолжать поиск?»
«Часа два, если повезет. По прогнозу, скоро будет шторм».
«А что на западе?»
«Посмотри, сам увидишь».
Я посмотрел. Недалеко от нас на западе были видны сотни качающихся огней. Казалось, что мы приближаемся к какому-то городу, вдруг возникшему в море. Это были сигнальные огни международного траулерного флота, который двигался к берегу, ведя поиск косяков трески, совершающей ежегодную миграцию на новые пастбища.
«Они не стали бы ловить рыбу, если бы здесь были останки такого корабля, как тот, что мы ищем. Они бы держались подальше от этого места, это точно».
Море приобрело темно-синий цвет, что не сулило ничего хорошего. Северо-западный ветер дул с неослабевающей силой, под его возрастающим и неумолимым напором скрипела и стонала лебедка сонара. Порывы ветра били по корпусу «Рисё», как паровой молот. Судно на мгновение замирало, а потом, накренившись, тяжело проваливалось вперед.
«Скоро придется поднимать сонар, – сказал оператор. – Кабели сильно натянулись и могут оборваться. И вообще, пора заканчивать».
Мы прочесали район океана площадью более 25 квадратных километров вокруг точки, указанной Фрейзером в его официальном отчете, – и ничего не нашли. Там, где должен был находиться остов стального колосса длиной 230 метров, объекта наших поисков, не было ничего, кроме голого грунта.
Шторм продолжался всю ночь, бросая из стороны в сторону «Рисё», с трудом пробивавшийся к берегу, а я лежал, вцепившись руками в койку. Я испытывал досаду и усталость и был совершенно подавлен. Ведь все было поставлено на то, чтобы сбылась юношеская мечта – найти «Шарнхорст» и распутать, наконец, клубок загадок, связанных с последним линкором Гитлера. И что же я нашел? Абсолютно ничего. Я сделал ставку и проиграл. Стейн Инге и его экипаж, конечно, были ни при чем, просто я был слишком оптимистичен, наивен и неопытен. Я забыл, как огромно Баренцево море на самом деле.
Наверху волны продолжали яростно набрасываться на корпус «Рисё». Шторм был примерно той же силы, что и бушевавший в этом районе 26 декабря 1943 года, – он превратил последний путь «Шарнхорста» в кошмар. Я испытывал грусть и разочарование, но одновременно наступало и странное чувство спокойствия. С любой точки зрения наша экспедиция закончилась провалом; но ведь в конце концов именно благодаря ей я оказался там, куда так долго стремился, – там, где произошло это ужасное сражение. Хоть на шаг, но я все же приблизился к установлению истины. Более того, я выяснил нечто чрезвычайно важное: сообщение адмирала Фрейзера было ошибочным. Сражение произошло совсем не там, где оно должно было происходить, если верить официальным отчетам и картам.
Раньше «Шарнхорст» считали «счастливым» кораблем, морской легендой; кораблем, которому удавалось ускользать от своих противников и даже обманывать их. А когда наступил конец, ведь фактически никто не видел, как затонул корабль, – за исключением молодых матросов, которым пришлось бороться за свои жизни в ледяной, покрытой пленкой нефти арктической воде.
Мы поняли, что теперь уже никто никогда не скажет точно, где именно все случилось. Остова корабля не было там, где он должен был находиться. «Шарнхорст» исчез навсегда.
Наступило утро, на юго-западе мы увидели силуэт мыса Нордкап – нависший над поверхностью моря почерневший, избитый штормами бастион, укрывшийся под рваными, взлохмаченными облаками. Стоявшую перед нами задачу мы решить не смогли, но я не собирался сдаваться. Сказать, что я вообще ничего не нашел, было все-таки нельзя. Я нашел цель и четко знал, что делать дальше. Следовало вернуться к исходной точке, изучить подлинные документы и побеседовать с очевидцами. Только с их помощью я мог реализовать свою мечту.
Глава 3
ВРЕМЯ МЕЧТАТЬ
НОРВЕГИЯ / ГЕРМАНИЯ, РОЖДЕСТВО 1943 ГОДА.
Многие люди жили надеждами и мечтами по мере приближения Рождества в 1943 году. В живописном небольшом поселке недалеко от Альты, на севере Норвегии, двадцатилетняя Сигрид Опгаард Расмуссен ожидала важнейшего события – рождения первенца. Все остальное казалось довольно мрачным. Шел четвертый год войны, и он не принес ничего, кроме горя и разочарований. Правда, ходили слухи, что на Восточном фронте немцы отступают, однако здесь, в западном Финмарке, до победы и освобождения было еще далеко. По территории провинции все шли немецкие войска к окопам и укреплениям, расположенным к востоку от реки Лица. Когда адмиралы Гитлера проводили артиллерийские учения, местные жители слышали во фьордах грохот тяжелых орудий.
Сигрид думала о ребенке, которому вскоре предстояло увидеть свет, а также и о том, что надо как-то продержаться. Она твердо верила, что когда-нибудь вновь наступит мирная, нормальная жизнь, о которой она мечтала и которую планировала со своим мужем Калле (Карлом).
Сигрид познакомилась с Калле летом 1942 года – это был гибкий, спортивного вида молодой человек с тонкими, выразительными чертами лица, с неизменной легкой улыбкой на губах. Тогда она проделала долгий путь от фермы, расположенной в горах, где обычно проводила лето, ей было жарко, кожа обгорела, но она совершенно не устала. Его она увидела, завернув за угол, – он сидел на ступеньках дома и уплетал сметану, поставив миску на колени. Как ни странно, она сразу почувствовала его интерес к себе, хотя причина его прихода была вполне обыденной. Он был приятелем ее брата Халвора и зашел, чтобы просто купить яиц и сметану, а не для того, чтобы увидеть ее. Сигрид вспомнила, что мать отказывалась брать у него деньги из-за малости требуемой суммы. Правда, намекнула, что будет неплохо, если он, кассир местного дорожного управления, часто разъезжавший по фьордам, будет привозить немного рыбы.
Осенью Калле все чаще приходил к ним, а в сочельник его пригласили на рождественский обед. То, что начиналось как проявление некоторого интереса к ней, постепенно перешло в пылкую любовь. Ей было весело с Калле. Он был спортивен, умен и очень любил разыгрывать разные сцены. Глядя на него, зрители смеялись до слез.
«Я раньше никогда не встречала такого человека. Он заводил людей, заставлял их смеяться и радоваться».
Все решилось в апреле 1943 года. Сигрид и Калле встречались регулярно и вскоре стали любовниками. Это произошло вполне естественно: им нравилось быть вместе, они полностью доверяли друг другу и строили планы на будущее. Калле имел постоянную работу и зарплату, что было немаловажно. Когда Сигрид почувствовала, что беременна, следующий шаг был очевиден. Они поехали в родной город Калле – Вадсё и там поженились. Это было 7 августа – день был торжественным и достойно увенчал замечательное лето.
«Мы жили в доме родителей как часть большой семьи. Правда, нам принадлежала только спальня. Лето и осень того года были лучшим временем в моей жизни. Несмотря на войну и все, что она принесла, мы были счастливы и радовались совместной жизни, в материальном смысле нам ничего особенного не было нужно. Мы обсуждали следующий шаг. Калле уже поговорил со своим работодателем, и мы начали подыскивать себе собственное жилье».
Однако в ноябре безмятежной жизни пришел конец. Что-то незаметно изменилось, и у Сигрид возникло смутное чувство опасности, многое стало казаться ей очень непонятным. Калле все больше времени проводил со своим приятелем из Вадсё, которого звали Торстейн Петтерсен Рааби. Могло показаться, что Торстейн – просто большой шутник, но было в нем что-то еще. Сигрид не могла бы объяснить причину все большего беспокойства. Калле все чаще проводил вечера со своим приятелем в Кронстаде, в помещении конторы дорожного управления, похожей на казарму. Он возвращался домой поздно ночью, и от него частенько попахивало дешевым спиртным. Сигрид терялась в догадках – что же все-таки случилось? Почему муж, еще недавно такой спортивный парень, вдруг начал пить? Когда она потребовала объяснений, Калле ушел от прямого ответа. Его явно что-то тяготило.
«Он никогда не говорил, куда идет. Я с нетерпением ждала его, всматриваясь в окно. Наверное, не стоило так себя вести, но я уже ничего не могла с собой поделать. У меня возникли кое-какие подозрения, но уверенности в правоте не было. Все это отрицательно сказывалось на семейной жизни, потому что исчезала открытость в наших отношениях. Я спрашивала его, в чем дело, но он просил не торопить его. Я плакала и говорила, что люди уже начинают называть его пьяницей. „Это хорошо, – сказал он. – Значит, все идет, как надо“».
До рождения ребенка оставалось всего несколько недель; ожидали, что это произойдет либо в конце текущего, либо в начале следующего года. Ребенок, рожденный в любви и при наступлении нового года, должен быть залогом лучшего будущего. Но Калле по-прежнему где-то пропадал с Торстейном. Ничего хорошего это не сулило, и Сигрид не находила места от переживаний. Казалось, война добралась и лично до них. Ей было двадцать лет, она совсем недавно вышла замуж, у нее на руках был новорожденный ребенок, но она совершенно не представляла, что будет дальше.
Примерно в 2000 километрах к югу, в промышленном городе Гисен на территории земли Гессен, в сердце Третьего гитлеровского рейха, жила еще одна молодая женщина, которая так же ждала, тосковала и надеялась. Как и Сигрид Опгаард Расмуссен, Гертруда Дамаски, жизнерадостная и беззаботная, была в расцвете юности – ей исполнилось всего восемнадцать лет. Эти девушки не подозревали о существовании друг друга. Общими же у них были молодость и опасения за судьбу возлюбленных.
У Гертруды было скромное прошлое. Ее мать умерла совсем молодой, а отец, работавший официантом, редко приходил домой рано, а в основном – поздно ночью. Чтобы заработать на жизнь, Гертруда устроилась учеником к ювелиру, который наставлял ее, как оценивать и ремонтировать часы и ювелирные изделия. Война пока обходила Гисен стороной, хотя бомбы сыпались на города Рура, расположенного чуть севернее. Подобно многим молодым женщинам, Гертруда писала письма, чтобы подбодрить неизвестных ей военнослужащих. Так она хотела уменьшить им тяготы воинской службы. Однажды, весной 1943 года, одна из подружек дала ей адрес полевой почты и попросила написать еще одно «письмо из дома».
«Парень, которому я написала, был родом из Аннерода – деревни недалеко от Гисена. Его звали Генрих Мюльх, и ему был двадцать один год. Я написала ему только для того, чтобы немного подбодрить, считая это своим долгом».
К удивлению Гертруды, через несколько недель почтальон вручил ей ответ.
«„Моя дорогая незнакомая девочка. Только что получил твое милое письмо, за что большое тебе спасибо. Оно доставило мне огромное удовольствие, хотя я и не знаю, кто ты такая… а если еще напишешь, обещаю ответить“. Я не представляла, где Генрих находится и в каких он войсках. Все было покрыто тайной, к тому же очень строга была цензура. У него могли быть неприятности, если бы он написал открыто. И все же мы продолжили переписку, отправляя друг другу по нескольку писем в неделю. А однажды он вдруг появился у мастерской ювелира. Оказывается, моему Генриху дали отпуск».
Простое, дружеское письмо Гертруды оказалось искрой, вызвавшей целое пламя. Они сразу же влюбились друг в друга.
«Мы как будто были знакомы всю жизнь. Так иногда бывает. Некоторые люди сразу вызывают у вас сильное чувство, что и случилось с нами. Все произошло просто и внезапно».
Как Генрих, так и Гертруда были воспитаны строго. Поэтому, встречаясь, им приходилось быть осторожными – исключением были прогулки вечером у реки Лан. Они держали друг друга за руки, обнимались и украдкой целовались.
«Был один из последних вечеров, который мы проводили вместе. Я спросила его, где он служит.
Он сказал: „Мне запрещается об этом говорить“.
Но я настаивала. „Я должна знать. Я должна знать, где ты находишься“.
Он на мгновение задумался, а потом выпалил: „Тирпиц“.
Я не поняла, о чем речь. „А Тирпиц – это где?“ – спросила я.
„Тирпиц“ – это военный корабль, – ответил он. – Сейчас он находится далеко на севере. А я – писарь при штабе адмирала».
Всю осень страстные письма продолжали курсировать между Гисеном и Каа-фьордом в северной части Норвегии. На военно-морской базе пока все было спокойно. На флагманском корабле шел ремонт. Многие моряки получили отпуска или были отправлены в Германию, на курсы повышения квалификации. Генрих, как один из немногих моряков, ранее обучавшихся в коммерческой школе, подал заявление в морской колледж во Франкфурте и был принят. Именно поэтому Гертруда была так счастлива и полна надежд. Она уже могла закончить обучение и поискать самостоятельную работу как ювелир в том же городе, так что они могли бы провести остаток зимы вместе. Это была бы первая зима их совместной жизни после того, как они полюбили друг друга. Оставалось только выполнить некоторые формальности. Окончательное решение надо было принимать вскоре после Нового года. Быстро приближалось Рождество, но Гертруда была согласна ждать, пока все не будет официально улажено.
«Ты подарила мне свою красоту, любовь и веру в прекрасную будущую жизнь вместе. Я всегда буду верен тебе»,
– писал Генрих.
Между тем военные действия становились все ожесточеннее. Гертруде война казалась жестокой и бессмысленной. Она жила только мыслями о Генрихе. Проходил день за днем, однако она давно поняла и прочувствовала в глубине души, что превыше всего любовь, и только ради нее стоило жить.