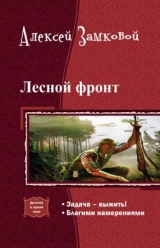
Текст книги "Лесной фронт. Дилогия (СИ)"
Автор книги: Алексей Замковой
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
– Это к чему ж такие патроны-то нужны? – услышал я голос Лешки Митрофанчика.
Подняв взгляд, я увидел, что мои бойцы вскрыли прихваченный на складе ящик с 14,5-миллиметровыми патронами. Лешка как раз вертел в руках один из них, а остальные, обступив его, с любопытством разглядывали этот патрон с черным носиком и тонкой красной полоской на пуле.
– Вроде для станкового… – как-то неуверенно произнес Максим, отбирая у Митрофанчика патрон. – Видел я такие. ДШК, во!
– Не-е-е, – протянул Селиванов. – Для ДШК патрон поменьше будет!
– Это для противотанкового ружья, – разрешил их спор я, задумчиво глядя на ящик с патронами. – Здесь калибр 14,5 – вон на ящике написано, а для ДШК – 12,7.
– Какого ружья? – переспросил удивленно Лешка.
– Противотанкового… – автоматически повторил я. – Тут пуля бронебойная. Под оболочкой слой специального вещества, которое загорается от удара о броню танка, а под ним – болванка, которая летит дальше и пробивает броню.
Не знаю, правильно ли я объяснил бойцам принцип действия бронебойно-зажигательной пули, но помнил его именно так. Было дело, нашел как-то в ячейке укладку таких патронов – штук десять. Оболочка пуль на них, правда, проржавела насквозь, но выбрасывать большие красивые гильзы – рука не поднялась. Поэтому, полазив по Интернету и изучив принцип действия своей находки, убедившись, что разбирать такие патроны полностью безопасно, распотрошил все. А две пули разобрал полностью. Намучился тогда – ужас. Обдирать оболочку было той еще работой. Зато на полочке потом, рядом с гильзами, красовались две болванки – блестящая стальная, на которой четко видны были следы токарного станка, и темно-серая, литая, из какого-то сплава вольфрама.
– Это где ж такие ружья есть? – не отставал Митрофанчик.
Я удивленно посмотрел на него. Как это он не знает о противотанковых ружьях? А потом до меня дошло – они ж появятся немного позже! ПТР-39 поставили на вооружение в 1939 году, но вскоре снова сняли с вооружения, переориентировавшись на противотанковые орудия. Во-первых, из-за того, что кто-то решил, что противотанковые ружья будут неэффективны против современных танков, а во-вторых, из-за недостатков самого ружья. Что-то я слишком расслабился. Авдею Петровичу на складе чуть про УЗРГ, которого еще не было, не сболтнул, сейчас – рассказал об оружии, с которым мало кто знаком…
– Были такие ружья, – начал выкручиваться я. – Мне старшина Трепов про них рассказывал. Говорил, жаль, что сняли с вооружения. Против грузовиков и броневиков, говорил, самое то было бы – и мины не понадобились бы. Только их сняли с вооружения.
– Жалко, – протянул Лешка. – Вот бы нам такое! Если фашист броневиками-то попрет, как стрельнули бы!
– А откуда ты знаешь, что немцы на нас напасть собираются? – удивился я. – Я же вам вроде еще ничего не говорил!
– Так хлопцы из разведки ж вернулись. Говорят, фашистов в селах вокруг полно. Не иначе как нас из лесу выбивать собираются.
Я кивнул. Сарафанное радио в отряде работает, похоже, вовсю. Тот увидел, там шепнул, а вскоре уже весь отряд судачит.
– Вот потому нам сейчас и придется поработать. Капитан сказал мины готовить. Будем минные заграждения вокруг лагеря ставить.
– А чего просто не уйдем? – спросил Максим, чем вызвал недовольный взгляд идейного Селиванова.
– Потому что хватит драпать! – ответил за меня Селиванов. – Гнать фашистов надо, а не отступать!
– Потому что еще не решили проблему с транспортом. – Я дал Сереже договорить и спокойно продолжил: – Надо на чем-то имущество и раненых везти. А у нас только две телеги. Вот капитан и думает.
– А я считаю, что отступать – это трусость! – не успокаивался Селиванов. – Мы на своей земле. В лесу! И должны дать бой фашистам!
– Дашь ты… – ехидно начал было Гришин, но я, стараясь предотвратить намечающуюся ссору, его перебил.
– Сергей, нас сколько? – спокойно спросил я.
– Достаточно, – твердо ответил Селиванов. – А сейчас еще мины поставим…
– Нас хоть рота наберется? – перебил я его и сам же ответил: – А даже если наберется, мы выстоим против нескольких батальонов? А против артиллерии и авиации?
Сергей молчал, но по упрямому выражению лица было видно, что он с моей точкой зрения не согласен.
– Вот так, Сережа, – продолжал я. – В открытом бою мы не выстоим. Зато мы можем перебить эти несколько батальонов из засады. По частям. Или даже целый поезд с вражескими бойцами и танками под откос пустить.
– Как это – под откос? – с любопытством спросил Митрофанчик.
– А вот так! – начал объяснять я. – Заложим мину под рельсы или мост заминируем. Потом бабах! – и нет поезда. Ладно, хватит разговоров. Работать надо. Леша, дай-ка мне этот патрон.
Митрофанчик протянул мне патрон для противотанкового ружья, который до сих пор держал в руках. У меня возникла идея. Может быть, она уже давно сидела где-то в подсознании и именно поэтому я взял на складе тот ящик. Я покрутил его в руках, достал штык-нож и, уперев патрон пулей в дерево, несколькими ударами рукояти ослабил дульце гильзы, вытащил пулю и высыпал в карман порох. Осмотрел гильзу…
– Вот из этого, – я показал бойцам гильзу, – мы будем делать корпуса для противопехотных мин. Андрей, дай-ка мне «ковешникова».
Здоровяк протянул взрыватель для гранаты, и я вставил его в дульце гильзы. Диаметр запала только на какую-то долю миллиметра был больше диаметра дульца гильзы. Практически идеально!
– Сейчас разберите штук пятьдесят патронов. Только аккуратно – не порвите гильзы, – проинструктировал я. – Порох и пули ссыпьте в коробку, чтоб добро не пропадало.
Бойцы принялись за работу, а я продолжал рассматривать гильзу. Надо было решить, как присобачить на нее осколочную рубашку. И как эту рубашку вообще делать. Из чего – понятно. Для этого есть гвозди. А как эти гвозди закрепить на гладких боках гильзы? Огляделся в поисках ответа. Может, проволокой примотать? Тупо. Посмотрел на бойцов – вот кому хорошо. Сидят, выполняют порученную работу… Думать особо не надо – знай себе пулю расшатай, порох в одну кучку на расстеленную мешковину, пули – в другую, гильзы – в третью. Кстати о мешковине. Если сшить из нее мешочки по размеру гильз да напихать туда потом гвоздей… Я подошел к бойцам и отрезал себе полоску мешковины. Потом взял горсть гвоздей, попытался, для примерки, приладить это все на гильзу. Гвозди просто рассыпались. Чем бы их закрепить? Потом плотно обмотал мешковиной гильзу, попытался засунуть гвозди под нее. Не то.
– Леша, ты глиной попытайся, – вдруг произнес Винский.
Оказывается, бойцы уже давно забросили работу и с любопытством наблюдали за моими манипуляциями. Я непонимающе уставился на Андрея.
– Ты же гвозди хочешь на гильзе закрепить сверху? Надо обмазать гильзу глиной и сверху выложить гвозди, – пояснил он. – Я в детстве как-то, когда отец хату глиной обмазывал, выкладывал потом по стене в той глине всякие фигурки из камушков.
Я хлопнул себя по лбу. Казалось бы, такая простая вещь, а додуматься до нее не получилось. Замешиваем в ведре глину, обмазываем гильзу, потом прокатаем в гвоздях и замотаем мешковиной! Можно даже повторить несколько раз, для увеличения количества и веса осколков. Андрей, как автор идеи, был тут же отправлен к реке за водой. С ним я послал и Гришина, которому дал задание найти на срезе обрывистого берега слой глины, подступы к этому слою и принести ее с полведра. Селиванов и Митрофанчик остались разбирать патроны.
В это же время появился боец, который сообщил, что меня снова вызывает капитан. Напоследок, оглядев свое хозяйство и работающих бойцов, я поспешил к командирскому шалашу. Капитан сидел в одиночестве, рассматривая что-то лежащее у него на коленях. Когда я подошел, он поднял голову, посмотрел на меня и снова вернулся к своему занятию.
– Вот смотри, Найденов. – Капитан ткнул пальцем в лежащий на коленях смятый, но потом разглаженный лист бумаги.
Там был изображен карандашом план местности. Причем сделано все было настолько примитивно, что понять в этом рисунке хоть что-то можно было только задействовав на полную катушку фантазию. Лично я сразу узнал только реку. Остальное – то ли холмы, то ли овраги, еще какие-то «облачка» – оставалось для меня загадкой.
– Ты карты читать умеешь? – продолжал капитан.
– Нет! – сразу же ответил я. Конечно, я карты читать умел – без этого никак. Но «бойцу Найденову» читать карты по статусу не положено. Если б я ответил положительно, то это был бы полный прокол. И даже оправдания о «спортивном ориентировании», если такое вообще в этом времени было, не помогло бы защититься от вновь вспыхнувших подозрений.
– Это река. – Капитан указал на заштрихованную извивающуюся линию, которую я и сам определил как реку. – Здесь наш лагерь…
Капитан замолчал, еще несколько секунд водил пальцем по бумаге, а потом, покачав головой, спрятал «карту» в карман.
– Сам ничего не понимаю, – пробормотал он и пошел в свой шалаш.
Через минуту он вернулся с потрепанной планшеткой. Когда капитан ее раскрыл, я увидел настоящую карту, судя по всему – двухкилометровку. У меня аж загорелись глаза. В своем времени я бы очень многого не пожалел за то, чтобы иметь возможность заполучить такую карту. А еще лучше – в электронном виде. А если на ней обозначены еще и позиции войск… Но сейчас она тоже представляла для меня немалую ценность. Самое главное, я наконец-то смогу понять, куда именно меня занесло. О том, что это не леса под Киевом, я уже догадался. А в какой местности нахожусь, спрашивать не хотел, даже ссылаясь на потерю памяти, чтобы не вызывать подозрений.
– Мы сейчас здесь. – Капитан практически не глядя ткнул пальцем в карту.
Я наклонился, стараясь рассмотреть внимательнее. Но основное мое внимание было уделено не точке, в которую указывал капитан, а окружающей местности. Река, из которой мы брали воду, оказалась Горынью. Это где вообще? Вроде бы гораздо западнее Киева. Западнее нас находилось село Козлин, а чуть дальше, восточнее – большое село, или даже городок, Тучин. Названия ни о чем не говорили, поэтому я дальше заскользил взглядом по карте и опешил. Неподалеку, юго-западнее нас, над небольшим городком я прочитал название. Ровно. Каким образом я перенесся через сотни километров под Ровно? Мозг впал в ступор и отказывался воспринимать происходящее. С переносом во времени я уже кое-как свыкся. А теперь еще и такой перенос в пространстве…
– Вот смотри, – по-своему истолковал мое молчание капитан, – эта синяя линия – это река Горынь. Зеленым обозначен лес…
Я собрался с мыслями и кивнул. То, что капитан объяснил мое изумление тем, что я просто ничего не понял в карте, играло мне на руку. Придя в себя, я продолжил играть.
– А это, – я указал на Козлин, – село?
– Да, – кивнул капитан. – Это города, села и хутора. Тонкими черными линиями обозначены проселки, красными и оранжевыми – большие дороги, а это – железная дорога.
– Понятно, – сказал я и указал на обозначенное недалеко от нас болото. – А вот эти синие штришки?
– Болото, – ответил капитан. – А мы – здесь.
Теперь я смотрел на то место, куда указывал капитан. Положение было незавидным. Лагерь располагался в небольшом леске, который покрывал образованный излучиной реки выступ. Севернее лагеря, на нашем берегу, располагалось болото. За рекой, западнее нас, также было обозначено поросшее редким лесом болото. Зато на противоположном берегу реки раскинулся огромный болотистый лесной массив, правда весь изрезанный сеткой дорог и точками хуторов. Южнее нас виднелись только редкие зеленые пятна небольших лесков. Ситуация… Лично я, была б моя воля, бежал бы отсюда с максимальной скоростью. На север, форсировав реку и перейдя болото. Необходимо как можно скорее скрыться в большом лесу, потому что, если немцы нападут на нас здесь, не помогут никакие минные заграждения. Фактически мы оказались в ловушке, отрезанной с трех сторон рекой и болотом, а с четвертой – врагом.
– Уходить надо, товарищ капитан, – осознав ситуацию, только и смог сказать я.
Капитан удивленно посмотрел на меня.
– Река, – пояснил я и нервно хихикнул, вспомнив фразу из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». – Если прижмут к реке – крышка…
– Сам знаю, – буркнул капитан. – Но об отходе мы уже говорили.
– Тогда, – я указал пальцем в заинтересовавшее место на карте, – давайте хотя бы перейдем сюда.
Я указывал на место, более приспособленное, на мой взгляд, к обороне. Севернее нас, на нашем же берегу, от реки отходил напоминающий галочку язычок озера. Правда, находилось это озеро в болоте, но, может быть, так оно даже лучше.
– Это же озеро? – спросил я и, дождавшись кивка, продолжил: – Смотрите, здесь излучина и озеро образуют мешок, в который можно попасть только по узкому проходу. Здесь болото, поэтому техника не пройдет. Если нас будут атаковать, то только пехота. И через узкое горлышко, которое я заминирую так, что никто и близко не подойдет. По болоту. Там мы можем устроить временный лагерь и несколько дней подождать. А за это время подготовимся к переправе через реку. Имущество и раненых перевезем телегами в несколько заходов.
Капитан рассматривал маленький, не больше сантиметра, кусочек карты и напряженно думал.
– Так болото же… – вдруг произнес он.
– Отправьте разведку, товарищ капитан, – тут же парировал я. – Пусть поищут тропы. А день-два лучше сидеть в болоте, чем здесь.
– А самолеты? – не сдавался капитан. – Если нас нащупают, тот клочок земли перероют бомбами.
– Товарищ капитан, если нас нащупают здесь, то немцам не понадобятся никакие самолеты.
– Ладно, – сдался капитан. – Я прикажу разведать это место, а ты продолжай работать. Мины делай только противопехотные.
Я отправился к себе. По дороге в голову пришла мысль – а не слишком ли много я на себя взял? Обычный боец, незнакомый с картами и тактикой, вдруг начинает давать командиру ценные указания, где лучше держать оборону. Подозрительно. Хотя, если будут какие-то вопросы, можно сослаться просто на логичность моих рассуждений. Мы имеем маленький клочок леса, с трех сторон ограниченный рекой и болотом, и немцев, которые, скорее всего, собираются прочесать лес. Сил для того, чтобы держать оборону, у нас нет. Отступать некуда. Значит, надо уходить на другое место, которое проще оборонять. Место, где нас могут атаковать только на очень маленьком участке. Еще раз повторим про себя всю цепочку рассуждений. Сформулируем так, чтобы создалось впечатление, что до такого додумается даже полный дурак. Вроде нормально получилось. По крайней мере, я так думал, когда шел продолжать работу над минами.
* * *
Когда я вернулся на поляну, бойцы уже почти закончили работу. Гришин и Винский, отправленные к реке, до сих пор не вернулись, а Лешка с Селивановым добивали последние патроны. На расстеленной мешковине были выложены штук сорок гильз. Поскольку ситуация изменилась, и, скорее всего, минировать будем болото, столько нам не надо было.
– Заканчивайте, – сказал я им. – Мины с нажимными взрывателями делать не будем. Только растяжки.
Из лесу вышли Гришин с Винским. Лешка, увидев пришедших, заржал.
– Был у нас в хозяйстве хряк, – еле произнес он. – Так ты, Максим, вылитый он!
Я тоже улыбнулся. Действительно, вид у Гришина был живописный. Боец был настолько измазан грязью, что казалось, будто весь день провалялся в луже вместе с тем самым хряком. Вдобавок ко всему с него еще и ручьями текла вода.
– Ты смотри, ребятам-то не попадись, – продолжал Лешка. – А то зажарят ненароком…
Гришин сначала насупился, а потом тоже рассмеялся.
– Тебя, Лешка, они скорее зажарят. Ты поупитаннее. – А потом объяснил свой внешний вид: – Над рекой, на обрыве глину нашел. Копать сильно глубоко, а по обрыву спуститься – никак. Попытался было, да в воду плюхнулся. Так из воды глину в котелок и набирал. А потом Андрей меня вытащил.
– Молодцы! – отсмеявшись, сказал я. – Объявляю благодарность!
Гришин вытянулся и, еле сдерживая смех, гаркнул:
– Служу трудовому народу!
– Вот отдохнешь с полчасика, и снова принимайся служить, – продолжил я и покосился на Митрофанчика. – Алексей пока нам глину замесит.
Лешка сразу стих.
– А чего я-то? – недовольно буркнул он.
– А чтобы мы потом сравнили, кто из нас больше на хряка похож, – за меня ответил Гришин, присаживаясь на траву и снимая мокрую гимнастерку.
– Только смотри, Лешка, – продолжал давать ценные указания я, – чтоб была липкая и вязкая. А то переведешь продукт – сам за глиной пойдешь.
Недовольный Митрофанчик принялся замешивать глину, а я пошел инспектировать результаты работы по разборке патронов. Ребята справились хорошо – ни одна гильза не была порвана. Учитывая, что вытаскивать без инструмента пули из 14,5-миллиметровых патронов – задачка еще та, бойцы заслужили поощрение. Только вот поощрить их, собственно, нечем. Ладно, что-то придумаем.
– Вроде готово, – сказал Лешка, вытирая грязные руки пучком травы.
Я подошел и взял из котелка щепотку глины. Растер ее между пальцами. Показалось, что раствор получился слишком густой. Добавил немного воды и перемешал палкой. Взял еще щепотку. Глина липла к пальцам, как пластилин. В самый раз. Теперь попробуем сделать осколочную рубашку.
Взяв горсть гвоздей, я густо рассыпал их на крышке одного из ящиков со снарядами, потом, зачерпнув из котелка глину, обмазал ей одну из гильз. Глины получилось многовато. Счистил немного обратно в котелок, снова обмазал гильзу, стараясь получить слой в пару миллиметров. Потом положил ее в центре россыпи гвоздей и прокатал. Гвозди прилипли хорошо.
– Отрежьте кто-то полоску мешковины, – сказал я наблюдавшим за моими действиями ребятам. – По ширине с полгильзы.
Сергей тут же выполнил мою просьбу и протянул мне полоску ткани. Одной рукой держа гильзу за дульце, второй я попытался обмотать ее мешковиной. Не получалось. Я пытался обмотать как можно туже, но глина выдавливалась тканью наружу, а большинство гвоздей обсыпалось. Немного подумав, я очистил с гильзы уже начинающую подсыхать глину и снова обмазал, прокатал в гвоздях.
– Сделайте полоску чуть шире длины гильзы.
Взял вновь поданный кусок мешковины, аккуратно, не стараясь сделать туго, обмотал гильзу.
– Сережа, отрежь два куска проволоки. Чуть длиннее пальца.
Селиванов штыком отрубил куски проволоки и, пока я держал гильзу, повинуясь моим указаниям, обвязал мешковину сначала по канавке вокруг донышка гильзы, а потом по дульцу – над местом, где оно начинало утолщаться. Только после этого я снова попытался потуже перетянуть гильзу узким куском мешковины. Чувствовал, что глина поддается под пальцами, но наружу, сдерживаемая тканью, не вылезает. Закрепив ткань, я показал результат бойцам.
– Поняли? Теперь разбиваетесь на пары и делаете так же. Один обмазывает гильзы, второй обвязывает проволокой и мешковиной. Готовые гильзы кладем сушиться на солнце. Всего делаем двадцать штук.
Бойцы принялись за работу, и вскоре на солнце сушилось требуемое количество кустарных корпусов для противопехотных мин. Я взял тот, который делал сам, – вроде уже подсохло. Под жарким солнцем глина быстро затвердела.
– Теперь повторяем все по новой, – сказал я. – Берите те, которые уже подсохли, и обмазывайте мешковину глиной. Потом гвозди и опять мешковина. Ну, вы поняли.
Часа через два стройные гильзы превратились в толстые комки грязи, нашпигованные гвоздями. «Рубашку» мы сделали в три слоя. Глина, конечно, при взрыве, скорее всего, превратится в пыль, а вот гвозди должны разлететься хорошо. Я объявил перекур и присел отдохнуть.
– Я вот что думаю, – сказал вдруг обычно молчаливый Винский. – Взрывчатки туда мало поместится. Гильза маленькая, меньше гранаты будет. Не убьет никого.
– Нам главное что? – спросил я, затянувшись сигаретой, и сам ответил: – Чтобы корпус разлетелся и взрывом разбросало вокруг осколки. Так?
– Ну так, – согласился Андрей. – Но осколки здесь тоже мелкие. Толку-то от тех гвоздиков?
– А ты представь, – продолжал я, – что в паре метров от тебя рванет такая штука и нашпигует тебя десятком-другим таких гвоздиков. Не убьет, но бой продолжать ты уже не сможешь. Это как дробью в тебя выстрелить. Дробинка маленькая, но когда их много – разорвет в клочья бок, который со стороны взрыва, или, например, ногу, руку… Понятно?
– Вот я как-то в утку с близи дробью пальнул.
Я обернулся и увидел Митрофаныча, который, привалившись к дереву, скручивал самокрутку.
– Так от нее, ей-богу, чуть одни перья не остались. Не птица стала, а сплошное решето со свинцом. – Митрофаныч прикурил свою самокрутку, посмаковал дым и продолжил: – А то, шо не убьет фашиста-то, оно и к лучшему. Вот ты представь, – он обвел внимательным взглядом нашу компанию, – шо врага убили. А остальные дальше прут. А вот ежели только ранили – тут совсем другое дело. Германец – он аккуратный. Своих раненых не бросает. А их кому-то в тыл тащить надобно, одному, а то и двоим. И вот, пока они своих раненых назад тащат – тебе уже отстреливаться надо не от трех-четырех врагов, а от одного. Вот так оно.
Я повернулся к своим бойцам:
– Вот! Слушайте, что опытный человек говорит. Раненый не только стрелять по вас не может, но и сковывает еще нескольких здоровых врагов.
Митрофаныч вышел на поляну и склонился над изготовленными нами корпусами. Взял один в руки, повертел и положил на место.
– А шо, – вынес решение старик, – хорошая штуковина. Гвозди там?
Я кивнул.
– Гвозди – это хорошо, – продолжил Митрофаныч и повернулся к моим бойцам: – Вы, ребятки, идите погуляйте. Ужин уже скоро. А я хочу с Лешей поговорить.
Я кивнул, и бойцы, переглянувшись, исчезли в лесу. Митрофаныч подошел ко мне и присел на корточки. Не понравилось мне, как он на меня смотрел. Слишком как-то внимательно. Даже настороженно. Попытавшись расслабиться, я тоже достал сигарету и закурил. Руки чуть дрожали. Чувствовалось, что разговор предстоит непростой. Неужели я все-таки слишком сильно прокололся с картой?
– Был у меня один знакомец, – начал вдруг рассказывать Митрофаныч. – Еще там, на Гражданской. Тоже мастак по бомбам был. Чем-то на тебя похож, кстати. У тебя отец в Гражданскую-то не воевал?
Это он к чему вообще? При чем здесь Гражданская?
– Не знаю, – пожал плечами я. – Может, и воевал… Я ж не помню ничего.
– И звали его тоже Алексием. Фамилию вот только не помню уже.
– А вы за кого в Гражданскую воевали? – вдруг спросил я.
– Известно за кого. За Россию воевал.
– За Россию все воевали, – не отставал я. – Только кто-то за Советскую Россию, кто-то за царскую…
– Ну, не скажи, – принял мою игру Митрофаныч. – Вот Махно, он за какую Россию воевал? Он свою державу сделать хотел. А петлюровцы за кого? Те за Украину воевали. Там ведь такая каша была, часом, и не разберешь, кто есть кто, а кто за кого.
С минуту мы сидели и молча курили.
– У Врангеля я воевал, – вдруг признался Митрофаныч. – Взводом командовал.
Я опешил. Такое признание не шло ни в какие рамки. И как вообще белогвардеец мог оказаться в действующем партизанском отряде, когда вокруг царит бдительность и шпиономания? Терехин, если б узнал, – взвыл бы. Кстати, этим можно воспользоваться, чтоб развеять подозрения.
– А командир знает, – насупил брови я, – что у него в отряде белогвардеец?
– А то! – не обращая внимания на мой грозный вид, кивнул Митрофаныч. – Я ж, когда их здесь в лесу нашел, так ему и сказал. Мол, фельдфебель Комов прибыл для несения службы, прошу принять в часть и все такое.
Я хлопал глазами. Сам признался? И его взяли? Почему?
– Сначала не хотел капитан меня к себе брать, – продолжил старый фельдфебель, будто догадавшись о моих мыслях. – Да я его уговорил. Опыта ж у меня поболе будет, чем у той молодежи, да и с местами этими знаком. Как барон с Крыма-то утек, так я сюда пришел, и уже почитай годков двадцать, как живу тут.
– А как же вы, враг советской власти, – продолжал я строить из себя идейного, – решили присоединиться к Красной армии?
– А к кому мне идти было? – натурально удивился Митрофаныч. – К германцу, шо ли? Так я их еще в ту войну бил. До Гражданской. Я ж присягу давал царю и Отечеству. Царя нынче нету, а Отечество – оно ж так и осталось. Вот за него и воюю.
Возникла мысль, что весь этот разговор может оказаться какой-то провокацией. Проверкой. Мы еще немного посидели молча, и я решил, что разумнее всего будет рассказать об этом разговоре капитану. Кто его знает, у Врангеля служил этот старик или нет – он не так прост, как кажется. Если это таки проверка, меня потом могут и обвинить, что не донес о «враге народа», что по нынешним временам может привести и к стенке.
– Я к тебе чего пришел-то, – разрушил молчание Митрофаныч. – Мне Семен Алексеич рассказал о твоем предложении перейти на болото. По карте место там хорошее. А можно ли там стоять – хлопцы из разведки вернутся и скажут. Так вот. Мне надо, шоб ты сделал еще бомбу, которую на дорогу от машин ставить.
– Зачем? – не понял я. – Там же болото, машины не пройдут!
– Там-то не пройдут, – пояснил Митрофаныч. – А на том берегу, куда переправляться будем, мельница стоит да перекресток за ней. На мельнице немца нет – ребята проверяли. Шоб прикрыть нас, когда через реку переходить будем, я там заставу хочу поставить. А перекресток заминировать надо. Я так думаю.
– Сделаю, – согласился я и, после секундного раздумья, добавил: – Если командир согласится. Взрывчатка ж не моя, а отряда. И мало ее. Сам, без разрешения, такие решения принимать не могу.
– И то верно, – кивнул Митрофаныч. – Только ты, если уж Семен Алексеич даст добро, не тяни. Я ребят туда хочу завтра вечером отправить.
– А ставить мину кто будет? – спросил я. – Я же не смогу пойти. У меня и тут работы полно.
– Дашь мне кого-то из своих ребят. Они ж закопать бомбу смогут?
– Смогут. – Я кивнул и хитро улыбнулся: – Если командир разрешит.
– Вот и славно. – Митрофаныч затушил окурок. – Только ты не тяни. Спроси Семена Алексеича сегодня вечером.
Старик исчез в лесу, оставив меня в одиночестве обдумывать произошедший разговор. Не просто так пришел Митрофаныч, ой не просто так… Или его специально прислали? А может, все-таки сам решил что-то для себя выяснить? Какие последствия для меня это будет иметь? Наверное, надо быть еще осторожнее и не расслабляться, а то легенда, похоже, начинает сыпаться. Хотя, может, напраслину на старика возвожу и ему действительно просто мины понадобились, а все разговоры о Гражданской войне – просто стариковская болтливость? Так же можно и параноиком стать. С другой стороны, как сказал кто-то умный, если у вас паранойя – это еще не значит, что за вами никто не следит. Поживем – увидим. Решив не терять зря времени, я отправился к капитану.
Глава 8
Капитан сразу же дал согласие выделить Митрофанычу требуемые мины и бойца, который должен их установить. Более того, казалось, ему не понравилось то, что я обратился к нему с таким вопросом, но свое недовольство капитан не выразил ничем, кроме выражения лица.
– Товарищ капитан, – я никак не мог решиться спросить его прямо о прошлом Митрофаныча, но затронуть эту тему считал необходимым. – Что вам известно о Комове?
– Что ты имеешь в виду? – удивленно спросил тот.
– Ну… – Я замялся, но решил спросить прямо: – Вам известно, что Митрофаныч воевал на стороне белых?
– Найденов, – после некоторой паузы, тщательно подбирая слова, ответил капитан. – Сейчас мне не важно, за кого воевал Комов двадцать лет назад. Мне важно, за кого он воюет сейчас. И как воюет. Тебе это понятно?
Я кивнул. С точкой зрения капитана я был полностью согласен.
– Тогда иди занимайся своими делами, – и после того как я сделал несколько шагов, добавил: – И чтоб больше я таких разговоров не слышал!
Работа над минами закипела с новой силой. Приходилось спешить. Ведь кроме того, что необходимо было закончить с уже начатыми противопехотными растяжками, мы получили новый заказ. А сроки сильно поджимали. Я разбил свою команду на две части. Мы с Лешкой Митрофанчиком и Винским доделывали растяжки, а Гришин и Селиванов занялись заказом Митрофаныча.
Начав набивать изготовленные корпуса толом, мы столкнулись с новой проблемой – взрывчатка у нас была в основном в крупных кусках, которые не пролезали в узкое горлышко гильзы. А если и пролезали, то утрамбовать в корпус необходимое количество тола не представлялось возможным. Поэтому пришлось тратить время на измельчение взрывчатки до состояния хотя бы крупного песка.
Второй проблемой стала установка взрывателей – надо было придумать, как их ввинтить в чуть более узкое горлышко набитой толом гильзы. Но в конце концов, провозившись до темноты и часть следующего утра, работу закончили. Мы подготовили пятнадцать растяжек, которые планировали ставить на болото, два относительно мощных фугаса и еще штук пять противопехотных мин с взрывателями нажимного действия для Митрофаныча.
Новый день начался бурно. Во-первых, возвратился боец, которого несколько дней назад послали вернуть сбежавших к партизанам ребят. Детей он привел с собой обратно. Сам я их появления не видел, но слышал, как говорили, будто, придя в село, они застали там лишь курящиеся дымом развалины. Село, вместе со всеми жителями, оказалось уничтожено немцами, и боец не смог оставить доверенных ему пацанов одних. Он снова привел их в отряд.
Вторым происшествием этого утра было то, что один из наших дозоров взял в плен немца. Как часовой привел в лагерь пленного, я видел уже сам. Мы как раз завтракали, когда послышался какой-то шум. Оглянувшись, я увидел шагающего через лагерь ганса, которого подталкивал стволом карабина в спину один из партизан. К сожалению, людей, знающих немецкий язык, у нас в отряде не было. Поэтому, попытавшись минут десять хоть что-то вытянуть из пленного с помощью жестов, капитан махнул рукой и приказал пустить немца в расход. После небольшого совещания наш командир пришел к выводу, что пленный был вражеским разведчиком и немцы уже нащупали примерное месторасположение отряда. Дальше ждать было нельзя, и капитан приказал срочно перебираться в болото и готовиться форсировать реку.
Лагерь напоминал муравейник. Повсюду сновали партизаны, слышалась ругань и команды. Особо отборная ругань раздавалась от склада, где решалось, какое имущество мы захватим с собой в первую очередь, какое оставим для следующей ходки, если она будет, а какое просто уничтожим, чтоб не досталось врагу. Марченко, чуть ли не со слезами на глазах, дрался за каждый гвоздь, но даже он понимал, что всего забрать с собой не получится. В конце концов, после вмешательства капитана, был организован первый обоз из двух имеющихся у нас телег, задачей которого было доставить на новое место запасы еды, медикаментов и боеприпасов. За второй заход планировалось перевезти раненых и мой склад взрывчатки. Все остальное было приказано взорвать после того, как бойцы покинут лагерь.








