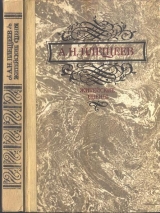
Текст книги "Житейские сцены"
Автор книги: Алексей Плещеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
III
Семейство Никанора Андреича Еремеева сидело за вечерним чаем, когда к крыльцу господского дома подкатилась небольшая повозка, или лучше телега с верхом, запряженная парой тощих крестьянских лошаденок.
– Учитель! – крикнул, вставая с своего места и бросаясь к окну, старший сын помещика Ванечка, ходивший, несмотря на свои шестнадцать лет и вовсе не отроческую толщину, в курточке и отложном воротничке.
Младший сын, Петя, мальчик лет девяти, только поглядел боязливо на дверь, в которую должен был войти приехавший, и не издал никакого восклицания. Девочка Соня – самая маленькая из всех, сидевшая за столом на высоком стуле, заболтала ножонками и также прокартавила: уцытель! Жена Никанора Андреича, бледная и худощавая молодая женщина (он был женат в другой раз) и сестра его – старая дева, с оливковым цветом лица и подвязанной щекой – не сказали ни слова: но и их взгляды обратились по направлению к передней. Самого Никанора Андреича не было в комнате, и его кресло за чайным столом оставалось пустым; он находился на заднем дворе, где у него производились какие-то постройки, и толковал с плотниками.
Костин, сбросив с себя пальто, вошел в залу, где пили чай, и молча раскланялся всей компании.
– Очень рады,– слабым голосом произнесла хозяйка.– Не угодно ли чаю с дороги?
И как будто она сказала или сделала какую-нибудь непростительную глупость, покраснела, смешалась и потупила глаза в полоскательную чашку.
– Как, чай, не хотят… дорога не ближняя,– вымолвила старая дева, ни к кому не обращаясь особенно.
Ванечка бросился подставлять учителю стул.
– Не беспокойтесь,– пробормотал в свою очередь сконфуженный Костин, пожимая Ванечке пухлую красную руку, на которой каждый палец глядел каким-то Собакевичем.
И хозяева и приезжий несколько минут помолчали.
– Дорогу-то, я думаю, ужасно как размяло дождями,– сказал наконец Ванечка, стоявший за стулом учителя.
– Да, дорога плоха! – отвечал Костин, принимая от хозяйки чашку.
– Теперь за грибами идти можно,– заметил снова Ванечка.
– Позвольте узнать,– спросил Костин, обращаясь к хозяйке,– кто здесь мои будущие ученики?
– Вот Ванечка и Петя тоже,– отвечала хозяйка, указывая на обоих движением головы.– Ванечка в юнкера готовится, а Петю в корпус хотят отдать.
– Мне говорили, что младший сын ваш поступит в гимназию?
– Да, прежде так думали… Я просила Никанора Андреича, чтобы его по штатской службе пустить; он сначала хотел, а потом передумал.
– Братец желают, чтобы он инженером был,– вмешалась старая дева, которую называли Дарья Андреевна, неся в рот ложечку с медом: она по средам и пятницам постилась.
– Мне кажется,– возразил Костин,– что нельзя назначать мальчика заранее к тому или другому поприщу. Нужно сообразоваться с его наклонностями. Они впоследствии сами скажутся, а до тех пор полезнее для него общее, не специальное образование.
Костину хотелось выведать образ мыслей на этот счет хозяйки, которая понравилась ему с первого взгляда. Кроткое, доброе лицо ее и большие синие глаза, в которых сквозила какая-то затаенная скорбь, действительно способны были внушить невольную симпатию к Анне Михайловне.
Но она промолчала на возражение Костина и продолжала перетирать чашки. Зато старая дева не замедлила отозваться.
– Как это можно, помилуйте, на наклонности детские обращать внимание! Да мало ли у них к чему наклонности могут явиться. Они глупы. Разве им можно собственным рассудком жить? Они должны воле родительской повиноваться. На что родители их обрекут, тем они и должны быть. Родители уж, верно, зла своим детям не пожелают…
Костин, по своему обыкновению, хотел было ответить и на такую мудреную речь горячими юношескими опровержениями, да к счастью воздержался; но с этой же минуты почувствовал сильную антипатию к Дарье Андреевне как к существу черствому и глупому.
Между тем вошел Никанор Андреич в грязном, замасленном халате, когда-то желто-золотистого цвета, с длинным черешневым чубуком в руке. Как маленький Петя своим болезненным видом и робким взглядом напоминал мать, так физиономия Ванечки представляла живое подобие родительской физиономии, только несколькими десятками лет моложе. На красном и одутловатом лице господина Еремеева можно было ясно прочесть, что он не любил умерять страстей своих. Узкий лоб его, до половины заросший лесом черных с проседью и перпендикулярно стоявших волос, не обнаруживал признаков особенного ума. Отвисшая нижняя губа, черные глаза навыкате и большие усы придавали ему суровый вид.

– А, господин учитель! – сказал Никанор Андреич, входя.– Мое почтение. Давно вас ждали.
Костин встал со своего стула и, держа в одной руке недопитую чашку, раскланялся с хозяином.
– Вы ведь, кажется, в Мутноводске проживали?
– В Мутноводске.
– На службе состояли?
Костин назвал должность, которую занимал.
– И из этакой должности в учителя пошли? Знать, не поладили с правителем?
– Да, не поладил.
Костину начинали становиться скучны эти допросы.
– Такс. Правитель там дока. Знаю я его. Продувная бестия… Он по-настоящему и губернией-то управляет; а губернатор ничего не значит… Это тряпка. Да вот еще теща его… У! даром что баба, а во все входит. Вот этого уж я, признаюсь, не понимаю,– чтоб бабе позволить себе на шею сесть… Ну, уж правитель другое дело… в законах, значит, собаку съел, чернильная строка. А баба? Скажите на милость, что баба понимать может? Ее дело за провизией смотреть, чтобы выходило не больше, чем следует – вот ее дело… а в свободное время подушки гарусом вышивать. Уж это нужно черт знает каким ротозеем быть, чтобы бабы слушаться, да еще и бабы-то старой.
У Никанора Андреича, пока он ораторствовал таким образом, потухла трубка. Подув несколько раз безуспешно в чубук, он обернулся назад, чтобы зажечь бумажку, но не найдя приготовленной, крикнул, как в пустую бочку:
– Прошка!
Перед ним, как из земли, вырос казачок с босыми, грязными ногами, с красными патронами по обеим сторонам груди и обстриженный в кружок.
– Опять, каналья, бумажек не заготовил!.. а? А ты чего смотришь? – обратился Никанор Андреич к старшему сыну.– Сказано тебе, чтоб ты смотрел за Прошкой… Ведь он в твоем распоряжении состоит? Тебе уже шестнадцать лет, слава богу, не все барчонком быть… Вы курить не хотите ли? – спросил Костина, переменив тон, Никанор Андреич.
– Вот папироски-с… дюбек крепкий; я сам делаю,– старался подслужиться учителю Ванечка и вынул из кармана засаленный porte-sigares, набитый самодельными папиросами, тоже носившими на себе следы грязных рук.
Костин, поблагодарив, отказался.
В это время хозяйка встала из-за стола и вышла в другую комнату. Никанор Андреич зашагал по комнате, потом остановился перед Костиным и продолжал:
– Да, батюшка! плохие времена переживаем… От своих душ да нанимать на всякую работу народ придется. Теперь бабе за то, что полы вымоет, и то должен буду платить… Какой же я после этого господин в своем имении!..
Костин, не желая далее слушать разглагольствования хозяина, под предлогом головной боли попросил указать ему комнату, где бы он мог отдохнуть от дороги.
Никанор Андреич сам повел его в маленький флигель, весь спрятанный в густую и темную зелень сада, прилегавшего к заднему фасу господского дома.
– Вот ваше жилище,– сказал Никанор Андреич, отворяя дверь во флигель и вводя Костина в небольшую, но чистенькую комнату, где стояли кровать, письменный стол и несколько стульев, обтянутых черной волосяной материей.– Ложитесь; еще до ужина успеете выспаться. Мы ужинаем в десять часов.
Костин отвечал, что никогда не ужинает.
– Не ужинаете? Значит, по-петербургскому привыкли… Ну, как хотите. Спокойной ночи.
Он было ушел, но, сделав шагов с десяток, опять воротился.
– Я и забыл вам сказать. Я приставил ходить за вами Степку… Можете им распоряжаться, как угодно. Вы взыскивайте с него хорошенько… не давайте спуску, а то сейчас заленится. Уж это такой народ!
Костин, утомленный, повалился на кровать и, закинув обе руки над головой, начал было приводить в порядок в уме своем впечатления этого дня, как вошел приставленный к нему помещиком человек Степан.
– Раздеваться не изволите еще? – спросил он Костина.
– Нет, братец, спасибо; я сам разденусь,– отвечал Костин, поворотив голову в ту сторону, где стоял Степан, и стараясь рассмотреть его лицо. Во флигеле от ветвей, нависших над окнами, становилось уже темно.
– Больше ничего не прикажете-с? – опять спросил Степан.
– Потрудись только приготовить графин с водой да принести сюда спичек.
Степан вышел. Ему можно было дать на вид лет сорок. Смуглое лицо его, честное и серьезное, не носило на себе отпечатка подобострастия, которым с детства обыкновенно пропитываются дворовые. Но глаза глядели как-то недоверчиво. Спустя несколько минут он принес все, что требовал учитель, и уже хотел совсем удалиться, как Костину пришло на мысль порасспросить немножко Степана о житье-бытье в Еремеевке.
– Подожди-ка немного, друг мой,– сказал он ему, вставая с кровати,– если у тебя нет никакого спешного дела.
– Никакого нет, сударь,– отвечал Степан.– Я теперича к вашей милости камендирином приставлен; если изволите приказать, я и спать здесь могу лечь. Может, на первый-то раз вам здесь боязно.
– Нет! Что ты, чего же бояться… Ты где себе хочешь, там и ложись; а я вот только хотел с тобой немножко потолковать… Садись-ка, Степан…
– Зачем же, я постою-с…
– Нет, садись, сделай одолжение. Я ведь не из важных господ и не люблю, чтобы передо мной стояли навытяжку… Садись.
Степан сел. Костин зажег свечу и сам поместился против него на кровати.
– Что, много у вашего барина душ?
– Душ четыреста или около того будет, сударь.
– На барщине или на оброке?
– При старом барине, говорят, оброчными были, а этот на барщину посадил.
– А ты отца-то его не помнишь?
– Я ведь не ихний, сударь… Я за барыней в приданое отдан.
– А-а! Барыня ваша, кажется, добрая должна быть.
– Ангел во плоти, сударь. Эдакой барыни поискать надобно. Теперича вы каждого мужика о ней спросите,– кроме как хорошего никто ничего не скажет. Чуть где прослышит, что больной есть,– так тотчас пошлет или лекарства какого… а иной раз и сама потихонечку от барина навестит. Воли-то ей горемычной нет… за ней глаз да глаз имеют…
– Кто же это? значит, не один барин?
– И, какой один! Много тут их, соглядатаев-то.
– Гм! Ну, барин-то уж вовсе на нее не похож, кажется.
Степан молчал.
– Ты что боишься. Степан? Я тебя не выдам; будь спокоен.
Степан поднял глаза, которые до сих пор держал опущенными, и проницательно взглянул на Костина; потом тотчас же опять потупился.
– Что говорить, сударь… Сами изволите увидать.
– Оно так; но все же мне хотелось бы заранее знать… Признаться, он крепко мне не понравился. Должно быть, крестьянам не больно хорошо житье у него.
– Какое хорошо, сударь! Мужичку-то всего два дня на свои нуждишки дают, да и то еще, почитай, что каждую минуту для барского дела отрывают: как управляющему вздумается взять, так и есть.
– Так тут еще и управляющий есть? Видно, сам-то в хозяйстве мало смыслит.
– А ничего не смыслит…
– А управляющий плут?
– Да еще какой плут-то! Мужичков-то совсем разорил. У кого было две лошаденки, теперь ни одной не осталось. А пожаловаться не смей.
– Что ж он, крепостной или наемный?
– Крепостной-с.
– Как же он так умел к барину в душу влезть?
– Знаем мы, сударь, чем он и в силу вошел, чем и теперича держится; уж давно бы ему несдобровать, кабы поддержки у него на барском-то дворе не было.
– Какая же это поддержка, Степан? Да говори, не бойся.
– Так уж вы мне, сударь,– с позволения сказать,– по сердцу пришлись; с первого, то есть взгляда, я к вам пристрастие почувствовал и разговор ваш давеча с барином тоже слышал; и тут же подумал: этот, мол, на нашего не похож. Отчего это, сударь, вот вы мне скажите, доброму человеку господь богатство не посылает?.. Или уж в царствии божьем добрым-то сторицею воздастся? Сколько я на своем веку добрых господ ни видывал, все они достатка своего не имели. Вот хоть бы и вы теперича,– вы на меня не извольте сердиться, что я так рассуждаю: я человек темный, конечно, и мне про эвти дела, может быть, вовсе судить не приходится, а ведь, чай, имей вы достаток, тоже бы по чужим людям не пошли?
– Учить детей не пустое дело, Степан; есть люди и с достатком, которые на это себя определяют.
– Оно так-то так, сударь, что против этого говорить? А ведь все-таки, будь у вас, например, крестьяне, вы бы ими, чай, тоже сами управлять стали.
– Разумеется; только ты напрасно думаешь, что все помещики на вашего похожи. Есть и добрые, которые о мужичках своих заботятся.
– Так-с, конечно, есть и такие…
– Так какая же у управляющего на барском дворе поддержка?
Степан оглянулся на дверь и, нагнувшись к Костину, начал шепотом:
– Дочка его тут, Матреной зовут, проживает. Она Никанора-то Андреича к себе ровно приколдовала, всем домом вертит, как хочет.
– Неужели всем домом; ну а барыня знает это?
– Как не знать! Да сколько она от этой Матрешки грубостей приняла… раз даже и барину на нее жаловалась.
– Ну, что же он?
– Что? Ничего. Матрешку же правой сделал. Ты, говорит барин-то, только попусту кляузы строишь. Матрена резонно тебе говорит; ты ее слушать должна, потому что она в хозяйстве больше тебя смыслит; а тебя, говорит, твой папенька только хныкать да книжки читать научил.
– Скотина! – воскликнул Костин.
– Барыня-то после этого целую неделю больна была; так он хоть бы во время болезни-то к ней разик заглянул проведать – что, мол, с ней делается… и того нет. Матрешка не допустила: что, дескать, ее баловать, барыню-то.
– И давно она, бедная, за этаким мужем мается?
– Десятый год пошел. Да сначала-то – нечего греха на душу брать, доложу вам по справедливости – он не в пример лучше с ней обходился. А уж потом, как имение все ее протранжирил, в карты проиграл в клубе да на цыганах промотал,– и пошел, и пошел. Редкий день обходился, чтобы она, сердечная, с незаплаканными глазами к столу вышла. Ну, а как уж в деревню жить переехали да Матрешка эта скулатая подвернулась, тут уж просто житья барыне нашей не стало. Да вот еще ведьму-то старую видели, Улиту-то Роговну?
– Это – сестру-то его?
– Ну, да. Эта еще почище Матрешки будет и заодно с ней против Анны Михайловны действует. Она у брата-то из милости проживает; свой капитал весь в какого-то любовника просадила. Он, слышите, жениться хотел на ней, да уехал. Так вот она теперь к Матрене-то и подлаживается. Боится, что не ровен час, мол, пожалуй, братец-то за что-нибудь осерчает, да и со двора сгонит. Ну, а Матрена-то заступница верная, смерть любит, коли кто к ней с поклоном идет.
– Однако ж плохое житье бедной Анне Михайловне; кажется, и пасынок-то ее тоже в папеньку пойдет.
– И! Еще хуже будет. Одначе, я думаю, сударь, вам почивать пора ложиться, вас, чай, дорогой-то растрясло. Спокойной ночи, приятного сна.
– Прощай, Степан, спасибо тебе. Да вот возьми-ко, брат, себе.
Костин подал ему целковый.
– Зачем это, сударь? – сказал Степан.– Нет, благодарю покорно. Когда заслужу – ну, тогда так, а теперь нет, не возьму.
Несмотря на все настояния Костина, Степан таки не взял денег и, простившись с ним еще раз, ушел к себе.
«Вот что значит молодость-то,– думал Степан по выходе от Костина,– у самого за душой-то жиденько, а другим жертвует. Простой барин, видно, дай ему бог здоровья».
А Костин долго еще не мог заснуть под влиянием всего слышанного от Степана.
«Ну,– говорил он себе,– счастливая моя звезда – нечего сказать! В какой вертеп грязи, разврата она опять привела меня».
Он подумал было даже, не уехать ли ему на другой же день из Еремеевки, но кроткий, печальный образ Анны Михайловны неотразимо влек его к себе. Ему хотелось покороче узнать эту бедную женщину.
Скоро Костину удалось и самому удостовериться во всем, что передал ему Степан. Хотя в присутствии его все были по видимому вежливы с Анной Михайловной, но по временам вырывались у окружающих ее какие-то темные намеки, которые посторонним лицом, конечно, могли быть не замечены или пропущены без внимания, но для Костина, уже предварительно посвященного в тайны этого дома, подобные намеки не представляли ничего загадочного. Он видел, как язвили и кололи несчастную женщину, вся вина которой состояла в том, что она была мачеха Ванечки. Безответная, запуганная, забитая, могла ли она кому-нибудь причинить вред, если бы даже имела к тому охоту? Но по понятиям родственников ее мужа и близких к нему, мачеха должна непременно питать враждебные чувства к своему пасынку. И вот в каждом ненамеренном слове, в каждом легком замечании, клонившемся часто к пользе самого пасынка, видели ненависть, злобу, желание восстановить против него отца.
Анна Михайловна была развитее всех этих личностей, которыми судьба окружила ее, она была деликатнее их; но деликатности этой никто не ценил и не хотел даже замечать, а, напротив, за нее платили самыми грубыми выходками, вызывавшими яркий румянец негодования на щеки бедной женщины. Анна Михайловна была очень худа и постоянно кашляла; но Костин ни разу не видел в доме Еремеева доктора, и когда однажды выразил на этот счет свое удивление при Никаноре Андреиче, он отвечал весьма равнодушно:
– Это у ней давно. Доктора только пачкают; что от них прибыли? Да и денег на них не напасешься.
Такая уж, видно, судьба была Костина, что и на новом месте, как в Мутноводске, он в самое короткое время вооружил против себя самых могущественных и влиятельных лиц. Но на этот раз не резкие суждения и отзывы были тому причиной, а поступки, не согласовавшиеся с принятым в Еремеевке порядком. Правда, что первое впечатление, сделанное им на самого помещика, уже не клонилось к выгоде учителя. Он осмелился сказать слово в защиту эманципации. А ничем нельзя было более прогневить Никанора Андреича. Но это впечатление могло бы впоследствии изгладиться, если бы Костин умел попасть в тон еремеевского общества и постарался заслужить его расположение. К несчастью для него, он действовал совершенно наоборот.
Прежде всего он подвергся опале Матрены, или Матрены Карповны, как называла ее вся прислуга,– бариновой фаворитки, у которой в распоряжении находились ключи от погребов, кладовых и амбаров, а также и девичья, состоявшая из многочисленных горничных, по большей части босоногих. Матрена Карповна, по-видимому, вовсе не расположена была сначала враждовать с учителем, а, напротив – желала состоять с ним в самых мирных, приятельских отношениях, а может быть, даже и более. Она всячески ему услуживала, заискивала перед ним, угождала всеми зависевшими от нее средствами… даже не раз сама носила ему во флигель кофе, которое, как она узнала, учитель очень любил. При встрече с ним она как-то особенно приятно улыбалась и поводила глазами. Проходя мимо него, она старалась коснуться своим платьем его одежды; часто, увидав его где-нибудь одного, сама начинала с ним разговор, изъявляла непритворное сожаление, что ему должно быть очень скучно на чужой стороне, с незнакомыми людьми. Какой прекрасный случай представлялся Костину – воспользоваться этой предупредительностью и овладеть личностью Матрены Карповны, овладеть в то же время браздами правления в Еремеевке! Все бы делалось по его желанию… Он бы даже мог принести известную пользу…
Но как человек мало практический, которому советы доброго старика-почтмейстера решительно не пошли впрок, он очень сухо отвечал на все расспросы Матрены Карповны, очень холоден остался к ее искательству и хотя никогда не позволил себе оскорбить ее никаким жестом или просто невежливым словом, но ничем и не поощрял ее к продолжению дружественных отношений.
Матрена Карповна сначала приписывала неразговорчивость учителя молодости и застенчивости, но потом, когда увидела, что он общество Анны Михайловны и разговор с ней видимо предпочитает обществу и разговору Матрены Карповны, что он не делает шагу, чтобы заслужить внимания последней, как будто не зная, какую важную роль играет она в доме; когда заметила, что учитель даже питает к ней что-то вроде невольного отвращения, которое он напрасно старается скрыть,– чувство оскорбленной гордости заговорило в Матрене Карповне. Она была очень недурна собой; ее круглое, чисто русское лицо, дышавшее свежестью и здоровьем, ее черные огненные глаза, ее стан, несколько полный, но еще не лишившийся талии, наконец вздернутый носик и лукавая улыбка, сообщавшие всей ее физиономии известную пикантность, могли нравиться не одним старикам. Многие из соседских помещиков приволакивались за ней, но никого не удостаивала она своим вниманием… Даже офицеры, стоявшие по уезду, несмотря на красивые усики некоторых из них, уходили от нее с носом. Имел, правда, успех, как носились слухи, один молодой поручик по фамилии Ляжкин, да чего ему этот успех и стоил! Целые три месяца слонялся поручик в окрестностях Еремеевки; сколько одной бумаги извел на любовные записки, в которых клялся застрелиться, если жестокая Матрена Карповна отвергнет его предложение, или застрелит Никанора Андреича… Сколько помады, духов и мыла, сколько конфект и наконец башмаков, материй на платья преподнес пламенный любовник предмету своей страсти!.. А тут вдруг мальчишка, не только не подаривший ей ни одной пары башмаков, но не сказавший ей даже ни одной любезности, осмеливается сам отвергать любовь ее, на которую она всячески ему намекала!..
«Погоди ж ты у меня, золотой кавалер! – говорила она себе.– Видно, мужнюю жену прельстить хочешь!.. Я вам обоим и с кралей-то твоей дам себя знать. И что нашел в ней хорошего, прости господи,– рожа-то точно мукой обсыпана… А милый, одно слово – милый! – прибавляла Матрена Карповна, подумав.– Уж эдакого бы соколика точно полюбить не стыдно… На что был мой Вася пригож, ну а этот, кажись, еще пригожей».
Другое лицо, возненавидевшее учителя, был Ванечка, к которому Костин был очень строг и взыскателен. Тупой и ленивый Ванечка вообще не терпел ученья. Костин никак не мог заставить его приготовлять уроки и, главное – не учить их наизусть. Сначала Костин путем коротких внушений старался отучить его от разных дурных привычек, но видя, что слова решительно ничего не действуют, прибегнул к методе взысканий, состоявших в лишении непокорного разных удовольствий; но и это также не имело результатов.
Учитель пытался подействовать на самолюбие Ванечки и часто стыдил его при младшем брате, которого ставил в образец; но Ванечка исподтишка смеялся над увещаниями Костина и после класса принимался дразнить брата, называя его бабой, который поддается учителю, и даже часто угощал его пинком. Бедный мальчик терпеливо сносил оскорбления и хоть плакал подчас втихомолку, но никогда не ходил жаловаться,– да жалобы едва ли бы к чему-нибудь и повели. У Ванечки была сильная протекция… Он всегда мог рассчитывать на заступничество Матрены Карповны и союзницы ее, старой девы Дарьи Андреевны. Но всего более возмущала Костина в Ванечке – это привычка лгать, увертываться и лицемерить. Хотя бы даже его уличили в чем-нибудь дурном, он не сознавался и выдумывал самые нелепые истории. Лгать на каждом шагу и часто безо всякой нужды ему ничего не стоило… Костину никогда почти не случалось встречать такой испорченности в таком еще молодом существе.
Впоследствии он узнал, что трудно было Ванечке не испортиться. До 14 лет жил он без всякого надзора в деревне у своего дяди, родного брата его матери, который выпросил его у Никанора Андреича, когда тот вздумал во второй раз жениться. Никанор Андреич очень рад был сбыть его с рук, живя то в Петербурге, то в Москве, никогда даже не осведомлялся о сыне. Он почему-то почел нужным даже скрывать от Анны Михайловны, прося руки ее, что у него был сын. Она узнала это гораздо позже, и на все ее просьбы взять Ванечку от дяди Никанор Андреич отвечал: «Да на кой черт его брать? Ему там хорошо. Дядя – богач, может его наследником сделать».
Но Никанор Андреич ошибся в расчете. Дядя оставил свое благоприобретенное имение какому-то побочному сыну, о существовании которого и не подозревал Никанор Андреич.
Когда до него дошла эта весть, он принялся ругать своего шурина всеми ругательствами, какие у него только были в запасе; и злобу свою выместил наконец на Ванечке, которого в первый же день приезда отодрал, что называется, на обе корки, за какую-то шалость. Экзекуция эта повторялась довольно часто и впоследствии, потому что Никанор Андреич не питал к Ванечке ни малейшей привязанности. Это могло бы показаться со стороны очень странным; но дело в том, что помещик жил с первой женой своей, как кошка с собакой, и, несмотря на свой крутой нрав, не мог до самой смерти обуздать ее. Он знал, что она ему неверна, и даже подозревал, что Ванечка не его сын… Отсюда эта нелюбовь к нему Никанора Андреича. В деревне дяди Ванечка гонял голубей и играл в бабки с мальчишками; по переезде к отцу он тоже продолжал было практиковаться этим занятием, но Никанор Андреич вздумал отучить его розгами и окончательно испортил нравственность мальчика, так что когда кто-нибудь из слуг останавливал его, говоря «папенька увидит», он отвечал: «А пусть увидит… что ж будет? Выдерет только – так мне не в диковину». Анна Михайловна, которую возмущало это обращение отца с сыном, не раз пыталась за него вступиться, но Никанор Андреич не только не обращал на ее заступничество внимания, но даже говорил ей при этом грубости.
Ванечка, однако же, не чувствовал к мачехе благодарности, а, напротив, ненавидел ее и приписывал ее влиянию жесткость отца. Причиной таких отношений его к Анне Михайловне была Дарья Андреевна, употреблявшая все зависевшие от нее средства, чтобы восстановить против молодой женщины не только пасынка, но и мужа ее. За что же Дарья Андреевна ненавидела жену своего брата, не оскорбившую ее никогда ни словом, ни делом? За то, во-первых, что та была моложе и лучше ее и что она без Анны Михайловны могла бы сама стать хозяйкой в братнином доме; а отчасти и просто по причине своего желчного темперамента, более способного к ненависти, чем к любви… Со вступлением Матрены Карповны в звание и права бариновой фаворитки улучшилась судьба Ванечки… Чего не могла над Никанором Андреичем жена, к которой он давно охладел, да которую, по правде сказать, и любил-то единственно за ее приданое,– то удалось фаворитке, успевшей совершенно взять его в руки как человека крайне сластолюбивого. И вскоре между Матреной Карповной, Дарьей Андреевной и Ванечкой образовался наступательный и оборонительный союз, удаливший бедную Анну Михайловну на второй план.
Учитель особенно вооружил против себя Ванечку одним поступком. Увидев раз, что этот юноша дернул за бороду седого почтенного старика, осмелившегося ему заметить, что нехорошо швырять палкой в домашнюю птицу, Костин, весь дрожа от злобы, бросился на Ванечку и, освободив старика из рук его, так сильно оттолкнул своего ученика, что тот упал на землю.
– Вы не смеете толкаться,– завопил Ванечка, вставая и обшлагом вытирая пыль с колен.
– Я задушу тебя, негодный мальчишка! – вскричал, подходя к нему с сжатыми кулаками, Костин.– Да знаешь ли ты, что этот человек во сто раз честнее, умнее и лучше тебя!.. Что он трудом добывает себе и семье своей хлеб, тогда как ты умеешь только развратничать!
– Да что я развратничаю… Разве вы видели?
– Я все знаю!.. Становись сейчас на колени и проси у этого человека прощенья!
– Что? Перед мужиком?.. Да вы в уме ли?..
Вместо ответа Костин подошел к Ванечке и, взяв его за плечо, стал нагибать к земле. Ванечка кричал и барахтался, но Костин был сильнее его и не выпускал его из рук.
– Проси прощенья,– говорил Костин.
– Не хочу,– задыхаясь кряхтел Ванечка.
– Оставь его, кормилец,– вымолвил старик, удивленный заступничеством Костина.– Господь ему судья…
Но Костин добился, однако ж, что Ванечка пробормотал: «виноват, не буду» и тогда уж пустил его.
Ванечка скрыл этот случай от Никанора Андреича, не вполне уверенный, что отец одобрит поступок его, тем более что он сам вызвал старика на замечание своими шалостями. Но Матрена Карповна и Дарья Андреевна тотчас обо всем узнали. Ванечка сообщил им, как учитель принуждал его просить прощенья, и тут не преминул солгать: он хвастался, что убежал от Костина, сделав ему рожу и показав кукиш.
– Это уж я не знаю, что такое,– сказала Дарья Андреевна, выслушав Ванечку.– Чтобы дворянин, помещик, да просил прощенья у мужика… Это надо беспременно до братца донести.
– Вот я при случае скажу барину,– отвечала Матрена Карповна…
– Да ты бы, Матрешенька, теперь,– торопила старая дева.
– Нет, теперь зачем, барышня? Пожалуй, Никанор Андреич ему сейчас и откажет… А про что мы говорили-то с вами… позабыли?..
– Ах, да… Правда твоя, Матрешенька, погодить нужно…
– То-то же… А я – что еще сегодня слышала!
– Что, что такое?
Матрена Карповна нагнулась к уху старой девы и что-то шепнула ей, так чтобы не слыхал барчонок, находящийся тоже при этом совещанье.
– Что ты! Ах, бесстыдница! – воскликнула старая дева, качая, как маятником, со стороны на сторону головой.– Ну, уж только! Вот она, скромность-то!.. И еще, говорят, воспитанная.
Между тем Костин сближался с Анной Михайловной… Она присутствовала иногда при уроках, которые он давал Пете,– не для того, чтобы следить, добросовестно ли исполняет учитель свои обязанности, в чем она не имела повода сомневаться, но скорей, чтобы видеть, каковы способности ее ребенка и усваивает ли он то, что преподают ему. После класса она заговаривала с Костиным, стараясь узнать его взгляд на воспитание детей вообще, спрашивала его советов относительно воспитания своей девочки, которую ей хотелось бы оставить при себе, а не отдавать в учебное заведение. Но она боялась, что и этому желанию ее, подобно очень многим другим, не суждено сбыться… Никанор Андреич был полным властителем в семье и не позволил бы Анне Михайловне ничем распорядиться по своему усмотрению. И потому бедная женщина невольно задумывалась после слов учителя и грустно смотрела на своих малюток, как бы внутренно допрашивая судьбу,– какую она готовит им участь? Часто разговор переходил на книги о воспитании; Костин рассказывал содержание тех сочинений, которые ему довелось прочесть, и предлагал ей все, что было по этой части в его маленькой библиотеке. Когда книга была прочтена, они вместе судили о ней, касаясь при этом разных общественных и религиозных вопросов. Анна Михайловна, по-видимому, любила читать и многое передумывала, оставаясь сама с собой… А оставалась она часто, потому что Никанор Андреич скучал ее обществом и находил более удовольствия в беседе с своей фавориткой или с приезжавшими к нему соседями. Но она не получила основательного образования; в том, что она читала в течение своей жизни, не было никакой системы, и романы занимали в этом чтении едва ли не самое значительное место… Но ведь и романы развивают, особенно женщин, многое угадывающих сердцем. С мыслящими и образованными людьми она мало сталкивалась и потому не привыкла к последовательному, продолжительному спору: способность к диалектике не была развита в ней; недоставало ей также смелости в суждениях, приобретаемой только посещением общества и при частом размене идей. Она не доверяла себе, боялась высказаться. Человеку, желавшему ее вызвать на откровенность, нужно было прежде всего быть добрым, не иметь ни малейшей тени педантизма и самодовольства. Костин понял это и с такою мягкостью, с таким простосердечием и отсутствием поучительного тона отвечал на ее часто детские вопросы, что скоро внушил ей полную к себе доверенность… И он увидел, что ум Анны Михайловны был хотя не обширный и не глубокий, но прямой и здравый, от которого нелепые предрассудки и светские извращенные понятия не успели скрывать истины, и смотревший на вещи ясно и просто. Костину нравилась даже ее робость, ее застенчивость, вследствие которой она никогда не говорила громких фраз или общих мест о предмете, недоступном ее пониманию. Говоря с этой женщиной, он невольно удивлялся, как уцелела она такой среди этой смрадной атмосферы Никанор-Андреичей, Ванечек и Матрен, окружавших ее.








