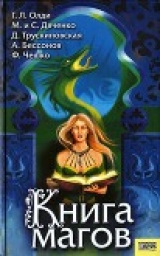
Текст книги "Книга магов (антология)"
Автор книги: Алексей Бессонов
Соавторы: Далия Трускиновская,Федор Чешко,Марина Наумова,Марина Дяченко,Владимир Пузий,Генри Олди,Владимир Васильев,Андрей Печенежский
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
– Тогда ты сказал: мне все равно, где находятся твои жорики и сколько их, плевать на все, я отсюда не уйду без тебя…
– Твой голос дрожал: многое изменилось, говорила ты, я уже не та, какую ты знал прежде, поверь, мы не должны больше видеться, я не хочу, прошлого не вернуть… а я говорил: не верю, ты не могла все забыть, ты никогда не забудешь то, что принадлежало только нам, когда еще не было челомбеев и жориков, их нет и сейчас, никого нет, есть только мы, ты и я… Ты внушила себе, что кто-то властен распоряжаться тобою, как парой очков, но это не так… Что он сделал с тобой?
– И тогда мы услышали Челомбея. Говорил он сдержанно, неторопливо – не приказывал, не угрожал, не ерничал: браво, ребята, уж теперь-то вы меня растрогали до слез. Мысленно аплодирую вам, самое важное, без чего вы жизни не мыслите, – сошлось, состоялось, слепилось. Единственный вопрос: что дальше?.. Демоны забытых кварталов терзают мое воображение наиболее вероятным финалом. Ход, которого ждали все: я отдаю вас жорикам на потеху. Безотказные твари, они не ведают сомнений, им только крикни: ату! – и у принца уже руки заломлены, но его не уводят прочь, пусть созерцает сцену животной ненасытности похотливого отродья!., принцесса без очков, грязные пальцы раздирают ей веки, и жорики поочередно пьют ее глаза, до капли, до последнего проблеска жизни… Впрочем, меня подобный вариант почему-то уже не заводит: все дружно умерли, мерзавец Челомбей заскучал и покинул сцену, занавес опустился – какой в том интерес? Я просто покидаю сцену. Не беспокойтесь, жорики последуют за мной, никто даже не посмотрит в вашу сторону. Даже не знаю, чего пожелать вам напоследок…
– Послышались его затихающие шаги, потом ты сказала: мы еще успеем догнать его. Я схватил тебя за плечи к крепко прижал к себе: молчи, молчи…
– А я сказала: неужели ты ничего не понял? Так уходят востребователи, он потерял интерес к нам, мы снова оказались ни при чем… Ты пытался образумить меня: теперь никто не разлучит нас, это главное, пойми, никто и никогда, ни: кто нам не нужен, мы остаемся…
– Ты медленно сняла с себя очки: с чем остаемся? с этим? Он не сразу осмелился взглянуть на нее – без затемненных стекол, глаза в глаза. Когда же их взоры соприкоснулись, он увидел блеклую, выцветшую поверхность крашеной фанеры, густо забранную узором трещин… Вот что оставляют после себя челомбеи. Или востребователи?
Он отбросил солнцезащитные очки в сторону и, не щурясь, посмотрел на солнце. Беспросветная бездна открылась ему…
Время спустя залетный востребователь споткнется о кусок обгоревшей фанеры, подберет поблизости оплавленные очки и вдруг потеряется в догадках: неужели и этот материал подвержен феномену самовозгорания? С чего бы вдруг?
Невероятно. Непостижимо. Нонсенс…
Вечерние рандеву
Урок подходил к концу. Напоследок умная стерва сказала детям то, что всегда говорила напоследок. Она сказала:
– Можете не напрягать свои извилины, бесполезно напрягать то, чего нет. Вы все – фанерные болваны. Со временем многих покоробит, вы рассохнетесь, расслоитесь, превратитесь в мусор. Сотворили вас для того, чтобы вы беспрекословно подчинялись тем, кто вас сотворил, и все вы пребудете послушными никчемными идиотами только потому, что именно для этого вас и сотворили. Ну-с, кому что непонятно?
Дети безмолвно внимали словам учительницы. Вообще она умела держать аудиторию, и уроки проходили в идеальной, гробовой тишине. Умная стерва любила свой класс, и класс, по всем признакам, обожал свою классную даму.
Она была необыкновенно умна и ничего не скрывала от учеников, валила правду-матку прямо на их фанерные головы. Некоторые из этих голов не выдерживали, другие держались дольше – об этом учительница тоже любила поговорить, и говорила с удовольствием, сверкая темными зрачками и потирая руки. Среди урока она подходила к щуплой девочке с косичками, гладила ее по голове: жемчужина моя, у тебя на лбу появилась трещинка, уж не считаешь ли ты, что эта траншея украшает твой фанерный лоб? Девочка понимала, что виновата, а трещина с каждым днем становилась все выразительней. Скоро у тебя голова расколется, прелесть моя, трак – на две половинки, на том и кончится твое безоблачное детство, неужели твои родители ничего не видят? – не дожидаясь ответа, умная стерва красочно повествовала учащимся о том, что иные родители – хуже фанерных, и самые страшные трещины язвят сперва сознание человека, а те, что проявляются на поверхности, – это уже следствие причины. Любой родитель был бы только рад избавиться от вас, вы для них – обуза непотребная, вот и делайте выводы. Любите своих папочек и мамочек, подыгрывайте им, гордитесь ими – пока они вас не отволокли на помойку!..
Прозвенел звонок. Умная стерва собственноручно отворила дверь, сказала презрительно:
– Живо разбирайте своих вундердаунов. Они у меня уже в печенках сидят.
Родители заходили в классную комнату, лавировали среди парт, узнавали своих отпрысков, забирали их домой. Уносили, кому как было сподручнее, – кто нес под мышкой, кто грубо волок, а сквалыга – тот приходил с заплечными ремнями на голом теле и уносил свою деточку на спине.
– Как он (она) сегодня? – спрашивали учительницу.
– Да ничего хорошего, – отвечала умная стерва.
– Вы с ним (с нею) построже! – следовала просьбица.
– Мы с вами находимся не в исправительной колонии. Это школа. Строгости здесь регламентированы. И больше не просите от меня того, чего я дать никак не могу.
– Очень жаль, что строгости регламентированы.
– Уж это как вам угодно.
Классная комната пустела. Вскоре за партой оставался единственный ученик, рябой неряшливый паршивец, которого забирали поочередно то хитрая бестия, то мрачный обольститель. И всегда запаздывали. Когда являлся обольститель, учительница не бранилась, не стервенела, а испытывала сладостную истому и насилу сдерживала себя, чтобы не кинуться такому мрачному, но такому обольстительному мужчине на шею и там, на шее у него, повиснуть навечно, а на все остальное – плевать с пожарной колокольни. А это, как бы там ни было, – самое высокое строение в городе!
Но пришла она, не он. Хитрая бестия, хитрее не бывает.
– Сегодня у вас такая миленькая прическа! – улыбнулась она, заплывая в класс.
– Вы тоже сохранились на удивление! – не осталась в долгу стервоза, которую не зря называли умной, ибо она при любых обстоятельствах была себе на уме и могла бы дать фору всякому, кто отважился бы умничать, целясь в ее сторону.
Бестия подплыла к ней, и они расцеловались совсем по-родственному. Была у хитрой бестии такая отвратительная привычка – лобызаться с кем попало. И губы у нее были влажными и холодными, как у жабы болотной.
Не скрывая отвращения, умная стерва сплюнула.
– Мальчик уже осоловел, дожидаясь вас.
– Да ничего ему не сделается, – отмахнулась бестия, покачивая бедрами.
– Вы его совсем запустили. На кого он похож? Пятна на щеках, одежда смазанная.
– Он попал под дождь.
– Придумайте что-нибудь более правдоподобное.
– Чем же вас дождь не устраивает?
– Решили уверить меня в том, что имеете доступ в северные районы города?.. Впрочем, даже это не причина. К внешнему виду учащихся предъявляются определенные требования. Скоро его перестанут пускать на порог школы… Сами таскаетесь черт знает где – и ребенка туда же.
– Я же сказала: он был под дождем, промок и все такое.
И не ваше собачье дело, где мы выгуливаем ребенка после жутких занятий в вашей гадской школе.
– Хороша родительская забота! Вы, милочка, помолчали бы про нашу гадскую школу, а то как бы не случилось так, что ваш оболтус вовсе без образования останется.
– Ишь, образованная выискалась! Будто меня кто-то спрашивал – хочу я детей или нет! Своих заведи, поглядим на академиков без сучка и задоринки!
– Интересно, где были твои мозги, когда ты этим занималась?
– Ты хоть представляешь, о чем говоришь? С какой стороны у мужика хобот свисает – представляешь?
– Бестия!
– Сама ты стерва! Глаз на моего положила… или нам, шибко образованным, сразу самого востребователя подавай? Уж он тебя приголубит-обласкает, кошка драная! Педагог – согнула рог… Что?
– Что «что»? Мамаша – подгорела каша…
И обе, притомясь, утихли на время.
– А ведь наверняка востребователь наш – уродец. Как думаешь? – спросила хитрая бестия потухшим голосом.
– Шастал такой слушок. – Умная стерва покопалась в сумочке, достала сигареты. – На самом деле этого никто не знает. А если и знают – не выдадут. Конкуренция кому нужна? Каждый норовит подстеречь и подставиться попригляднее, а там хоть трава не расти.
– Она и не растет.
– Бывай, подруга.
– И тебе не рассыпаться.
В школьном дворе томился ожиданием мрачный обольститель. Завидев учительницу, он приосанился, сверкнул левым глазом – правый отчего-то побаливал, чесался. Умная стерва чуть замедлила шаг: какой же он все-таки мрачный! И такой обольстительный…
– Вечер добрый, – бархатистым баритоном пророкотал он, изготовясь тут же подхватить учительницу, сбитую с ног волной обольщения.
– Что уставился, говнюк? – отвечала она, попыхивая сигареткой.
И миновала обольстителя довольно-таки ровной поступью. «Стерва!» – подумал он, провожая ее взглядом мрачнее обычного. Но умна же, дьяволица! В шахматы с ней, что ли, сыгрануть?
Хитрая бестия вышла на порожек школы, имея при себе бумажный рулон внушительных размеров. Стало ясно, что отпрыск и сегодня заночует в классе, что-то вроде дополнительных занятий, продленка. Бестия сунула рулон обольстителю, который принял поклажу беспрекословно, обеими руками прижав к груди. По улочке они перемещались быстро, мрачный обольститель едва поспевал за супругой.
– Что в обменке? – на ходу поинтересовалась она.
– А что там может быть? – беззаботно хмыкнул обольститель. – Четыре стенки, потолок, кто – приволок, кто – уволок…
Она резко остановилась и посмотрела на него так, как может посмотреть только хитрая бестия, если ее разбередить как следует.
– Фольклор Забытых кварталов – это хорошо. Но это не совсем то, за чем я тебя в обменку посылала. И давай без этих твоих мрачностей и блестяшек на глазу. Итак?
Со слов обольстителя, обменка сегодня была, что называется, ни вашим ни нашим. Прожигательница жизни пала ниже некуда, за нее предлагали от силы 0,7 щеголих, пустышка с претензиями неожиданно уравнялась с женщиной без эмоций, тайные грешки спускали по дюжине за божий одуванчик, ограниченных натур не выставили ни одной, зато ложного чувства собственного превосходства было как сена после покоса – куда мы катимся? Чего нам завтра ждать?
– Ну, ты ходок! – Хитрая бестия покачала головой, улыбнулась бесхитростно, с горечью. – Ты там без роздыху баб консультировал? Не переутомился ли, не переусердствовал?
Обольститель обиделся, полыхнул левым глазом и густо помрачнел.
– Про мужские лоты дома поговорим… И позволь узнать наконец: что это мы с тобой из школы умыкнули?
– Одолжили, котик, одолжили. Разверни – увидишь.
Он развернул рулон, пригляделся к красочной таблице, мотнул головой, как теленок, отгоняющий назойливых мух.
– Пока домой доберемся, – сказала стерва, – припомни, будь добр, почем сегодня уходили «химики по жизни»?
– Химик по жизни? Таковских ни одного не приметил.
– Неужели? Раньше их было, что селедок в бочке. Значит, не сезон. В дефиците, значит. А если так…
– Уж не собираешься ли ты… Но позволь, я даже слышать не желаю!
Возмущался он довольно вяло, семенил за хитрой бестией, точно шавка на поводке, и говорил все больше оттого, что не мог, не приспособлен был сопутствовать даме бессловесным букой. И говорил он про исключительные особенности своего амплуа, про фикции рыночных котировок, про всеобщий депрессняк и разброд, про то, что из мрачных обольстителей ему прямая дорога в дамские угодники либо в редкие брильянты, в гордые ревнивцы на худой конец, но – химия по жизни… что у них общего? Не успеешь в обществе предстать, а всем уже известно: химик по жизни, точка, вынос тела… И к чему тут какие-то таблицы, если химией по жизни занимаются без всяких пособий и справочников? Хитрая бестия внимала благодушно: умница, все-то ты знаешь, погоди чуток, мы в тебе такие таланты высвободим – обменка городская обзавидуется. Мрачный обольститель да к тому же – химик но жизни… сказочная многослойность натуры!
…Иной востребователь заплутает среди кварта нов, наведается мимоходом в обезлюдевшее к ночи заведение и вдруг обнаружит в гулком классе одинокого горемыку: потрескавшийся пацаненок за исполосованной перочинными ножичками партой думает о чем-то своем, притаенном столь глубоко, что и экскаватором не докопаешься.
Постоит востребователь над ним (здорово живешь, академик сопливый!) да тихо так, на цыпочках, уберется из помещения на свежий воздух, весьма довольный собою.
Материал в Забытых кварталах и впрямь ни на что не пригоден, бросовый материал, уже никакая пересортица, похоже, положения не исправит, но вот что славно, что подогревает настроение: то, что сам востребователь никогда и ничему не учился. Не потому ли и благоденствует теперь в востребователях, по любым кварталам гоголем в охотку разгуливает, присматривает, перебирает, что понравится, сам себе командир, – а не торчит в дурацких классах пустышкой несуразной?
Они, фанерные, стараются до расслоения – и без толку, куковать не перекуковать им в пропащих, в то время как он… – и уходит довольный востребователь в ночную темь забытого квартала, беззаботно насвистывая. И вскоре растворяется, исчезает в ночи, будто и не появлялся вовсе…
Посиделки
Подойдя к своему домику-развалюхе, человек без царька в голове вдруг обнаружил, что домик этот называть своим, пожалуй, уже не стоит. Взамен занавесок приятной золотистой расцветки висели на окнах отвратительные зеленые, а на крыльце валялись чьи-то стоптанные башмаки, и цветочная клумба была перекопана и, приходится думать, засеяна сызнова.
Человек без царька в голове присел на кособокую скамейку, которую прошлым летом сколотил собственноручно из бросовой доски, и загляделся на улицу. Идти ему было решительно некуда – негде стало ему голову приклонить да от дождя укрыться, если бы дождевая облачность, напрочь зависшая над северными кварталами, внезапно переместилась бы южнее. Хлопнула входная дверь, на крыльце показался горе-мужчина.
Выглядел он совершенно по-домашнему: из одежды на нем виднелись лишь майка и трусы. Был он тощ и волосат и аж светился удовольствием по случаю заселения временно пустующей жилплощади. Он сунул ноги в башмаки, прошлепал по дорожке мимо бывшего домовладельца, постоял возле калитки, двинулся обратно в дом, но, поравнявшись с человеком без царька в голове, остановился, изобразив на лице бурное, многослойное удивление.
– Какими судьбами, Михальчик?
– Вот, – сказал человек без царька в голове, по прозвищу Михальчик, – домой, блин, пришел.
Горе-мужчина заинтересованно повертел головой.
– Домой – это куда же – домой? – Самосел участливо покивал, подсел к Михальчику. – Да-a, положеньице у тебя Была у человека крыша над головой – и нет у человека крыши над головой. Сколько ж ты отсутствовал?
– Часа три, наверное, – сказал Михальчик.
– Видишь, как оно повернулось? Всего три часа – а шустрым людишкам и этого хватило. И ничего ты им теперь не сделаешь. А ты на улице остался. А все потому, что без царька в голове. Собаку надо было завести, волкодава. Или жену, чтоб дома сидела, пока ты по городу шляешься. Моя дура и на порог никого не пустит в мое отсутствие. Такие дела. Ты когда последний раз постель менял? Моя бесподобная как зашла – за голову схватилась: постели, говорит, несвежие, как же нам, говорит, спать на таких постелях? Я ей говорю: человеку, предположим, некогда было с тряпками возиться, возьми сама поменяй, – а она мне: дай мне новые наволочки, новый пододеяльник дай, простыню… Совсем бабенка на курорт отъехала! Откуда ж у меня, горе-мужика, такие принадлежности? А бельишко на кроватке и правда того-с, запашок от него, прямо скажем, не ахти-подвинься. И серость на нем какая-то. Теперь либо стирку затевать», либо картошку чистить. Так на кухоньке и ножа приличного не нашлось. И картошку ты всю заточил, добрым людям подкормиться нечем. Что ты за человек такой? От тебя ж – сплошной убыток! Половицы под ногами проседают, стены потрескивают, форточка в раме намертво застопорилась… Где ты, интересно, целых три часа филонил?
– В обменке, где ж еще…
Горе-мужчина ляснул себя по коленкам.
– А без царька в голове уже никак не греет?
– Ну-у, что тебе сказать…
– И были варианты? Присмотрел что-нибудь? – допытывался горе-мужчина, которого многое донимало по жизни, но при этом абсолютно все устраивало.
– Предлагали законченного кретина и ходячую клинику.
– А ты?..
– Сказал, что подумаю. Все сразу окрысились на меня: долго будешь думать – мохом порастешь… Ты не в курсах: ходячая клиника – это когда тебе постоянно нездоровится или когда от одного твоего вида все вокруг температурить начинают?
– Да-а, сплеча в таком деле рубить – только руку вывихнешь. – Горе-мужчина поскреб ногтем давно не бритый подбородок. – В гости тебя, что ли, зазвать? Так ты ж без презенту, и картошки в доме нет… вот и расскажешь, что еще в моем хозяйстве искать бесполезно, чтоб я зря по сусекам не рыскал.
Поднялись на крыльцо, горе-мужчина скинул башмаки, жестом предложил Михальчику проделать то же самое.
– Моя– аккуратистка без равных, за лишнюю пылинку удавит, – подумав, горе-мужчина оглянулся и шепотом прибавил: – Или сама удавится…
В тесной гостевой половине развалюхи Михальчик обнаружил кардинальную перестановку: круглый столик на расшатанной ножке стоял теперь не справа от окна, а слева, три хлипких стула были приставлены спинками к столу.
– Располагайся, коли не шутишь, – небрежно бросил горе-мужчина гостю. – А я вот так люблю…
Он оттянул на себе трусы, прихлопнул резинкой, воскликнул: понеслась, родимая! эскадро-он, рысью-у! арш-арш!.. – и с прискоком оседлал один из стульев, задрыгался на нем, имитируя кавалерийскую единицу в атаке.
– Пока мы с моей… жилплощадь себе вынюхивали… я всякий день планировал… вот как обзаведусь хоромами – буду в одних трусах ходить… кому какое дело, как я в собственной фатере экипируюсь?.. А хоть и без трусов – кому какое дело!..
Не успел Михальчик опуститься на краешек соседнего стула, как вынужден был снова привстать, потому что в этот момент из спальни выступила женщина: в короткой тунике приятной золотистой расцветки, модные дюралевые сережки на ушах, на носу – изящная бельевая прищепка. Ни дать, ни взять, ни по почте выслать – богиня греческая во плоти. Не замечая Ми-хальчика, она без малейшего усилия прекратила скачки, потребовав от своего горе-мужчины полкило воску.
– Правильно! – почему-то обрадовался тот. – Я ж за воском пошел, а тут на скамейке Михальчик… Это Михальчик, без царька в голове. Надо бы на стол чего-нибудь придумать, гости все-таки.
– Совершенно нечем дышать, – сообщила женщина, направляясь обратно в спальню.
– Видал? – Горе-мужчина дернул Михальчика за рукав. – Столько времени живу с ней бок о бок, а до сих пор не разгадал, кто она такая… Не успели обжиться, лампочки проверить, чайник поставить не успели – она меня за воском посылает. Решила вылепить фигурку восковую, а потом колоть ее иголками, Лезвием полосовать, словом, всячески поиздеваться… Колдунья! Хы, Михальчик, никогда не женись на колдуньях, воску не напасешься!
Михальчик с перепугу побледнел.
– На кого она колдует?
– На востребователя! Как начнет его от колдовству, корежить, выворачивать и плющить – мухой прилетит развраться. А то все ждут его, ждут…
– Так вот, насчет запашка-с. Некоторые соображения имеются, – обозвался вдруг откуда только такие берутся, по прозвищу Селиван.
– Оба-на! – горе-мужчина развел руками, пальцы растопырил так, будто взвешивал огромный арбуз. – И давно вы тут соображаете на пару? – он стрельнул взглядом сперва на Селивана, потом на занавеску, отделявшую спальню от гостевой. – Не из кладовки ли высыпался, добрый молодец? Михальчик, ты видал? В нашем доме есть кладовка?
Должно быть, от порыва ветра домишко вздрогнул, стены заскрипели протяжно, женщина в тунике снова показалась на публике, буквально взмолилась, заламывая руки: вас теперь много, сделайте же что-нибудь, воска нет, картошка кончилась, запах в спальне – точно на конюшне! – и упорхнула обратно в спальню.
Мужчины выдержали паузу, первым очнулся Селиван:
– Я насчет запашка-с…
– Насчет этого чуток погоди, – не позволил ему договорить горе-мужчина. – Выясним сперва, откуда такие берутся, потом про запашок-с поговорим.
– Да я же за вами следком подоспел! Как замыкающий процессию…
– И в кладовке не прятался? Не соображал тут с нашей девушкой?
– Да нет же! – Видно было, что Селиван сейчас попросту расплачется. – Я исключительно насчет запашка-с! Не виноват я, что меня до поры никто не замечает, а потом вдруг заметят – и давай возмущаться. Или за сердце хватаются, валидола требуют…
Селиван и сам не понимал, каким же предательским образом постоянно оказывается там, где его никто не ждет, а всяческие подозрения спешил нивелировать известной байкой про четвергового слушка. Что-то было в этих россказнях умиротворяющее, глаза у слушателей увлажнялись, забористый квас шипел по кружкам и пенился – слушать про четвергового без квасу было никак невозможно.
В следующий четверг, в период времени с 17:00 до 18:00 – ни раньше, ни позже! – в забытые кварталы прибудет на смотрины востребователь; всякому заинтересованному лицу надлежит без суматохи, сквернословия, толчеи и подножек зарегистрироваться у выборного старосты на центральной площади и, по мере надобности, демонстрировать себя по сути, без выпендрежа, манипуляций и ложных прикидов; нарушители будут решительно изгоняться к чертовой бабушке, а впоследствии приданы всеобщему остракизму. Слушок о грядущем посещении был верткий, пронырливый, доставучий – мотался по дворам без устали, умел делать стойку на задних лапах, при случае повизгивал преданно и все норовил башмак лизнуть. Его полюбили, всячески баловали его и подкармливали вкусненьким, судачили о нем и ждали от него немалого приплода… В четверг, ровно в 18:00, когда, по обыкновению, ничего порядочного не случилось и непьющие тихони в который раз потерянно разбредались по домам, а задиры, изрядно подогретые квасом, демонстрировали на площади нечто вроде праздничного гульбища до упаду, – слушок четверговый незаметно подох на задворках, только его и видели. Вместо него ползала теперь, прихватывая за ноги, нечесаная похотливая тварь: слух о распространении слухов.
– Ну и?.. Воняет-то что? – Горе-мужчина расчувствовался не хуже Михальчика, неопределенная женщина беззвучно орошала слезами свою тунику приятной золотистой расцветки.
Селиван шмыгнул носом, крякнул, погрел ладонями чашку с квасом.
– Никто же не признается, да и подзабылось уже… Четвергового наверняка схоронили где-то поблизости. Может, прямо в помещении, в подпол его, чтоб далеко не ходить. Да прикопали скупо, наспех… Отсюда и духман. Предположительно. – Откуда только такие берутся шумно отхлебнул из чашки, причмокнул, все более впечатляясь собственной небылицей. – Надо строение по кирпичику, по щепке перебирать. Когда надумаете – зовите непременно Казимира, он задень управится. Либо прямиком к востребователю, с претензией: что ж ты, подлое твое призвание, так долго собирался? До полного разложения нас довел… Давай, оправдывайся перед нами, мы послушаем!
Уж как он стал бы оправдываться, изворачиваться, вилять, и никакие доводы его не имели бы сочувственного отклика, когда бы очутился он в эту минуту здесь же, на гостевой половинке развалюхи. В спальню его отвести – и до утра держать взаперти! Пущай подышит всласть, пущай мозги прочистит!.. Ух, я бы его укатал!..
Востребователь даже не догадывался, насколько повезло ему: домишко для посиделок остался где-то на отшибе, о чем не ведаешь – того как будто и не существует. Сам же востребователь в эту минуту стоял на ближнем пустыре и задумчиво вертел в руках оплавленные солнцезащитные очки.

Андрей Печенежский
Мальчишка в доме
7. Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам.
25. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне.
От Матфея
Святое благовествование. Гл. 7
Теперь я должен уйти, и за дверью меня ждет уныние.
Отец ничего не говорил об этом, и никто, никто не говорил, и я не знаю, отчего это стало для меня так важно – покинуть Дом, но сколько бы я ни думал об этом, сколько бы ни отстранял решительную минуту, а все равно мне нужно будет уйти.
Быть может, я уйду сегодня вечером или сейчас; или пробуду в Доме еще ночь, уверенный в том, что и этот срок ничего не изменит, и потом открою дверь и уйду без оглядки; и Дом исчезнет, растворится в потоках Серого ливня.
И что будет после ухода, я тоже не знаю; и вероятно, что мне уже никогда не выпадет приблудиться к дому снова, даже если я очень этого захочу.
Но я должен уйти, и я уйду, пусть это глупо и страшно.
Вот только вспомню еще раз, еще разочек – и еще раз погуляю по его комнатам, послушаю скрип его половиц; лишь один-единственный раз…
Тот замечательный день; в тот день мы поднялись на холм, и там я увидел деревья.
Похоже, это был настоящий лес.
Сперва неясные, угрожающе разлапистые силуэты вдруг начали проступать из поредевшей дождливой мороси; мы приблизились, и это действительно были деревья.
– Добро, – сказал отец. – Здесь мы отдохнем.
– Только ты не оставляй меня, – попросил я.
– Ладно, сынок…
В это время небо опять прорвало: Серый ливень столбами зашатался по лесу, в отдалении ударил гром.
Мы присели к стволу безлистого дерева; водяные столбы, наступая, гнули и трясли деревья, и ветви, каким бы густым ни казалось их сплетенье, были плохой защитой от Серого ливня.
Когда мы подсели к дереву, там уже был один человек; он скрючился, колени поджал к самому лицу, покрытому капюшоном, и был совершенно неподвижен; он не мешал нам, и мы не мешали ему.
– Славный лесочек, – сказал отец, чуть приподняв край капюшона.
– Почему мы не можем здесь остаться? – спросил я.
– Ты хочешь здесь остаться?
Отец глядел на меня, и я видел, как по его черной густой бороде струилась вода; я ничего не ответил, потому что очень трудно выразить словами, чего ты хотел бы по-настоящему, когда усталость вытянула все силы.
Так мы оба примолкли, сидели и слушали хлесткую поступь Серого ливня.
– Только ты не уходи никуда, – сказал я, сдерживая слезы.
– Ты же все понимаешь…
Теперь он смотрел вглубь леса, а там все те же размытые Серым ливнем пятна деревьев словно играли в прятки – то проявлялись на миг, то вновь пропадали, и не было в этой игре ничего необычного; не знаю, почему он так долго смотрел на лес, хотя это и был настоящий лес, в котором можно передохнуть в пути и в котором всегда чувствуешь себя лучше, чем где бы то ни было.
– Я скоро вернусь, а ты постарайся уснуть – сказал отец, поправляя капюшон. – Я буду считать деревья от этого места. В хорошем лесу бывают хорошие лагеря. Я буду считать от этого дерева, а ты не бойся и постарайся уснуть…
Он встал, а я тотчас закрыл глаза и колени подобрал повыше – наподобие того человека, который облюбовал дерево первым; похожанин не шевелился по-прежнему, но я услышал его приглушенное бормотание, как только отец зашагал прочь по опушке; должно быть, он спал и жаловался на что-то во сне…
Тогда мы были, как все похожане: отец носил огромный серебристый плащ, укрывавший его почти до самой земли; у меня был плащ поменьше и тоже серебристый; мы кутались в них днем и ночью.
В пути похожане редко собирались вместе, еще реже видели они лица друг друга; капюшоны плащей вечно бывали надвинуты, и люди передвигались, сосредоточенно поглядывая под ноги, на твердь земную – на то, что принято было так называть.
Земная твердь; она раскисала и уносилась потоками воды в болотистые низины; она то липко захватывала, то лежала ускользающей слизью, и она не умела подолгу хранить наши следы; мне часто казалось, что нескончаемый поход, в который мы вовлечены по прихоти таинственного замысла, является как бы частью этих беспрестанных перемещений – того, что называется твердью, воздухом и водой; Серый ливень трудился давным-давно и все не иссякал; он тщательно разжижал, сминал и размазывал, больше ни о чем не заботясь; и другой земли я не знаю.
Мы останавливались в лесах и спали, обседая стволы деревьев; если к чему-нибудь прислоняешься, почти всегда возникает ощущение уюта.
Однажды я видел в лесу костер, но к нему было не протиснуться; помню трепыхание красного огонька – будто затухающее, вот-вот останется лишь дымный пепел; серебристые плащи безмолвно заслоняли это маленькое чудо; мне и сейчас невозможно понять, из чего тот костерок был сложен, – неужели грязь и мокрая кора способны гореть? И от чего они могли быть зажжены?
Обычно, когда нам случалось набрести на скопление похожан, отец оставлял меня, бывало, что и надолго; он говорил: «Здесь должна быть какая-то работа» – и раньше я спрашивал, что такое работа, и предлагал пойти с ним; я думал, что смог бы делать все то, что принужден был делать он; отец только посмеивался: «Ты обожди, сынок, еще успеешь, это никуда от тебя не денется, ты обожди пока…»; и я ожидал терпеливо, и тогда он приносил что-нибудь съедобное; он говорил: «Ешь, это хлеб» – и я с жадностью поглощал глинистую массу, пахнущую костерным дымом; или он говорил: «Ешь, тебе надо подкрепиться, это вкусно, вот попробуй» – и я послушно жевал какие-то листья и корешки, и это действительно было вкусно; сам отец тут же засыпал, и водопад Серого ливня грохотал, грохотал по нашим плащам, отпугивая сны…
Вернулся он незаметно; просто я открыл глаза, а он уже был рядом, сидел, сутулясь, и мелкая дрожь пробегала по складкам его плаща – то ли от тяжести водяного сева, то ли оттого, что отец здорово озяб.
Он умел чувствовать мой взгляд и спросил, не поворачиваясь:
– Проголодался?
– Ничуть, – возразил я, удивляясь правдивости слова.
– Знаешь, я ничего не нашел, – с усилием в голосе сообщил он. – Такой славный лес, и ни души…
– Но я правда не голоден!
Он не поверил мне, но он не мог ничего поделать.
– Я решил было пойти дальше и побоялся заблудиться, – сказал он. – Если ты отдохнул хоть немного…
Он повернулся ко мне и потеребил рукав моего плаща; быстро темнело; его лицо теперь почти не выделялось из теневого провала под капюшоном.
– Как дела, сынок? – спросил он все еще виноватым голосом.
– Пойдем. – Я махнул рукой, указывая направление; в сущности, нам было безразлично, куда идти; но не успели мы сделать и пяти шагов, как мягкое, коротко оборвавшееся движение заставило нас оглянуться – похожанин, мирно соседствовавший с нами под деревом, лежал, неудобно запрокинув голову; холодные розги Серого ливня хлестали его открывшееся лицо, и что-то жуткое до тошноты было в этом его положении.








