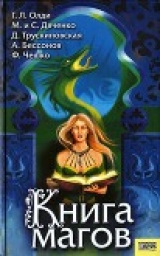
Текст книги "Книга магов (антология)"
Автор книги: Алексей Бессонов
Соавторы: Далия Трускиновская,Федор Чешко,Марина Наумова,Марина Дяченко,Владимир Пузий,Генри Олди,Владимир Васильев,Андрей Печенежский
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Глупо, как глупо было надеяться, что прошлое ожило, лишь чтобы напугать и оставить в покое! Ничто еще не кончилось – это только начало.
Страшный рывок за ноги швырнул Олега навзничь в траву – будто выдернули из-под подошв землю и будто она принялась тяжело проворачиваться под упавшим, царапая ему лицо жесткими стеблями. Упираясь кулаками, напрягшись до хруста в костях, Олег сумел изогнуться, увидеть: то, крылатое, появившееся первым, уже здесь. Вцепилось зубами в Олегову тень, урчит, упирается, тащит за нее, как за продолжение ног – обратно в часовню… А потом окружающее вдруг полыхнуло в глаза неистовым пламенем, рассыпалось искрами и погасло.
* * *
Обморок продолжался недолго, но когда Олег снова обрел возможность видеть и понимать, поблизости уже не было ни крылатого волка, ни вынырнувшего из болота ящера.
И Ксюши не было.
А были стены часовни вокруг, земляной захламленный пол, полумрак, знобкая сырость – и все. Так может быть, только что пережитый ужас – просто нелепый сон?
Нет.
Олег не смог бы объяснить, откуда оно взялось, это ясное осознание реальности произошедшего, – просто оно пришло и не оставило ни надежд, ни сомнений в своей безошибочности. Что-то еще должно было произойти; что-то, к чему случившееся было только прелюдией.
Олег торопливо забарахтался: встать, успеть встретить назревающее так, как подобает человеку встречать судьбу. Стоя. Но он сумел только приподняться и сесть, привалившись к стене. На большее не хватило ни сил, ни времени.
Теперь страшное случилось с полом.
Почти посредине часовни вспучивался округлый бугор, будто что-то прорастало там, рвалось наружу, и спрессованная щебнистая земля в треске и стоне медленно поддавалась этому настойчивому стремлению.
Вот бугор лопнул, разбрасывая обломки кирпича, комья глины; и из вершины его выпятилось непонятное, заостренное, будто бы впрямь непомерный росток проклюнулся.
Росток…
Тяжкий островерхий шлем, а под ним – усатое лицо с резкими недобрыми чертами, с залитыми чернотой ямами вместо глаз… И вот уже весь отягченный непомерными мускулами да обильным вооружением идол встал, вознесся шишаком к неблизкому потолку. Часовня невесть откуда наполнилась запахом гари и едким дымом. Кашляя, задыхаясь, утирая слезящиеся глаза, Олег следил, как дым этот струйчатым саваном обвивает идолище, как втягивается в многочисленные щели, исчертившие его черное, словно обугленное тело и оно на глазах светлеет, наливается цветом и крепостью вымытого влажными ветрами древнего дерева. Все четче проступали подробности тонкой резьбы, уродливый нарост у подножья оформился в прижавшуюся к ногам божества давешнюю крылатую тварь, и воздух снова стал чистым.
А потом с гулом лопнула стена в дальнем углу и неведомая сила выбросила из-под нее три белесых каменных глыбы. Они тяжко прокатились по полу, сами собой сложились, образовав голову виденного Олегом в болоте пучеглазого ящера. Сложились не прочно – видно было, что многого не хватает.
Смутно, муторно было Олегу. Страх, казалось, уже навсегда въевшийся в душу, ненасытным клещом высасывал нищающий мыслями разум и вместе с тем наполнял его новым, каким-то беспричинным знанием сокровенной сути происходящего.
Олег знал (не предполагал, не догадывался, а именно знал), что деревянный кумир – это Перун; что был он в незапамятные времена повален, сожжен и сброшен в яму, ставшую потом фундаментом часовни. Знал: Перуновы глазницы пусты потому, что два огромных рубина – очи идолища – были украдены ниспровергшим его священником. Знал: священник этот погиб, когда в едва достроенную часовню с безмятежного утреннего неба ударила карающая молния – ударила и сожгла во мгновение ока (в те времена древние боги были еще достаточно сильны искренней верой, чтобы повелевать стихиям).
А еще Олег знал, почему приник к ногам Перунова идола Переплут; и что кроме этого, деревянного, были здесь и каменные идолы – тоже знал. Идолов этих раздробили и ввергли в болото…
Нет, не так.
Болото тогда было озером. Но ко времени строительства новой часовни оно усохло, исторгло из вод своих останки былых богов, и те, что покрупнее, заложены были в фундамент да стены – не из-за нехватки камня, а в знак торжества над старым. В том числе и останки этого ящера… Ящера? Ну да, ведь это и есть имя его – Ящер!
А еще Олег знал, почему он все это знает. Потому, что снова глядело на него из стены все то же лицо… Да нет, не одно оно там, их много, вот только трудно уловить, распознать, понять. Они изменчивы, они смутны.
Хмурый лик, недоступно пониманию глядящий на все четыре стороны света разом, и множество меньших, которые ниже, которые совсем не похожи на него, но – одно целое с ним… Не бывает так, этого же быть не может!
Но вот – есть…
А незримое присутствие Ксюши все явственнее. Неровное трудное дыхание, жалобные стоны-всхлипы – знакомые тревожные отзвуки ее нередких безрадостных снов… (Снов? Не в ее ли сне оказался он, промчавшись сквозь бесплотную нежить?)
И что-то еще.
Нет, это не звуки, это словно поднимается из самых глубин души, измочаленной страхом за Ксюшу и за себя. Голос? Или
голоса? Голоса.
Слитные и согласные. Крепнут, завораживают, подчиняют, вопрошают сурово и властно, и нет сил ни промолчать, ни спросить о своем…
– ДОСТАТОЧНО ЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ ТЕПЕРЬ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ГЛАВНОЕ?
Главное…
Олег понял уже, какие силы властвуют над Ксюшей и ним в эту ночь, но это ли главное? Может, и нет. Тогда что? Они ждут чего-то, на что ради Ксюши должен решиться Олег. Ждут. Не хотят объяснить, хотят, чтобы догадался сам. Чего же могут ждать от него эти позабытые боги? Может быть… Да, наверное, так: боги ждут жертвы. Вот оно – главное.
– ТЫ ПОНЯЛ. ГОТОВ ЛИ ТЫ?
Готов ли Олег на жертву во имя Ксюши? Ненужный вопрос… Что у него есть ценного? Бабушкин крестик? Рассудок, зрение? Жизнь? Пусть, пусть забирают все, была бы только Ксюша жива и счастлива!
– ГОТОВ ЛИ ТЫ НА СТРАШНУЮ ЖЕРТВУ?
Да, и на это, неведомое, – тоже! Ради нее – да!
– ТЫ ВЫБРАЛ СВОЮ СУДЬБУ… ВИТЯЗЬ.
И снова окружающее метнулось в глаза яростной вспышкой, а наступившая после тьма убила чувства и ум.
* * *
Больно, больно! Гложет, выгрызает глаза нежданный свирепый свет.
А вокруг – страшное, но его невнятный образ, не успев родиться, расплывается, тонет в кровавых слезах. Оно невидимо, это страшное, но оно здесь, его выдают гул, лязг, тревожные всхрапы; его выдают холодные хваткие руки, которыми оно вцепилось в локти и плечи Олега.
Ведут. Не грубо, но властно. По колкому, плотному и упругому. Сквозь дышащее, лязгающее, всхрапывающее. Куда ведут, зачем? Да, в общем, понятно зачем. А если так, то не все ли равно куда?
Что-то тяжело и мягко ударяет в грудь, осыпается под ноги. Ступня вдавливается в ломкое, склизкое. И еще раз, и снова… Что это, что?
Как понять, если зрение съедено светом?
Свет…
Кажется или он меркнет, слабеет? Кажется. Он ведь и не был ни ослепительным, ни яростным; он был слаб и тускл; он набросился на не готовые к отпору глаза с поспешностью злобного труса, этот свет – напакостивший, но слишком немощный, чтобы вредить всерьез. И вот уже можно приоткрыть захлебнувшиеся жгучей краснотой веки. Приоткрыть и не вскрикнуть от боли. И видеть.
В слезах не было крови. Кровь была и есть в небе, ею заплывают высокие тучи – медленные, бессильные, словно безнадежно израненные покорные звери. А еще кровь расплывается бурым и алым в тяжкой, пугающе недвижимой воде озера, которое впереди; и там же, в озере, смутно скользят растерзанные туши туч. В их обреченном скольжении неуместно незыблемыми кажутся низкий островок (черный холм в луже небесной крови); утвердившиеся на нем причудливых, неясных еще очертаний столбы…
Три столба. Высокий, тревожащий взгляд своим неестественным наклоном, и два поменьше. Три четких сгустка мрака на алом. И что-то еще есть там, между ними, – низкое, бесформенное; скорее угадывающееся, чем видимое; пугающее смутно и беспричинно. Лучше не смотреть туда, лучше смотреть под ноги, по сторонам…
А под ногами – трава, упругая и густая. А по сторонам – пурпурные стены плотно сдвинутых высоких щитов, а выше – лица. Вислоусые и бритые, бородатые и гладкобородые, молодые и старые – разные. Но есть, есть в них что-то братски роднящее. Глаза. Не цвет – взгляд, в котором тревожное ожидание и надежда.
А выше, над лицами, – густой лес высоких копий. Таких высоких, что мнится: это они, достав до низкого неба, искровенили его острым железом.
Воинство. Многое множество, гулко звучащее выдохами, конскими всхрапами, бронным лязгом, могучим гудом сдержанных голосов. Непомерное чудище, копейной щетиной подпершее тучи; кровяной щелью раздвинувшее себя, чтобы пропустить в последний путь одного.
Ведут.
Сквозь многолюдье, где каждый теперь не вполне человек, потому что все они – единое. К берегу озера торжественно и неспешно ведут двое.
Длинные рубахи сероватого полотна обвисают на их костлявых плечах; перехваченные ремешками волосы сивы и скудны; белые прозрачные бороды невесомо полощутся в порывах несильного ветра; глаза старчески стекленеют в глубокой тени, копящейся под косматыми кочками бровей. Но хватка жилистых длиннопалых рук не по-стариковски прочна, а обутые в стоптанную замшу ноги шагают твердо, размеренно.
Плывут, плывут по сторонам стены щитов; и оттуда, из-за них, нет-нет, да и бросит невидимая рука букет тусклых болотных цветов, и он, мягко ударившись об Олегову грудь, осыпается под ноги путаницей вялых хрустких стеблей. И плывут, плывут по сторонам лица – суровые неулыбчивые лица воинов, пришедших Страшной Жертвой задобрить грозных своих богов для удачи в скором набеге. Набег… В чьи земли? Каким племенам ждать к себе эту железную рать? Или не племенам – временам?
Не нашим ли? Нелепая, дикая мысль, прочь, прочь!
Что будет дальше? Берег. У берега – челн, узкий и низкий.
Лишь ступив на зализанный озерными волнами серый сырой песок, Олег понял, почему так четко ощущалась упругость и колкость травы, почему вздохи людей и ветра воспринимались не одним только слухом. Он гол и бос, лишь на голове чувствуется смутной тяжестью… что? И озеро услужливо подсказывает дробными бликами отражения: венок из желтых цветов.
Ввели в челн (ледяная шершавость мокрого дерева под ногами). Кто-то вошел следом, оттолкнулся от берега, спокойными несуетными взмахами погнал долбленое дерево к черному острову, к силуэтам столбов (или колонн?), к страшному, которое между ними. И сразу – будто слитный троекратный гром обрушился позади. Под гулкий грохот щитов тысячегла-сое «Слава! Слава! Слава!» – и вновь тишина.
Олег не обернулся ни на неведомого перевозчика своего, ни на заставивший вздрогнуть боевой выкрик затопившего озерные берега воинства (чувствовал, что оборачиваться нельзя) и потому успел разглядеть, как впереди, на острове, мелькнуло что-то невысокое, белое. Мелькнуло и сгинуло…
Муторно проскрипело по песку округлое днище. Вот и все. Остров. И вновь на плечо ложится твердая властная ладонь, подталкивает: иди! Шаг через замшелый борт, в неглубокую ленивую воду. И еще шаг. И еще.
Приносящие жертву остались на берегу, и приведшие жертву остались на берегу, и челн уже отчаливает от острова, оставляет наедине с выбранною судьбой. Нужно идти. Без провожатых, без принуждения, по доброй воле дать свершить над собой то, для чего ты приведен сюда. Ты ведь знаешь, зачем решился на это…
А столбы уже рядом. Вот только столбы ли это? Как бы не так – столбы… Непомерной тяжестью нависает над головой четвероликое идолище, белокаменный кумир, смотрящий на все страны света с надчеловеческой высоты своей. Нет, не смотрящий – плотно сомкнуты веки хмуро бесстрастных длиннобородых обличий. Кто это, кто? Род?
А невдалеке (десяток шагов – и достигнешь) воплотился в рубленом дубе гневный повелитель грома, грозы и военной удачи Перун, сверкающий из-под островерхого шлема мрачным пламенем драгоценных алых анфраксов-очей; и крылатая бестия Переплут, высеченный из Перунова дерева, приник у ног его – бог воинской хитрости, быстроты, бог скорой смерти, живущий в летучем железе, похожий на божество плодородия не более, чем наконечник стрелы на новорожденный росток. А рядом с ними щерится в багровеющее небо длиннозубый криволапый Ящер – недоброе божество текучих вод и бездонных болотных хлябей…
Капище.
Странное капище.
Как, почему оказались вместе пресветлый Род-Святовит и самые мрачные из славянских богов?
Хочешь знать? Тогда отбрось тяготящую разум книжную мудрость, причудливые, но мертвые замки которой выстроены на ничтожных песчинках – жалких остатках истины. Вспомни. Ты же можешь, вспомни!
…В самом сердце бездонных и бескрайних болот, на потаенном островке, со времен столь древних, что древность эту человеческий разум не вполне способен представить и уяснить, стоял почитаемый окрестными и отдаленными племенами кумир Святовита-Рода, великого и мало доступного пониманию божества. Дни рождались, жили, умирали в закатных муках, на смену им приходили ночи, и вновь занимались дни, а он все стоял и стоял, и казалось: так будет всегда.
Но пришла ночь – холодная, ненастная, злая, – когда в пламени и громе великом рухнул с беснующихся небес железный камень. Слепящей молнией впился он в островок, пошатнул рукотворное воплощение Рода, землю расплескал, будто воду; и там, где он упал, ударил бурный родник, в единую ночь оборотивший болото озером.
Долго размышляли мудрейшие над смыслом знамения; вопрошали навьих; ходили искать совета к ближним и дальним соседям. И придумали поставить на острове идолы повинных в свершившемся богов – бога грома да пламени небесных, и бога летучего стремительного железа, и бога вод. Поставили, чтобы задобрить жертвами, а главное – чтобы пред испытующими очами старшего божества впредь не смели они небо ронять на землю и смущать водной зыбкостью твердь…
…Сдержанный гул голосов на берегу окреп, пророс недовольством – так прорастает злаками жирная пашня. Олег встряхнулся, отгоняя сумеречные виденья: нельзя медлить, надо идти. Всего-то пути и осталось с полдесятка шагов.
Потому что не дальше чем в полудесятке шагов придавила собой давным-давно дрогнувшую, отшатнувшуюся от нее землю огромная глыба небесного железа, очертаниями схожая с неглубокой массивной чашей.
Конец пути. И жизни – тоже конец.
Олег шагнул, не в силах оторвать цепенеющий взгляд от алтаря, внушающего темную жуть своей непричастностью к привычному миру; подошел, уперся животом в неровный зубчатый край, оплывающий сукровицей ржавчины. Ощущая промозглый холод стылого металла, скользнул ладонями по следам давних ударов молота, довершавших задуманную природой форму небесного подарка; погрузил пальцы в мягкий невесомый пепел, засыпавший жертвенник.
Пепел.
Что жгли здесь в угоду богам? Только злаки да птичьи сердца или?..
Первый ли раз увидит этот алтарь Страшную Жертву?
Мертвая тишина, внезапно рухнувшая на озерный берег, и едва ощутимый шорох за спиной (здесь, совсем рядом) будто ножом полоснули по изнемогающим нервам. Олег обернулся, вжался спиной в шершавую прохладу железа.
Откуда взялась эта приближающаяся стройная фигурка? Будто возникла из ничего и вдруг; будто выпустил ее из себя белокаменный идол Рода. Жреческие фокусы… (Что-что? А, это где-то на задворках околдованного сознания проснулся наконец ученый скептик двадцатого века. Не поздновато ли?)
А она подходит, эта женщина непривычной, внутрь себя обращенной красоты. Светлые-светлые серые глаза; почти белые волосы; матовая молочная кожа… И недлинная рубаха прозрачного крапивного полотна (такое в Царь-граде ценят наравне с шелком-оксамитом) столь же бела, легка, воздушна, как и не скрываемое ею упругое юное тело. Мягко, невесомо переступают по твердой кремнистой земле беззащитные ступни длинных точеных ног; ближе, все ближе это отрешенное лицо с тонкими, будто каменеющими чертами… В нем есть что-то волнующее, знакомое; и можно было бы понять, что именно, если бы не отвлекал внимание дико не вяжущийся с хрупкой и чистой женственностью сжатый в правой ее ладони огромный железный серп – хищный, зазубренный, буреющий обильной ржавой коростой.
Подошла вплотную, кончиками пальцев толкнула в грудь, и Олег безвольно лег спиной в нежный ласковый пепел алтаря, не сводя глаз с готовящейся к совершению таинства жрицы.
Она не торопилась.
Плавно, будто танцуя, трижды обошла вокруг, протягивая ржавое железо к ликам богов, шепча им что-то неслышное. Потом неожиданно резко вспрыгнула на край жертвенника и замерла.
Олег знал, что его ждет, знал хорошо, будто не раз видел такое, будто уже примерял на себя тяжесть предстоящего: смогу ли? И больше всего он испугался теперь, что жажда жизни победит разум и волю; что терзаемое тело выйдет из повиновения и станет бороться.
Напрасный страх. Премудрые боги точно знают, где ими положен предел человеческим силам. Едва коснувшись спиной алтаря, Олег понял, что не может шевельнуться, будто что-то невидимое держит его надежнее всяких пут. Все, больше он не подвластен себе, а подвластен одной лишь судьбе своей, глядящей на него из холодных глаз молодой жрицы, спокойно стоящей рядом.
Без сил, без мыслей следил за нею Олег, а она, помешкав в недолгом раздумье, порывистым движением сорвала с себя рубаху (это чтоб не замарать в крови драгоценную ткань), склонилась; закусив губу, обеими руками нацелила в Олегову грудь иззубренное жало своего серпа. И когда холодное безразличие в ее глазах сменилось напряженной сосредоточенностью, Олег, холодея, понял, почему что-то знакомое примерещилось ему в этом лице.
Ксюша.
Да, это Ксюша.
Так, значит, вот что такое Страшная Жертва… Не кусок кровавого мяса нужен богам; другое им нужно, совсем другое…
А тупое железо уже вдавливается в грудь – в треске рвущейся кожи, в горячих волнах пронзительной боли, глубже, глубже, и боль вызревает, звереет; булькающим потоком выхлестывается из груди теплое, липкое, заливает шею, подбородок, и бульканье это прорывается вдруг сухим хрустом взламываемых ребер… Больно же, больно! За что, Ксеня, за что?! О боги, как мерзостно он воет, какие гнусные истошные вопли…
Кто – он? Это же ты, ты визжишь, как свинья под ножом, прекрати, перестань, тряпка, животное… Бо-ольно-о-о!!!
А она будто и не слышит криков, она вся поглощена своим непростым делом. Отбросила серп, опустилась на колени, внимательно вглядывается во вспоротое, дымящееся красным (да скорее же, ты, скорее убей!).
Осторожно просунула ладони в липкое месиво – туда, где самое сердце беснующейся боли…
И вдруг вскинулась всем телом, вырвала из Олеговой груди эту боль.
И понеслись немыслимым вихрем в стремительно гаснущих глазах Олега воспаленное небо, сочащееся горячечной ало-стью; и трепетный комок, высоко-высоко вознесенный в Ксюшиной руке; и чистая кровь, обильно стекающая по этой руке на нежное плечо, срывающаяся крупными каплями с твердых острых сосков… Но алое кануло в черноту, и последним проблеском уходящего мира была исполненная бездонной мучительной жалости синева за открывающимися каменными веками Рода – в бесконечной вышине, далеко, далеко, далеко.
* * *
А за лесами вставало солнце. В теплом и чистом золоте рождался новый день – спокойный и ясный.
И в затерявшейся среди болот часовне проснулась Ксюша. Не в силах встать, не в силах снова заснуть она сладко щурилась, следила, как не спеша наливаются светом солнечные пятна на сырой ущербной стене, как вспыхивают-переливаются алмазным крошевом пылинки в лучах, протянувшихся сквозь ветхое плетение оконных решеток. Ушедшая ночь помнилась ей лишь какими-то смутными страхами, глупыми серыми снами, нелепыми и смешными теперь.
Все было так, как хотелось. Вот только Олега не было рядом, но мало ли куда человек может выйти утром… Долго потом не могла Ксюша простить себе, что не сразу встревожилась, а встревожившись, не сразу решилась звать и искать.
Олег был близко.
Ксюша увидела его, как только выбежала под ласковую голубизну посветлевшего неба, – увидела, как он лежит, ткнувшись лицом в жухлые, нездоровые травы, и бурая болотная дрянь суетливыми ручейками выдавливается из-под его груди…
Трудно, очень трудно было перевернуть его. Пальцы скользили, срывались, никак не могли уцепиться за скользкое от влаги голое (почему голое?!) тело. Но Ксюша все же справилась, смогла и плакала потом, обтирая жидкую грязь да подсохшую кровь со страшных багровых рубцов (откуда они у него, Господи, как же это?!), и комары, вспугнутые с обильной легкой поживы, ныли-плакали вместе с ней.
А потом Олег очнулся и, увидев ее над собой, шарахнулся вдруг с жалким затравленным взвизгом.
Он приходил в себя медленно, трудно; и даже когда вроде бы совсем уже успокоился, продолжал упорно молчать о том, что случилось ночью.
А потом как-то нелепо отыскалась в часовне его одежда: она, оказывается, валялась грудой на самом видном месте. Ксюша, выбегая, никак не могла не наступить на нее, но – вот бывает же так – даже не заметила… Одевался Олег суетливо, не попадая в рукава; долго прыгал на одной ноге, запутавшись в штанине; и все понукал, торопил Ксюшу – непривычно резко, со злыми слезами в голосе: «Да быстрее же!.. Собирайся скорей! Пошли, пошли отсюда…»
И Ксюша заметила вдруг, что волосы его больше не кажутся седыми: они теперь такие и есть. И еще она заметила, что нет на Олеге крестика, а там, где он обычно висел, вздулся воспаленными шрамами странный знак: окружность, перечеркнутая крест-накрест. Где-то она уже видела такое, но где? В книгах о старинных орнаментах, что ли? Или в этнографических атласах? Нет, не вспомнить сейчас…
Когда они собрались наконец уходить, окрепшее солнце уже навалилось на землю плотным неласковым зноем. Небо было безоблачно от горизонта до горизонта, и тем нелепее, тем страшнее показалась ослепительная молния, ударившая в болото, как только Олег показался на пороге часовни.
И Олег пошатнулся, вскрикнул – пронзительно, дико. В прозрачной бешеной вспышке снова привиделась ему взметнувшаяся в угрюмое небо окровавленная рука; привиделись синие, непостижимо живые глаза на каменном мертвом лице. Тупой болью ответил видению выжженный на груди знак, и Олег понял. Понял, что не властен более над собой, что не себе отныне принадлежит. Боги, боги, за что, почему именно я?!
А кто? Кто из бывавших в этой часовне? Священники? Бездумно верующие крестьяне? «Сгинь, изыди, нечистый дух!» – и бежать. Или, может быть, те, кто вырисовывал похабщину поверх ликов святых? Вот ведь в чем она, главная твоя беда: за бесконечно долгие годы ты оказался первым, кто сумел впустить ЭТО в себя…
Олег улыбнулся горько и скорбно; мутно глянул туда, где все еще пузырилась вскипевшая под ударом молнии торфяная жижа.
Значит, это там…
Ну что ж, он все понял. Он достанет, выкатит из болота древний небесный камень, великую святыню минувшего. Достанет. Выкатит. Чтобы вновь стояла она здесь, на этом холме, – как давно, как прежде. Он исполнит волю богов, исполнит ценой каких угодно усилий и жертв.
Жертв… Каких?
Каких подношений потребуют восставшие от тысячелетнего оцепенения божества? Удовлетворят ли их обугленные злаки и мягкий пепел ритуальных хлебцев?
Олег не знал этого.
Бесконечная жалость, которую он успел разглядеть в глазах Рода, неожиданная человечность этих глаз… Да, это внушало надежду на лучшее, вот только…
Могут ли предки из жалости быть жестоки к потомкам своим?
Этого Олег тоже не знал.
Он знал одно: на счастье ли, на горе ныне живущим, но должна свершиться воля древних богов, потому что теперь пробил их час – час прошлой веры.

Алексей Бессонов
И памятью крови
Сквозь шум дождя, столь обычного для осени в Нормандии, прорвалось, постепенно становясь все громче, мягкое гудение автомобильного двигателя. Зашуршали по бетону шины – ближе, еще ближе, и вот машина замерла в паре метров от окон большой, немного аляповатой старой фермы.
Тогда лев, лежащий на вытертом ковре в холле первого этажа, ненадолго поднял голову и вздохнул. За дверью раздались голоса.
– Похоже, он совсем плох, мсье. Ветеринар уехал час назад, мсье, и он говорил, что сделать уже ничего нельзя – Гийом слишком стар… львы, как он сказал, столько вообще не живут.
– Мы знали, что это должно случиться, Луи. Он ел что-нибудь?
– Сегодня ни крошки, мсье.
– Ну что ж, заставить его нам вряд ли удастся…
Скрипнула дверь – темная, выкрашенная некогда коричневой краской, давно уже растрескавшейся от старости и сырости. Лев поднял веки и глянул на вошедшего. Высокий мужчина в шуршащем плаще и клетчатой кепке, не раздеваясь, присел возле зверя на корточки. Его рука, обтянутая желтой автомобильной перчаткой, ласково коснулась все еще густой гривы.
– Как ты, дружище?
Бернар Брезе, парижский финансист и подрядчик, обожал цирк с детства. Его отец, известный в свое время художник-иллюстратор, любил путешествовать с сыном на автомобиле – и стоило их маленькой «симке» въехать в очередной городок, намеченный для ночлега, Бернар тут же принимался ерзать на заднем сиденье.
– Знаю, знаю, – добродушно ворчал в ответ отец, – сейчас спросим у портье в гостинице. Они всегда все знают.
И если в городке по случаю оказывался какой-либо из бродячих цирков, во множестве колесивших по дорогам прекрасной – той еще, действительно прекрасной! – Франции, они обязательно шли смотреть представление. Конечно, Бернару нравились и акробаты, выделывающие невероятные фокусы под полосатым куполом шапито, и маги, невесть как выуживающие золотые часы из карманов восхищенных буржуа в первом ряду, но по-настоящему счастлив он бывал лишь тогда, когда в составе труппы оказывались укротители диких зверей. Однажды в Реймсе ему посчастливилось увидеть выступление знаменитого в те годы немца Райнхарда Гольца. Как завороженный, смотрел он на пару львов, стремительно повинующихся каждому щелчку бича, пляшущего в руке дрессировщика – длинного, кажущегося из-за своей худобы неловким мужчины в черном кожаном костюме. Когда представление закончилось и Гольц заставил своих львов поклониться публике, Бернар вдруг понял, что один из них, тот, что стоял слева, смотрит прямо на него. И в глазах могучего льва мальчишка прочел муку…
В тот день Бернар дал себе слово стать дрессировщиком – но не таким, как Гольц, а другим… Он хотел, чтобы львы, грациозные и безжалостные, ощутили его своим другом, приняли в стаю, признав его силу не из страха боли – иначе. Правда, пока он еще не знал как… Оказавшись в Париже, Бернар попросил родителей приобрести ему кота.
Брезе-старший, с младых ногтей отличавшийся изрядной эксцентричностью, лишь поднял бровь и рассмеялся, но мать, упрямая костлявая голландка из Роттердама, пришла от подобного заявления в неистовство.
– Что за блажь правит в этом доме? – поинтересовалась она. – Где это видано, чтобы тринадцатилетние оболтусы таскались с какими-то котами? И потом, ты хоть представляешь себе, сколько стоит приличный породистый котенок?
– Зачем мне породистый? – резонно возразил Бернар.
Примирителем, как всегда, выступил отец. Съездив в Нормандию, где дед Бернара держал большую ферму, он вскоре вернулся с корзинкой, из которой торчала любопытная мордочка месячного котенка.
Своего нового друга Бернар окрестил Леоном.
…Плавные движения руки заставили льва погрузиться в дрему.
И видения пришли вновь. В общем-то, они и не оставляли его уже много лет, с тех самых пор, как из забавного котенка он превратился в молодого льва. Стоило ему уснуть, ощущая тепло и безопасность, как откуда-то из неведомых глубин всплывали удивительные картины, яркие и завораживающие. Сперва он только видел – позже пришли запахи и ощущения. Шелест ветра, играющего с травами саванны, бешенство белого солнца, пробивающегося сквозь прикрытые веки, топот копыт антилопы, пытающейся уйти от погони.
Он спал – и он жил.
Днем все начиналось заново. Папаша Морис с неизменным запахом дешевого вина, просовывающий сквозь прутья клетки ломоть лежалого мяса, надетый на кусок толстой проволоки. Злобные взрыкивания его партнера Арлу, тупого и всегда раздраженного. Репетиции: хозяин и хозяйка, гибкие, не знающие усталости. Гийому было смешно: Арлу не то чтобы не хотел прыгать сквозь блестящее металлическое кольцо – он просто боялся, сам не зная чего. С ним же хозяева почти не занимались. Ему достаточно было все объяснить да потрепать за ушами, и ближайшие полчаса Гийом не скучал. Потом ему все надоедало, и тогда хозяева переключались на Арлу.
А ночью приходила другая жизнь. В какой-то момент Гийом стал понимать, что это чужая жизнь, уже прожитая кем-то, потому что иногда, осенью, он переживал смерть. Точнее, смерти…
Они были разными: иногда он, лишенный сил и порядком облезлый, умирал от слабости и голода, иногда точку в давно прожитой кем-то судьбе ставили молодые самцы, пришедшие, чтобы захватить чужой прайд. Однажды он познал неведомый ранее страх. Сумерки, и слабое движение травы, отчетливо различимое для его зрения: ощущение опасности, непонятной, но от того не менее реальной, – потом вдруг короткий укол боли, маленькие фигурки, не похожие ни на антилоп, ни на шакалов, ни на трусливых обезьян, – маленькие, назойливые… слабость, слепота.
Смерть.
В то утро Гийом отказался выполнять команды хозяев. Не помогло ни свежее, пахнущее кровью мясо, ни ласки хозяйки – он просто лежал и не реагировал на слова. К нему приходили какие-то люди, источавшие острые неприятные ароматы; потом короткий хлопок – и знакомый уже укол.
Снова слабость и слепота.
Но смерть не пришла. Он очнулся в грязной вонючей клетке; где-то неподалеку испуганно всхрапывали лошади.
Гийома продали.
– …Ну же, Леон! Алле… оп!
Котенок зевнул и, повернувшись к Бернару хвостом, неторопливо забрался на диван. Бернар вздохнул. Леон рос на удивление бестолковым, и максимум дрессуры, которого Брезе-младшему все же удалось добиться, – это привычка кота ходить в свой особый сортир. На большее его артист оказался не способен.
Да и дружбы у них отчего-то не получалось: Леон вообще вел себя так, словно никого в упор не видел. В конце концов он сбежал, и Бернар, немного удивляясь самому себе, не стал слишком переживать по этому поводу. Тем более что в то лето к ним в гости приехал один из родственников матери, известный голландский адвокат. Дядюшка Ханс рассказывал такие удивительные истории из своей жизни и деловой практики, что Бернар вдруг решил поступать на факультет права. Родители, конечно же, пришли в восторг.
На какое-то время детские мечты о цирке покинули его, тем более что вскоре в жизни студента появилось нечто не менее захватывающее – один из новых приятелей привел его в аэроклуб. Занятия стоили немалых денег, но семейство Брезе могло позволить себе подобные траты, благо мать считала, что общение с представителями «золотой молодежи», проводящими время рядом с самолетами, поможет молодому юристу в будущем. В семье матери, уехавшей некогда из Трансвааля из-за туманной ссоры с самим папашей Крюгером, твердость духа только поощрялась – и Бернар летал. Годы Сорбонны промчались столь быстро, что он даже не успел их заметить: а впрочем, ему было некогда отвлекаться на такие глупости.








