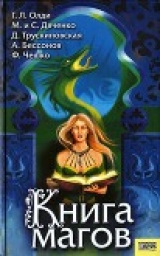
Текст книги "Книга магов (антология)"
Автор книги: Алексей Бессонов
Соавторы: Далия Трускиновская,Федор Чешко,Марина Наумова,Марина Дяченко,Владимир Пузий,Генри Олди,Владимир Васильев,Андрей Печенежский
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Он никогда не бил ее.
Он никогда, ни при каких обстоятельствах не повышал на нее голос.
Она возненавидела его – именно в тот момент, когда ключи с золотым львом упали на стол рядом с ее тарелкой. Она научилась ненависти и, одновременно, зависти: она завидовала этой суке Ирке, которая вышла замуж за обычного лоточника… этой Маринке, у нее Мишка врач, живет на зарплату, но ведь живет! А ее муж, едва привыкнув к новому для себя месту жительства, стал читать Конфуция. Он устроил себе отдельный кабинет, он зашил его книжными полками и принялся перемежать Шопенгауэра Ирвином Шоу. Он купил себе старинный письменный стол, старинную лампу, он купил себе трубку.
Скоро ему исполнилось тридцать. «У тебя такой милый львенок, – говорил он про ее машину, – почему ты ездишь на такси?» В доме пахло «Амфорой». Он приобрел странную привычку – прежде чем прийти к ней в постель, он тщательно чистил зубы и обрызгивал себя одеколоном. Она тонула в запахе – это был дорогой запах, и в ней росла ненависть. Она научилась ненавидеть его тело. Это было тонкое, без капли жира, мускулистое и удлиненное тело – это были тонкие сильные пальцы, их ласки, способные довести до безумия монахиню, – ее они доводили до рвоты. На этом теле не было лишних волос, ни одного. Оно было гладкое, как поршень, движущийся в одном из шести цилиндров его «мерседеса»: уверенное в себе, почти мальчишеское, но в то же время мужское тело… о, как она ненавидела его! Она научилась ненавидеть звуки, доносящиеся из ванной, – звуки, свидетельствующие о том, что он скоро войдет в спальню, мягко опустится рядом с ней и начнет шептать все те глупости, от которых у нее заранее болит голова. Он будет тыкаться в нее носом, он станет гладить ее своими мягкими пальцами… о, нет!
Скоро он понял. Нет, он не стал закатывать истерики или требовать объяснений – он стал ночевать в своем кабинете. Теперь он приходил к ней только тогда, когда визиты друзей и деловых партнеров вынуждали его принять на борт не менее полукилограмма коньяку – а ничего другого он не пил. Он делал свое дело с максимальной деликатностью. Он целовал ее – пару раз он даже пытался вызвать ее на «на разговор». Он был честен. От его честности ее тошнило. И именно тогда ей стали сниться сны.
Однажды, поднявшись с их огромной, двойной постели, он спросил у нее: «Господи, ну почему? Ведь ты даже не хочешь говорить..» Она не сказала ему ни слова. Боль, волной ударившая ей в спину, не имела никакого значения. Ей уже снились сны.
Сперва ей приснились крылья. Запах пришел позже, позже на несколько ночей, – острый, пряный запах, совершенно незнакомый ей ранее, поглотивший ее дух, – да, он пришел позже, а сперва были крылья. Огромные черные крылья, они накрыли ее и понесли куда-то далеко; восторг, страх, страсть – сразу же, в тот же миг, словно и не было всех этих лет. Она летела. Она проснулась – дело шло к рассвету, а летом рассвет так спешит. Рядом спал он, округло вздымалось его светлое плечо, привычно пахло двухсотдолларовым запахом настоящих мужчин, и слабо белели ухоженные ногти, лежащие на голубом шелке подушки, – модно.
Вечером он пил коньяк со старинным другом. В коридор тянуло сигарным табаком, из кабинета доносились яростные взрывы гитар. В молодости они играли. Они играли харду, он с ума сходил от последних навороченных новинок – ах, малыш, я предпочитаю Европу, арт-н-хард, прогрессив, это так круто… она фыркала, совершенно не желая понимать, зачем тратить деньги на эти дурацкие «компакты» и настолько дорогую аппаратуру. Деньги были его – она молчала. Из кабинета ревели гитары, она приняла сибазон и легла спать.
И сразу же ее накрыли крылья. Они несли ее над бескрайней красно-черной равниной. Она пыталась поднять голову – и не могла, чужая тугая плоть облекала ее сверху, не давая понять, кто же несет ее кажущееся таким тщедушным тело. Она смотрела вниз. Там камни перемежались с волнами песка: песок был черным, а камни – алыми.
И вот они опустились. Под ней была красная шершавая голь огромного монолита. Она решилась открыть глаза – да, камень был красным… тогда она подняла голову. Запах, этот магический аромат, кислый и сладкий одновременно, давно уже сводил ее с ума: теперь он стал еще сильнее – это был запах мужчины, почти забытый ею за годы супружества. Она подняла голову.
Над ней, ясно вырисовываясь на фоне далекого коричневого заката, возвышался темный силуэт огромного, рельефно развитого мужчины. У него были крылья! Они росли от его плеч – сейчас, наполовину сложенные, крылья казались неким подобием плащ-палатки, повисшей за спиной мускулистого офицера. Он смотрел на нее, в закатном полумраке поблескивали его янтарно-желтые, как у персидского кота, удлиненные глаза.
– Ты испугалась? – негромко спросил он.
Она не нашла ответа. Камень не был холодным, нет, ее холодило присутствие этого невообразимого существа, и еще – невероятная ощутимость сна. Она ощущала полет, она жила в запахе, в этом, таком сладком для нее, запахе настоящего, огромного, готового подмять ее самца… в эти мгновения она почувствовала, как теплеет низ ее живота… она сдвинула ноги.
– Нет, – ответила она, гадая, когда сон уступит место привычным дневным коллизиям. Запах сигарного табака, так мучавший ее на протяжении всего вечера, почему-то исчез.
Она подняла голову, она заглянула в желтые глаза крылатого существа.
– Нет-нет, – проговорил он, читая ее желания. – Всему свое время.
И опять запахло сигарами, а в уши ворвался надоедливый вой электрогитар и грохот барабанов. Он пришел к ней этой ночью; он был почему-то зол на нее, он был яростен до грубости – настолько, что даже сумел доставить ей некоторое удовольствие.
А следующей ночью крылья подняли ее – опять. На сей раз они летели недолго. Опустив ее на землю, желтоглазый вдруг исчез. Она огляделась, не веря тому, что видит, – вокруг щерился древними желтыми камнями узкий двор старинного замка, глухо мощенный крупными черными булыжниками; кругом не было ни души. Она посмотрела на тяжелые, потемневшие от времени двери главной башни и содрогнулась от холода. Словно ощутив ее, с неба упала крылатая черная тень.
– Идем, – просто сказал он, и она пошла вслед за ним.
Двери открылись будто по волшебству – лишь боковым зрением она успела разглядеть две низкорослые фигуры, склонившиеся по углам. Стрельнув глазами, она прошла вслед за ним в огромную залу, где жарко пылал камин, а на огромном – под рост хозяина – столе тонула в соусе утка, зеленели овощами салаты, стопкой высились на глиняном блюде горячие лепешки.
Ели они молча. Бросив в угол кости, он хлопнул в ладоши – и тотчас из темного угла выросла миниатюрная, скрюченная фигура, просеменила к столу, в свете масляной лампы возник большущий кувшин, – и серебряный кубок, стоявший перед ней, отозвался довольным бульканьем вина.
– Я хочу, чтобы ты была счастлива, – произнес он, поднимая свой кубок – огромный, с золотой насечкой, – ты достойна счастья…
– Ах, – едва слышно вздохнула она.
Вино было довольно противным. За годы, прожитые рядом с утонченно-элегантным мужем, она привыкла пить столь же элегантные грузинские и молдавские вина, нисколько, впрочем, не задумываясь о тех особенностях «букета», о которых так любили толковать его друзья.
В три глотка она выпила кубок. Правая рука машинально пошла вдоль стола в поисках шоколада, но его здесь, увы, не было. Крылатый недоумевающе поглядел на нее:
– Тебе не нравится мое вино?
– Отлично… – прошипела она. – Отличное вино.
Кто-то осторожно тронул ее за плечо. Она открыла глаза.
В сером свете дождливого утра темным пятном вырисовывалось лицо мужа. В сознание влился запах – одеколона, зубной пасты, кожи – от чехла мобильного телефона, который лежал у него в кармане, – запах спокойной, уверенной в себе ненависти. Ее ненависти.
– Малыш, – тихо произнес он, – я поехал. Не забудь, пожалуйста, что мы договорились везти твою маму к стоматологу… договорились на двенадцать, а уже десять. Вставай…
Мягкие теплые губы коснулись ее лба, и она едва не застонала.
– Гадина, – сказала она ему вслед – шепотом, – как же я тебя…
Она была рада, что вечером он, не говоря ни слова, ушел в кабинет – ив спальню проник сладковатый запах трубочного табака.
И на этот раз крылья несли ее недолго. Едва раскрыв глаза, она увидела себя в просторной зале: по правую руку от нее на высоком стуле сидел он, желтоглазый, а дальше, вдоль стола, – такие же крылатые, облаченные в странные, чешуйчатые металлические доспехи.
– Время не ждет нас, – гулко произнес один из них, и желтоглазый тотчас же поднялся.
– Да, – сказал он. – Битва решит… честь мы оставим на совесть предков. Я должен найти выход! И я найду его!
– Ты привлек женщину срединного мира? – иронически спросил кто-то.
– Она верит мне.
– Что ж… пусть так. Пусть ее кровь послужит нам… хотя бы в качестве утешения.
Желтоглазый вспыхнул.
– Нет! Ее душа принадлежит мне!
– О чем ты… говоришь? – с усилием переспросила она.
– Что? – удивился он, будто не слышав ее вопроса. – Я… ах, нет…
Взмах крыльев – и под ней снова помчалась черная равнина, усеянная красными пятнами каменных массивов.
– Надежда, – услышала она над собой. – Надежда, страсть… надежда на познание страсти – разве не этого ты ждала в течение многих холодных лет?
– Да, – прошептала она. – Да, да, да! Все впустую… я живу в холоде. Нет… нет смысла… да, да, да!!!
– Ты нужна мне!
Она снова ощутила его запах. Она снова ощутила тугую, бьющую над ней плоть – волю мышц, покоряющих небо, обжигающее тепло огромного, давящего на нее мужчины, свист ветра:
– Я приду к тебе! Я приду тогда, когда ты станешь моим спасением! Ты готова?
– Да!.. Да!..
Она сидела на балконе, удивляясь тому, что на безоблачном – еще час назад – небе не видно звезд. На город опустились тучи? Странно: это выглядело совершенно иначе, так, будто чье-то гигантское крыло накрыло светящийся вечерними огнями мегаполис. Небо было черным – ни туч, ни звезд. Из кухни доносились звуки музыки и пьяные мужские голоса. Звон рюмок, очередное обсуждение – сперва политика, потом бизнес, затем, по мере наливания коньяком, они, безусловно, начнут рассуждать об отношениях Леннона и Оно, а чуть позже, помянув покойника Заппу, станут восторгаться творениями Гауди. Она не была в Испании. Она вообще нигде не была, ее не удивляли пирамиды, минареты и эта, как ее там, все уши уже прожужжали, «саграда фамилия»… ехать еще к черту на рога, чтобы полюбоваться каким-то идиотским собором! Она смотрела его на видео, и он не произвел на нее ни малейшего впечатления.
Опять взрыв хохота, шаги, чей-то ехидный голос: «Господин старшина первой статьи, как рядовой необученный – докладываю: такси у подъезда, а нам пора это вот… валить». Ах, ну да, он же служил в морской пехоте, на Дальнем… как он этим гордится! Раз он вытащил ее на охоту. Лес, камуфляж, друзья – всем слегка за тридцать, у большинства ученые степени: социология, экономика… некоторые прошли через Кавказ. Они выперлись на какое-то глухое лесное озерцо, расчехлили удочки. Карась – огромный, жирный, – он осторожно снимает его с крючка, машет над головой и бросает далеко в воду. Хохот. Вертикальный «Зауэр» сороковых годов – целое состояние – валяется на песке. Сервиз, вынутый из рюкзака и расколоченный в воздухе. «Дура, зачем ты взяла эти резиновые перчатки? Зайца обдирать? Какого зайца? Идиотка! Разве солдат станет стрелять в живое?»
Руки. Руки на руле. Рука, спокойно лежащая на кулисе. Обручальное кольцо, на мизинце – узкий перстень с рубином. Рука, управляющая чейнджером с компактами. Правая нога. «Спешить? Куда, в морг? Успеем».
Светящаяся стрелка спидометра, намертво прилипшая к цифре 60. Левая рука держит сигару, потом она плавно' переползает на руль. Она держит его на двенадцати часах. «Не делай так, малыш. Мне можно – а тебе пока не стоит». Острые скулы. Высокий, подтянутый – всегда. Водит машину, стреляет из пулемета, может сделать укол – совсем не больно. Плачет, когда больно мне – было… она всхлипнула. В этот момент хлопнула дверь и по коридору едва слышно зашуршали шаги мужа.
– Комары поедят, – услышала она за спиной его голос – хриплый от выпитого. – Давай, вылазь с балкона.
Он был полуголый – джинсы и тапочки. Мягко щелкнул выключатель ночника.
– Я купил себе статью, – из-за спины вдруг появился большой пистолет, – Ленька провалил… он копаный, чистый. Смотри, лапа какая – «кольт», армейский, 11,43, слона за борт вынесет.
Узкая рука без усилия продернула затвор. Он явно любовался покупкой, ему не терпелось опробовать ее в действии. Боевой пистолет! ее шатнуло. Ружей в доме было более чем достаточно, но такого он еще не приносил. Он был доволен собой. Пистолет бесшумно лег под вторую подушку. С шорохом сползли на пол джинсы.
– Давненько я уже не был со своей женушкой.
Она вздохнула. Возможно, сегодня он будет похож на мужчину..
– Ты уверен, что он не выстрелит?
– Я так похож на идиота?
Он был отвратителен. Легкие касания пальцев, теплые, чуть влажноватые губы, скользящие по ее телу, невозможность ощутить хотя бы это, сухое, пропахшее табаком и одеколоном тело – она уснула, провалилась во тьму, мечтая отделаться от него раз и навсегда, страдая от невозможности этого, – едва не со слезами, но рыдать она себе не позволяла. Рассвет осторожно прокрался в спальню через незапертый балкон.
Она открыла глаза. На перилах сидел крылатый. Не тот желтоглазый, а – мощнее, узкая борода свисала до самой груди. Ветер заносил в комнату его характерный аромат, запах человека, преодолевшего немалое расстояние, отразившееся на нем потом и солью.
– Он ждет тебя, – услышала она.
Одеяло полетело на пол. Она встала, потянулась, с торжеством посмотрела на скрючившуюся на простыне фигуру мужа – жалкую, младенчески беззащитную – и шагнула к балкону. В темно-синем рассветном небе кружила черная точка.
Муж неожиданно зашевелился. Его серые глаза настороженно стрельнули по комнате.
– Гос-споди… – прошептал он. – Господи Боже мой!..
Правая рука скользнула под подушку.
– Уйди! – От крика, казалось, зазвенели стекла балконной двери. – Уйди, на хр-рр!..
Крылатый выпрямился, но времени у него уже не было: первая пуля – тяжеленная тупорылая пуля одного из самых жутких пистолетов этого мира – ударила его в грудь… крылатый не успел упасть, как вторая разнесла ему череп, и она, стоявшая на пороге балкона, оказалась обрызгана мерзкой желто-кровавой массой.
Она оглянулась. Муж, сжимая в руке свой «кольт», стоял посреди спальни – ноги раздвинуты и чуть согнуты, безумные от ужаса глаза шарят в поисках новой цели. Она посмотрела в небо – черная точка приближалась, явственно вырисовываясь в ширококрылую фигуру, – и тогда она, смеясь, перебросила ногу через перила балкона и шагнула вниз.
И утренний воздух, упругий, сладко-холодный, подхватил ее, понес на своих бессмертных крыльях. Крыльях, вселивших в нее страсть – ту страсть, которой она была лишена.
Выстрелов она уже не слышала.

Андрей Печенежский
Пересортица
Забытые кварталы. Междустрочье
Казимир
1
Жертву последней пересортицы нарекли Коломбиной – то ли в спешке, по недоразумению, то ли ретивый шутник расстарался: ну какая из нее Коломбина? – грузная, мосластая, непоседливая, куда ни ткнись – повсюду она хлопочет, перемещается, дышит, потеет. Даже Казимир, к которому она пристала в жены, указывал ей при всяком удобном случае на то, что настоящая Коломбина ногами не топала бы, в спящем состоянии не храпела бы, а была бы всегда такая сказочно воздушная, как шарфик шелковый!
– А ты ее видел, настоящую-то? – спрашивала жертва пересортицы недоверчиво.
– Зачем мне видеть? Я знаю! – отвечал Казимир, и ему можно было верить, хотя Казимир не был умником-всезнайкой, а был всего лишь заурядным вечным пахарем. – Ты не Коломбина, под тобою половицы ходуном ходят, ты коняга ломовая! – упрекал он ни в чем не повинную жертву, но в то же время от себя не гнал, не швырялся в нее инструментом. Должно быть, сдерживали его какие-то особые соображения, о чем он ни словом ни перед кем не обмолвился.
Ранним утром Коломбина возилась на кухне, то кастрюлями бряцала, то поварешкой, как вдруг заявился человечек, показавшийся Коломбине настолько угодливым, что хоть ковриком его под дверь укладывай. Человечек долго извинялся, спрашивал, на ногах ли мастер Казимир, ах, какая жалость, позволительно ли будет мне обождать, пока мастер почивать закончат, я в уголочке посижу, мне это привычно…
– Они поздно легли, а потом еще ворочались, – сказала Коломбина, жертва самой последней, самой кардинальной пересортицы.
– Все в трудах! – умиленно заулыбался человечек. – Настоящие мастера не ведают покоя!
– А я разве ведаю? – равнодушно заметила Коломбина.
– И вам, хозяюшка, ох как непросто приходится! Редкий гений сознает бытовую сторону вопроса – все больше в облаках витают, красоты небес реставрируют!
Коломбина ничего не поняла и сказала, что пойдет будить Казимира.
– Как неловко получается! И что мне было не прийти попозже!
– Да уж как пришли! Не сидеть же вам тут до обеда.
– А что – могуч сон мастера?
– Могуч, могуч. Там его еще никто не победил.
Коломбина пошла в спальню и без всякой жалости принялась дергать и мутузить вечного пахаря. Глаза Казимира открылись, но зрачки неудержимо уплывали в подлобье.
– Поднимайся, идолище, человек пришел.
– Какой человек?., не знаю никакого человека…
– Говорит, Рамзесик.
– Спроси, чего ему надо…
Коломбина затопала, слышно было, как где-то в передней оборвалась ее тяжелая поступь, как женщина заговорила негромко и тот, с кем она заговорила, сладким голосом увещевал ее, что-то ей втолковывал, что-то обещал.
– Поднимайся, идолище. Этот Рамзесик тебе ремешок на прошлой неделе заказывал. Интересуется, готово ли. Говорит, что заплатит по-царски. И все за беспокойство извиняется. Вечный пахарь Казимир очумело захлопал ресницами. Спросонок он всегда выставлялся законченным недоумком, хотя настоящий недоумок жил не здесь, настоящий жил по соседству с Кукишем.
– Фуражку помню, – сказал он напряженно и поерзал затылком на подушке. – А что за ремешок? Короткий, длинный?
Коломбина не поленилась снова выйти к заказчику и про ремешок у него выспросить.
– Да не спи ты, идолище! – опять тормошила она вечного пахаря. – Человек ведь пришел, работу требует!
– Что такое?.. Какой человек? Какие ремни?.. – ошалело вскинулся Казимир.
– Рамзесик, портупею, говорит, заказывал. А фуражечку он уже примерил, я ему позволила. Фуражечка ему понравилась. Впору ему фуражечка пришлась, он в ней и так перед зеркалом, и эдак, вылитый, говорит, адмирал…
– Да ты что вытворяешь?! – озаботился вдруг вечный пахарь, безнадежно разбуженный. – Кто ж примерять дает без задатку? По-царски… Ты про царей забудь, стоеросовая. То когда было – а это теперича! Жулик на жулике воду возит и жуликам продает… Слушай, выйди к нему потихоньку, поулыбайся, а сама дверь входную На задвижку поставь! Не сбежал бы Рамзесик этот…
Коломбина совершила все, как загадал ей Казимир, – показала Рамзесику желтозубую свою улыбку, лязгнула щеколдочкой, застыла у двери, приняв оборонительную позу, – муха не пролетит без пропуска. Но Рамзесик был на своей волне, он красовался перед тусклым зеркалом, брал под козырек, лихо заламывал представительный головной убор на затылок.
– Это, доложу я вам, фигура! – причмокнул Казимир, бабочкой выпорхнув из спальни. – Околыш не болтается, кокарда горит… полный триумф! Двадцать целковых – и можно парад принимать!..
– Тут такое дело, что и тридцатку отвалить не жалко! – подыграл ему заказчик, потом извлек из бумажного свертка ладненький френчик защитного цвета, а сапожки уже сидели у него на ногах, уже поскрипывали шаг за шагом. Портупейку Казимир накинул на него собственноручно, а потом все ладил да подтягивал, приговаривая, что обмундирование требует к себе особого подхода, уж это само собой, тут всякая определенность роль выдерживает, не желаете ли к тому же и погончики симпатичные прикинуть? Я их впрок заготовил, как чувствовал, что хорошему человеку не сегодня – так завтра пригодятся… Зачем же завтра, Казимир? Давайте их сюда! Неплохо, что еще я могу сказать? Умеешь, Казимир, высокому запросу соответствовать… что? что такое? почему ухмыляешься, рожа? как стоишь перед старшим по чину?
Денежный вопрос увял, как срезанная хризантема, когда вдруг стало ясно, что Рамзесик превратился в Рамзеса – и обратных превращений в ближайшем будущем не предвидится.
– Гляди у меня. Узнаю, что другим портупеи сооружаешь – в порошок сотру, – пригрозил Рамзее напоследок.
– Другим – никак невозможно-с! – отчеканил Казимир, едва не рухнув на колени.
– И вот что, братец, я теперь ухожу, а ты, пожалуй, изобрети для себя другое занятие. Попроще что-нибудь, брось ты это дело без сожаления.
– Бросит, ваше благородие! – Коломбина перекрестилась, потом суетливо завозилась подле щеколды, освобождая проход.
– И глядите у меня тут в оба! Чтоб ни-ни! Никакого шороху!
Когда они остались вдвоем, Коломбина уставилась на вечного пахаря, а тот опустился на корточки и начал ковырять ногтем половицу.
– Высокий чин, – сказала жертва пересортицы.
– Высокий, – согласился Казимир. – Все от погончиков зависит. Как погончики разукрасишь – так оно и получится.
– Хорошо получилось, – вздохнула Коломбина. – Умеют же люди в рост подыматься…
– Кто первым догадался мундирчик напялить – тот и командир.
– А ты когда догадаешься?
– Ну какая из тебя Коломбина?! – в сердцах воскликнул Казимир. – Коняга ты бесхвостая.
– Зато ты хвостатый – даже пятака не взял! С чем на рынок идти, идолище? Как теперь на жизнь зарабатывать будем?
Вечный пахарь молча отправился в спальню, растянулся на еще не прибранной постели, посмотрел на свои руки, показал их Коломбине: я и по фанере могу, меняй, женщина, вывеску. А потом собери всю кожу, какая в доме обнаружится, – ив подпол ее! И все лекала – туда же! Богоугодным ремеслом займусь, только успевай фанеру оттаскивать. Или я не вечный пахарь!
– Вечный, вечный, – сказала Коломбина и пошла снимать вывеску, гласящую, что только в этой мастерской в кратчайшие сроки для вас изготовят неповторимые изделия из кожи – от генеральской портупеи до налокотников.
2
– Я – однолюбка, он – верный друг, – сказала молодая женщина и запнулась, но верный друг ободряюще кивнул, и женщина несмело продолжила: – Добрые люди надоумили: из нас получится неплохая пара. Так нам сказали. Мы тоже хотели бы никогда не разлучаться, жить долго и счастливо… Мы верим в свою звезду, сочетание однолюбки и верного друга считается классическим…
– Понимаю, понимаю, – участливо закивал вечный пахарь. – Прошу вас, присядьте… Стакан воды? Да вы рассказывайте, не стесняйтесь. В этом доме стесняться не надо.
Казимир и Коломбина были в белых халатах, вечный пахарь с настроеньицем потирал мозолистые руки – и это мягкое нетерпеливое потирание немало обнадеживало всех участников. Посетители присели на специально заготовленные стулья.
– Дело, по которому мы решили обратиться к вам, сами понимаете, весьма деликатного свойства… – заговорил верный друг, но однолюбка обратила на него свой ясный взор, исполненный непреходящего чувства однолюбия: позволь, я сама скажу…
– Воды подать или как? – спросила Коломбина.
– О нет, благодарю вас! – Однолюбка вынула из сумочки кружевной платок и начала комкать его, подбирая верный тон, слова; в мастерской запахло дорогими духами, а устоявшийся запах столярки сразу пожижел, расползся по углам. – Но мы хотим создать полноценную семью. Вы понимаете?
– Еще бы! – многозначительно крякнул Казимир.
– Чтобы все-все у нас было по-людски…
– Вы, деточка, говорите, говорите, уж мы поймем, – вмешалась Коломбина. – Мы тут уже всякого напонимали, и это ваше как-нибудь осилим…
– Вы ассистентка? – повернулась к ней взволнованная заказчица.
– И ассистентка тоже. Водички попьете?
Однолюбка снова смотрела на Казимира.
– В общем, нам посоветовали ваш акушерский пункт.
– Так, – сказал Казимир.
– У нас будет ребенок.
– Поздравляю! – Казимир забарабанил пальцами по столу. – и нечего было так волноваться. Дело-то житейское.
– Нам хотелось бы хорошего, славного мальчишку, – сказал доверительно верный друг. – Пацаненка на все сто!
– Или девочку, – заулыбалась однолюбка. – Если получится девочка – пусть будет девочка.
– Можно и девочку, – не стал возражать Казимир. – Но этот момент все-таки придется уточнить.
– Девочку, девочку! – радостно потребовала будущая мамаша. – Девочек должно быть больше, так статистика показывает… Мы будем ей косички заплетать, будем гулять с ней, в школу поведем.
– Косички, так и запишем. – Казимир сделал пометку в рабочем блокнотике.
– И глазки голубенькие – запишите!
– И глазки голубенькие… Зелененьких не желаете? Пусть будут голубенькие. Голубенькие тоже неплохо смотрятся. Я когда встретил одну… впрочем, давайте лучше заниматься вашей девочкой.
– Только рыжую не делайте, – сказал верный друг. – у нас в роду рыжих не было.
– Рыжие – тоже люди! – указала ему Коломбина, сама с рыжинкой.
– Русая! – загадал Казимир. – Самый модный колер, и наболтать несложно…
– Ну, не знаю… – засомневалась однолюбка.
– Только не перетемните. Темноволосые все такие злюки!
– А жена у вас какая? – обозвалась Коломбина.
– То – жена! – со значением определил верный друг. – А то – ребенок! В классе затюкают… Вы эскизировать будете? Хорошо бы сперва на эскизы взглянуть…
Казимир зевнул и нахмурился.
– Хорошо бы вам было заранее порешать, что и как – …Вы же родители! Не я! Мое дело – удовлетворить, так сказать, запросы. А запросы мутноваты-с, вот что я вижу… Что касается эскизов, на это и не надейтесь. У каждого мастера свой подход. Я долго вынашиваю, мучаюсь образом, можно сказать, болею им – потом вдруг как зашарашу! Есть залепуха! И уже ничего не правлю, чтоб свежесть первого наброска не потерялась… Вы же хотите яркого, живого ребенка, а не бледную поганку, от которой все шарахаться будут!
– Постарайтесь, чтоб она не сутулилась, рожицы не строила!
– Родители мои дорогие! Рожицами забавляться – дело наживное! Кто ж такие вещи нарочно планирует?
Коломбина утерла губы ладонью.
– Вы про главное не забывайте: на кого она должна походить – на папу или на маму? Как бы грызня потом промеж вас не возникла.
– Скорее на папу, – предположила однолюбка. – Он у нас такой мужественный! И настоящий, верный друг!
– Мы говорим про девочку или про мальчика? – Вечный пахарь уже ничего не записывал, потому что вконец запутался в показаниях. – Вы можете изложить мне четко и ясно, чтоб я больше ни о чем не спрашивал?
– Мы хотим счастливого ребенка.
– Ну, это я как-то сразу понял. Серьги? Кольца? Прочие фити-мити?
– Если можно – дайте это намеком, чуть-чуть. Счастье не в серьгах, – задумчиво проговорила однолюбка.
– Чуть-чуть – это, извиняюсь, сколько?
– Мы принципиальные противники брильянтовой безвкусицы! – Верный друг выглядел усталым, но – держался. – В общем, сами прикиньте, чего и сколько. Мы вам доверяем.
– А если б и не доверяли – куда вы пойдете? – сказала Коломбина. – Прежние пункты все давно позакрывались. Неблагодарное это дело, хлопот не оберешься, а деточки распрекрасные – вон они какие шмыгают по городу: если не бандит – то простокваша.
Однолюбка встала и пошла к двери. С порога оглянулась на Коломбину.
– Вы, женщина, должно быть, сами бездетная – оттого и говорите странные вещи, от которых настроение меркнет.
– Я вашего настроения не касаюсь, – заверила Коломбина. – Я мужу помогаю. Уж как могу! Я ведь жертва пересортицы, Коломбина я.
Чем был особенно хорош вечный пахарь? Тем, что не просто брался за работу – но бесстрашно сигал в нее, как в колодец за оброненной драгоценностью. И никакого серьезного дела на потом не откладывал, пахать так пахать, на то и плуг торчмя поставлен, чтоб ломоть земли в отвал пошел. Не успела дверь за посетителями захлопнуться, а Казимир уже прислонил к верстаку лист фанеры, начал фломастером на той фанере контур набрасывать. Коломбина поткнулась было на кухню, но долго там не высидела, притопала в мастерскую – неутомимая ассистентка. Пристроилась на стульчике у Казимира за спиною, на некоторой дистанции, чтоб пахарь в отмашку не достал ее кулачищем, – и задышала сокрушенно, заворчала: что теперь будет, идолище? что будет?..
– То и будет: ребенка делать будем, – отвечал самоуверенно вечный пахарь. – Ты, Коломбина, замри на часок, не мешай, во мне как раз образ вызревает. Внутреннее видение включилось.
– При чем тут образ? Они ребенка хотят. Бутуза, школьника, студента. Надежу и опору, годненького, красивенького…
– Вот я его с тебя и срисую! – беззаботно пошутил Казимир.
– Грех такой!.. – вздохнула она. – Берешься – сам не знаешь, за что… Лучше бы вообще ничего не делал.
– Хороша ассистентка! – Казимир продолжал увлеченно размалевывать фанерный лист. – Ничего не делать… Чем же это лучше? Как ты это себе представляешь: вечный пахарь – и вдруг ничего не делает? Я ведь не приспособлен бить баклуши, без настоящего дела сам не свой становлюсь. Я – раб лампы…
Он отбежал на несколько шагов, чудом не столкнувшись с ассистенткой: его откинула от фанеры необходимость глянуть на творение издалека, обозреть его в целом…
Коломбина вместе со стулом сдвинулась в сторону.
– Правое плечико не закосил?
– Тело должно выражать динамику жизненных устремлений.
– А что это у нее из головы вытыкается?
– Косички, что ж еще.
– Косички? А вроде как две колбаски прилепились…
– Я же еще до детальной проработки не добрался! – прошипел Казимир. – Ты либо молча сиди, либо исчезни.
– А черточки у нее на лобике откуда?..
– Это не черточки, это складки такие. Когда человек не дурак и в голове у него мысли бродят – кожа у него над переносицей складками прессуется. Они же умницу заказывали, я и делаю умницу.
– Красить-то когда начнешь?
– Уже начинаю!
Красил вечный пахарь старательно, высунув от напряжения кончик языка и как бы повторяя им движения кисти. Потом вдруг кинулся перекрашивать почти готовое платье, решив, что набросок все же тянет больше на мальчика, для девичьего образа все несколько грубовато, а косички легко уберутся в процессе выпиливания – так даже проще будет. И никаких фити-мити, пацан есть пацан. Коломбина отнеслась к внезапному преобразованию благосклонно, хотя и продолжала удивляться деталировке: а это у него что? а здесь оно куда завернулось? – так они работали до наступления сумерек, забыв про обед, забыв про все на свете. Краску вечный пахарь использовал скоросохнущую, клеевую (после лачком пройдусь, оно закрепит!), так что лобзик был пущен в ход тем же вечером.








