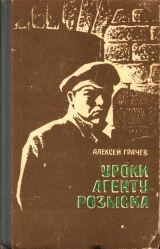
Текст книги "Уроки агенту розыска"
Автор книги: Алексей Грачев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Он не договорил – может осудил себя за то, что разговорился. Замолчал, первым стал спускаться по круче на знакомую тропу, возле берега реки. А Костю любопытство вдруг разобрало:
– А с чего бы это госпожа Добрецкая снова в городе появилась, Семен Карпович? Чего тут делать, коль добро отобрали…
Тот пожал плечами – сопнул носом.
– Кто ее знает. Может закопано где золотишко. Добра у нее много было, – все восхищенно продолжал он. – Одна люстра в гостиной, что тебе в императорском, наверное, дворце. Серебром окручена, да с золотыми вензелями. Как зажжет бывало – с улицы глянешь – батюшки, мои – солнце встало средь ночи. Чека конфисковала люстру, и куда подевала, не ведаю.
– Не революция, так буржуи свое добро не отдали бы народу – солидно сказал Костя. Семен Карпович засмеялся:
– Уж это точно, Константин. Только ты думаешь вечно они были такие богатые?
И сам ответил:
– Не-е-ет. С малого начинали и они, эти наши буржуи. Госпожа Добрецкая самой захудалой мещаночкой была когда-то. А то еще вот Ковалев Иван. Он гостиницу «Англия» держал у вокзала. Двухэтажная, из бревен, черепицей крытая. Биллиарды в подвале, на втором этаже номера, а на первом – зал с люстрами. Не хуже чем у госпожи Добрецкой. Эстрада, а на эстраде певица. Истеричка такая была, Аскольдская Матильда. За фужер шампанского к кому угодно на колени сядет бывало. Всегда в платке, потому что от тифу повыпали, волосы на голове, пальцы в кольцах – сам Иван ее награждал, – за пение или что еще не знаю, не пришлось вести дознание. Старик Иван, а она молодая, ну и егозила перед ним… Так к чему я это. К тому что богач был Иван, а начинал с подмастерьев. И где первый денежный кирпич взял для кладки своего богатства – тоже никому неведомо. Может хлопнул кого из кольта, или удавил. А жил, как король. Вот те и буржуй.
Теперь Ивана Евграфовича возьми. Еще бы годик и открыл бы он свой фирменный ресторан. Хвастался мне перед февралем. Мол, скоро и он уважаемым станет человеком, вроде «отца города». Накопил деньжат, видно, немало. Не брезговал он ничем. Для него, коль деньги имеет посетитель, – хоть в рубище, хоть он бандит, хоть проститутка – он около тебя, «барыню» спляшет и мазурку станцует. Лебезил, из кожи лез, что змея из своей старой шкуры. Зато и уважали его, сыпали на «чай», не считая, можно сказать. Тот же Коля, бывало, если появлялся, в «Царьграде», то к нему за стол садился. В простеньком всегда пиджачке, простенькой рубашке. Всегда с подручными. Сидит, молчит, зорко по сторонам поглядывает. Никогда не пьянел. Меня коль видел, подымался и кланялся вежливо. Ну я, коль зря, без «дела» коль, не трогал его…
– А вы же говорили Ивану Дмитриевичу, что только один раз видели его, – вырвалось у Кости. – В шестнадцатом году, когда он ювелирный магазин взял. Еще с дядей Тихоном Федоровым…
И опять Семен Карпович хохотнул коротко, обнял Костю за плечи – едва не мазнул утиным носиком по плечу:
– Ишь ты, а память у тебя, Константин, все же что надо. Настоящая для сыска память. А что говорил…
Тут он насупился, скривил губы:
– Так не зачем было вести разговор. Пустой он был бы. Ну, сидел в ресторанах Коля после налетов. Пил шампанское, музыку любил, резался в штосс в отдельных номерах. Вот тогда-то может немало перепало Ивану Евграфовичу… Так он и копил капитал, обслуживая тузов: то карточников, то налетчиков, то спекулянтов. И весь его труд напрасный теперь…
– Но ведь это нечестный труд, – воскликнул огорченно Костя, – Семен Карпович, ведь это тоже воровство. Один украл, а другой у него украл…
Шаманов совсем поскучнел, помрачнел. Отнял руку с плеча Кости, как обжег ее. Хмуро сказал:
– Думаешь нечестный?.. Ну-ну… Живи честным трудом вроде меня. Заимеешь тоже иконы, да катар кишок…
Хотел еще что-то сказать, да махнул рукой, побрел в ворота «дома сыщиков». Доносился из двора пронзительный крик Ольги, жены Силантия.
– Я тебе покажу Феклу Ивановну. Я тебе как-нибудь переломаю ноги костлявые.
Что-то кричала в ответ сестра Семена Карповича. Наверное, опять плеснула помои к каретнику Силантия. Послышался теперь негромкий басок Семена Карповича – уговаривал Варвару и Ольгу.
Костя остался на улице. Почему-то неприятный осадок лег в душу от этого разговора, в чем-то он ему не понравился, огорчил. Казалось, что Семен Карпович не высказал ему всех своих дум до конца, чем-то он обижен, неспроста защищает он Ивана Ковалева и госпожу Добрецкую и Ивана Евграфовича…
Солнце опускалось за город, утягивая за собой светлые нити лучей. Изредка опахивало с реки свежестью. С мостков доносились шлепки белья, плеск воды, звон. По тропам проходили женщины, неся на коромыслах ведра, корзины. В далеком углу улицы запела хрипло гармонь. Через дорогу на глинистом пятачке рядом с колодцем несколько пареньков играли в городки. Летели тяжелые палки, гулко стукаясь о землю. Сбитый «поп» катился стремительно в траву. Выхваченный оттуда, снова застывал посреди квадрата. Парнишки были как на подбор, лет по пятнадцать: белоголовые, встрепанные и азартные. Заметив, что Костя смотрит с любопытством на игру, один из них, повыше ростом, длиннорукий, крикнул:
– Иди, эй… Если хочешь…
Недолго думая, Костя скинул пиджак, бросил его на чугунную тумбу. Игра захватила, заставила забыть, что он уже не босоногий мальчишка из Фандеково, а штатный сотрудник уголовного розыска. Швыряя палку, бежал за «попом», пыля сапогами, утирая пот рукавом рубахи. И чудилось, что он в Фандекове, что кругом знакомые избы, а под горкой река и дым костров из лесов вместо этих пыльных клубов, повисших над их головами. Вдруг как опомнился, оглядел окна домов – кой-где увидел за стеклами глаза. Подумал: «Ишь, как маленький разыгрался». Вытер лоб рукавом и пошел к тумбе, чувствуя каким-то пристыженным себя.
И осознал еще с тоской в сердце, что в последний раз как бы явилось к нему детство. Явилось, чтобы уйти теперь, с сегодняшнего вечера, безвозвратно в прошлое, оставив на смену юность и эти полуголодные дни, заботы о тревожном завтрашнем дне.
21
Агенты искали следы Артемьева. Несколько раз Грахов с Канариным обошли прилегающие к станции улицы, облазали пустыри и овраги. Опросили всех, кого можно было опросить.
– Даже грудных ребят пробовали разговорить, – жаловался шутливо Ваня Грахов. – Только мычат. И взрослые тоже только машут руками. Дескать, надоели мы им. Может и слышали что, да помалкивают.
Ничего не знали и базарные барыги, которых забирали с табаком, с ландрином, с мукой. Все имели свои источники для спекуляции, не имеющие связи с интендантским складом. Тот же Кирилл Локотков на допросе говорил следователю горячо:
– Сами посудите, господин следователь, к чему мне союз с Колей. Чтобы влепили в грудь свинцового Станислава? Нет уж, лучше я подожду до хороших времен. Лучше под конвоем буду ретирадные ямы чистить, да скоблить…
Помалкивали взятые под стражу громилы. Нет, они ничего не слышали. Нет, они в жизнь не видели какой из себя Артемьев. Или отвечали, как ответил Семену Карповичу Огурец: «Мы люди маленькие»…
Яров даже объявление дал в газете. На последней странице в черном квадратике прочли жители губернии, что если они знают об Артемьеве, пусть сообщат немедленно в уголовную милицию по нижеследующему адресу…
Но однажды угрозыск пришел в движение. Поступила секретная информация о том, что в одной из деревень под городом появился Василий Артемьев. Сообщалось далее в информации, что принял его торговец шкурами Нил Капризов, что натопил он баню, а воду из реки таскал сам гость. Половина боевого состава собралась тотчас же в дорогу. До железнодорожного лесного перегона доехали на дрезине, а дальше двинулись проселками, через деревни. В них было пустынно. Лишь старики, да старухи, да малые дети. На улицах валялись бороны и сохи, раздерганные телеги, тлели трупы лошадей. Потыкались в сожженные хлеба телеграфные столбы, провода паутиной вились под ногами. А то перерезали путь траншеи и окопы и в них банки из-под пороха, пустые патронные гильзы, отломанные штыки, разбитые в щепу приклады винтовок, ржавые бинты. Здесь недавно еще шли бои с Озимовым – как железной гребенкой прочесала война землю…
Шли ходко, лишь раз остановились на берегу родниковой речонки, укрывшейся в густом камыше. Плескались, как утки, вытирали потные лица подолами рубах, носовыми платками, фуражками, валились в траву, пахнувшую болотной гнилью. Из лесов, вставших сразу же за речонкой, несло ароматом сухого сена, малины, цветочной прели. Мрачно чернели просеки меж могучими стволами сосен, берез. И почудилось раз Косте, что ходят там, за этими заскорузлыми стволами люди, на кепках которых скрещенные листья. Наблюдают, как во весь рост нетерпеливо расхаживает по топкой траве Яров, как палит папиросу Ваня Грахов, как раскинувшись на спине смотрит Карасев сквозь стекла пенсне на плывущие по небу облака, как сняв фуражку аккуратно расчесывает мокрые волосы гребнем плечистый, крепко сложенный, Канарин. Наблюдают и о чем-то переговариваются вполголоса. Но вот по одной команде вскинут винтовки и закричат от боли его товарищи, повалятся – кто в траву, кто головой вниз в эту бегущую безмятежно мимо песчаную рябь речонки. И стало жутко на миг, крепче стиснул в кармане кольт.
Успокоил ворчливый голос Струнина. Перематывая портянки, ругал Ярова за то, что вместе с Шамановым и Савельевым хотел было и инспектора оставить в городе:
– Совсем ты меня в старики зачислил, Иван Дмитриевич. А знаешь сколько верст я прошел в мировую? Или ты не видел, как я стрелял по белогвардейской сволочи? Ведь вместе лежали в окопе, одну землю да пыль глотали, вместе наступали. А тут – побудь в городе, путь, дескать, быстрый да долгий для твоих стариковских ног. Эх, ты, Дмитрич…
Яров лишь улыбнулся. Думал он, видно, о другом и плохо понимал ворчание своего фронтового старшего товарища. Расхаживал все так же без устали и без конца по узенькой тропке. Смачно всхлипывала коричневая жижа под сапогами из яловой кожи. И все поглядывал на леса, на деревню, очертания которой всплыли над холмами, – крышами, купами деревьев, стогами за околицей и в поле. Как поняв о чем он думает, Ваня Грахов проговорил:
– Я бы, Иван Дмитриевич, не стал его брать сейчас. Засаду бы выставить, да проследить. По его следу к банде можно было бы придти.
– А если у него конь, – не подымая головы, все так же разглядывая синеющее небо, сказал Карасев. – Тогда как? Догонишь если, то можно и засаду…
– Конь ладно, – задумчиво потирая подбородок, ответил Яров. – А ну кто заметит засаду, донесет ему. И живым не возьмешь, да и стрельба начнется. Нет, – решительно закончил он, – надо его арестовывать. А потом в дорогу.
К деревне подошли уже в сумерках. Быстро оцепили высокий под железом дом в ложбинке возле пруда. Окна его были черны. Эту черноту еще больше оттеняли три ствола древних берез, подымающихся из сада. Свисали на острые колья ветви с яблоками. Дверь в низенький хлев была приоткрыта, оттуда сочился бледноватый вздрагивающий свет, доносились приглушенные голоса, покашливание. Вошли все, с оружием наготове. Возле порога на чурбаке сидел высокий парень, голый по пояс, в диагоналевых брюках, галошах на босу ногу, в черном картузе на голове. Лицо его было желто от света керосиновой лампы, стоявшей в ногах. В одной руке он держал окровавленный нож, другой придерживал подвешенную, к жерди зарезанную овцу. Увидев вошедших, парень опустил руку с ножом и проговорил растерянно:
– Вот тебе и гости, Нил Петрович…
Толстый человек в нижней полотняной рубахе, с гривой седых волос, спадавших на плечи, как у попа, вытиравший руки о полотенце, обернулся резко и воскликнул:
– О, господи…
Разогнул спину, опустил руки, выронил полотенце, на земляной пол. Но тут же после вторичной команды Ярова поднял их вверх. Парень тоже бросил нож под ноги и, не подымаясь с чурбака, растопырил пальцы рук над головой. В то же время зорко и воровато забегал глазами по кителю, лежавшему возле чурбака.
Обоих обыскали. В кителе нашли револьвер с тремя патронами, и папиросы-самоделки.
– Табачок, Василий, не из интендантского склада? – как бы невзначай спросил Иван Дмитриевич, разглядывая папиросную гильзу со всех сторон. Василий ответил в нос и отрывисто:
– Не спрашивал у торговки.
– Не любопытный, значит?
– А чего мне.
Он поднялся, навис над маленьким Яровым – широкоплечий, с крепкой грудью, вздрагивающими мышцами рук. Лицо его было бы красиво, если бы не резко выдающиеся скулы, отчего щеки запали в глубокие впадины. Ноздри крупного носа двигались нервно, как будто раздражал его запах дымящегося керосина, овечьей крови.
– Может торговку запомнил? При случае покажешь…
Василий вздохнул шумно, подумал, прежде чем ответить на этот вопрос.
– На базарах все на одно лицо. Да и чего мне запоминать. Купил да пошел в сторону.
– Купил да пошел, – повторил Яров.
Он сунул коробку с папиросами в карман гимнастерки, обернулся к агентам:
– Обыскать все вокруг. Да понятых найдите, чтобы все как полагается по закону. И чтобы протокол был тоже к ордеру на обыск.
– Мяско кому готовили? – спросил он снова Василия. Не ожидая ответа, положил на жерди китель. – Не брату? Или может Гордо захотел плов по-литовски сготовить? Или Мама-Волки отощал?..
Он задел плечом овцу, туша заколыхалась, заскрипела натужно жердь. Василий ухмыльнулся и было жутковато видеть эту улыбку, открывавшую редкие темные зубы. Да еще около окровавленной туши, в пляшущем свете погасающей видно лампы, под дулами наганов.
– У нас дороги разные…
– Это с той поры как вы положили двух агентов в угрозыске, – быстро и зло спросил Яров. И подался вперед, как собираясь боднуть головой в плоский живот стоявшего перед ним бандита. Тот погасил улыбку и зябко поежился, точно дунул порыв ледяного февральского ветра сквозь приоткрытую дверь.
– Вы бы не обижались на Колю, – мягко попросил он. – У Коли собачья жизнь вышла. Сам голодал, а троих сестренок кормил. В тюрьме его крепко били мокрыми полотенцами, до полусмерти, зубы-коренники все высадили, ребра живого нет.
– Может в санаторий его, – предложил язвительно Яров. – На отдых. Только почему же сам из рабочих, а стреляет тоже в рабочих.
– Не обижайтесь на Колю, – помолчав, опять тихо и мягко попросил парень. – Не любит он людей, кто с тюрьмой имеет дело…
– Ну, хватит, – оборвал его Яров. – Адвокат нашелся. Сам-то понимаешь, что тебе грозит…
– Я что, – махнул рукой Василий.
– Где Коля?
Василий развел руками:
– Как бежали тогда в разные стороны, так с той поры и не встречались. Вроде зайца прятался по кустам в лесу.
– Может покажешь, где прятался в лесу?
– Да разве ж найдешь, – опять улыбнулся криво Василий и покосился на копошащегося под лесенкой Струнина. Тот ворошил палки, какие-то колеса, гремящие банки, чихал и кашлял от пыли. В доме тоже доносился стук и топот каблуков, голоса, среди них выделяющийся, женский. Яров тоже посмотрел мельком на Струнина, усмехнувшись, спросил:
– Знать у тебя плохая стала память, Василий…
– Что поделаешь, – покорно ответил тот и вздохнул, сплюнул под ноги. Попросил грубо и опять отрывисто в нос:
– Долго мы так с поднятыми руками стоять будем? Как овцы подвешенные.
– Сколько надо, столько и постоишь, – ответил за Ярова Струнин. – Ишь, какой нетерпеливый.
Торговец шкурами тоже двинулся наконец-то. И это его движение вынесло Ярову решение:
– Ладно, в городе может разговорятся. Одевайся…
Он бросил Василию китель и обернулся к торговцу:
– И ты, гражданин, пойдешь с нами…
– Это я-то за что же? – взвыл тоненько торговец. – За то, что овцу свою собственную зарезал или как?
– За укрытие бандита пока…
Яров прислушался к топоту ног во дворе, прибавил тихо:
– Да вот еще что обыск даст. Посмотрим…
Появились Грахов с Канариным, принесли винтовку японского образца, фонарь электрический, горсть револьверных патронов, полевой бинокль.
– Ну, вот тебе еще статья. Хранение оружия… Так что давай-ка руки, свяжем мы их. А то хоть и стар ты, Нил, а тягу чего доброго запустишь…
– Хоть бы с женой дали попрощаться, – попросил уныло Капризов. Грахов, завернув ему руки за спину, отрезал:
– И без прощанья обойдешься. Шепнешь еще чего доброго ей на ухо. Мол, так и так ребятки… Где твои сыновья-то? Не в лесу прячутся? Говорят что в дезертирах они оба…
Мужик промолчал.
– Тоже, может быть, вяжут им руки сейчас, – сказал весело Василий, натягивая китель прямо на голое тело. – Вот так же как и папаше.
– За хорошие дела руки не будут вязать, – ответил ему на это Яров. Он оглядел его одетого в китель, покачал сокрушенно головой:
– Добрый и работящий ты был парень, Василий. Помнят тебя в Татарской слободе. Лампы паял хорошо, самовары лудил, и стекла вставить мог чинно. А вот защищать республику не пожелал. Лучше в дезертирах решил. А от дезертира до бандита оказался один шаг.
Василий удивленно уставился на Ярова. И даже голову склонил. Попытался улыбнуться, но улыбка получилась жалкая и быстро погасла:
– А откуда ты знаешь про меня?
– Мне положено знать.
– Это верно, – согласился тот. Добавил уже с искренней грустью: – Насчет ваших слов, товарищ комиссар, так скажу, что все мы хотим хорошего, а плохое само получается…
Яров подтолкнул его слегка, и он шагнул через порог в сумерки.
Шел и все клонил голову, как искал что-то на этой жесткой глинистой тропе. А то рыскал головой на избы, возле которых тенями возвышались редкие жители. Оглянулся лишь раз, когда тонко и пронзительно закричал торговец шкурами своей жене. Стояла она у края дороги, скрестив руки на груди, с виду спокойная, безразличная, но вот вскрикнула тоже, и понесся по деревне ее стонущий плач.
– О господи, о господи, – шептал, спотыкаясь о кочки торговец. Василий сказал громко один раз:
– Этот господь для нас с тобой, Нил Петрович, теперь суд да пуля.
И было столько веселья в этой страшной фразе, что Костя вздрогнул. Наверное и другим стало не по себе, Тихо проговорил Струнин шагающему позади всех Ярову:
– Разве такой варнак разговорится.
– Ничего, – после долгого молчания ответил ему Яров. – Языки при себе у обоих, не откусили еще пока…
22
Несколько раз приводили Василия на допросы из каземата. Он молчал и лишь однажды высказал с глухой тоской в голосе:
– Скажу – положите, не скажу – тоже положите. Лучше не брать грех на душу.
И перекрестился. А поздней осенью был приговорен губревтрибуналом к высшей мере наказания.
Торговец кожами заговорил сразу. На первом же допросе попал на эту самую мульку.
– Рассказывай, Нил Капризов, как ты вступил в преступный сговор с бандитами, – начал с ним разговор Яров. Не успел торговец открыть рта, прибавил: – И как ты хранил ворованное с сыновьями в лесной землянке. Откуда оно у тебя?
Этот человек, не искушенный в уголовных делах, имевший всю жизнь дело с кожами, принял его слова за чистую монету. Он повалился со стула к ногам Ярова, завыл тонко и дико. Из его бессвязных слов можно было понять, что кто-то соблазнил, запугал темного деревенского мужика. Сколько бы стукался он лбом об пол, не подними его Яров, не поднеси ему стакан с водой. После этого Капризов затих, заговорил уже успокоенно. Оказывается, узнал Василий, приходящийся ему дальней родней, о том, что сбежали из армии сыновья Капризова, узнал, что прячутся они в лесной землянке. Как-то по весне пришел и предложил помочь ему в одном деле. В случае, если бы отказался Нил, тогда бы сыновья познакомились с Чрезвычайкомом. Вот и поехал он, безмозглый, человек, в город с подводой, а оттуда повез в лес эти самые фуфайки, да шаровары, да шинелишки. Пообещал ему еще Василий, что бояться нечего, что, мол, скоро власть переменится и будет ему, Нилу Капризову, за подмогу благо великое.
Рассказывал тихо, посапывая, как всхлипывая, и все упрашивал, чтобы пощадили его сыновей. Яров, выслушав, сказал ему в ответ:
– Сам воровал, сам и поедешь за товаром.
Лишь в деревне Капризов заподозрил неладное. Наверное, навели на подозрение конные милиционеры летучего отряда, приданные угрозыску. Потребовал, чтобы ему показали арестованных сыновей. Яров, озлившись, показал ему револьвер:
– Хочешь видеть живыми сыновей, поедешь…
И этим окончательно убедил мужика, что провели его в уголовном розыске, но лошадь запряг Капризов. Потом ревел посреди лесной поляны, глядя на сбившихся в кучу дезертиров и среди них двух его сыновей – похожих на него – толстых, высоких, в замятых шинелях, папахах, с одутловатыми лицами. Тупо и безучастно смотрели на отца, вроде как был он для них чужой и незнакомый. А в землянке, под полом, отыскался и товар из интендантского склада: фуфайки, белые маскировочные халаты, шаровары, матросские рубахи, кальсоны, рубашки.
– А продукты где? – невесело спросил Яров торговца. – Должны быть еще мука, ландрин, махорка?
– Этого я не знаю, – ответил Нил, – может на второй лошади увезли. Был еще безбородый старик, маленький, в балахоне, на гнедой лошади. Куда он поехал и откуда он сам – не знаю. Не докладывали мне налетчики. Самих-то их толком не разглядел – ночь была.
На другой день в уголовной милиции Яров собрал сотрудников. Всем и без его слов было понятно, что неспроста Василий Артемьев сулил Капризову великие блага, значит, связан с белогвардейским подпольем. Не оживились и не высказали особой радости, узнав о старике на гнедой лошади. Таких стариков с гнедыми лошадьми в городе была уйма. Семен Карпович прежде всего вспомнил извозчика при бане, который не то что в налетах, еле ноги уже таскает по земле. Савельев тоже вставил свое:
– В рабоче-крестьянской инспекции Иван Иванович на лошади служит, так человек этот вина поднеси – не примет, не то что с уголовным миром затевать «дело».
Яров поднялся с непримиримым лицом, навалился на стол пальцами, хмуро оглядел собравшихся. Сказал, как вынес приговор:
– Всех под наблюдение: и тех, кто еле ноги таскает, и тех, кто вино не употребляет. Подозрительных на обыск.
С одним из таких обысков Костя, Семен Карпович и Савельев пришли к лавочнику Ферапонту Луканичеву. Стоял дом Ферапонта возле Волги, на отшибе. Одни окна выходили на реку, другие на овраг, заросший крапивой, заплывший мутной водой, заваленный сором. Низ дома был каменный, верх для жилья – бревенчатый. В бывшей лавке они увидели лишь пустые лари, разбросанные поломанные весы, развороченные, точно топорами, деревянные стойки, клочья от мешков. В жилых комнатах тоже все было сдвинуто, разбросано – казалось, хозяева куда-то собрались бежать, да задержало что-то. Две женщины, какие-то безликие и безмолвные, сидели на кроватях – смотрели на агентов со страхом. Сам хозяин дома – старик с белой до пояса бородой, розовощекий, что перезревшее яблоко, с гладеньким безволосым черепом, в парусиновой блузе, подпоясанной ремешком, валенках, встретил агентов радушно. Даже спросил Семена Карповича про здоровье, пожаловался на свои ноги – мол, опухают, дрябнут. В общем, ничуть не показал виду, что к нему пришли с обыском, а вроде как дорогие родичи пожаловали на церковный праздник. Ходил следом за ними по маленьким и тесным комнатам, пропахшим сыростью, ладаном от горевших лампадок под образами, какими-то едкими лекарствами – помогал отодвигать столы, стулья, раскрывал визгливые дверцы шкафов, отомкнул с прибауткой здоровенный сундучище. Сам выгреб пронафталиненные саки, полушубки романовские, тряпье, годное только на ветошки. Тенью двигался за ним его бывший работник – глухонемой парень – косматый, длиннорукий, скуластый. Крутил головой по сторонам, точно птица, следил за движением губ хозяина, за движением его рук. Один знак бы ему – и бросился бы на агентов, ломая им кости этими тяжелыми кулаками. Но хозяин ни о чем не беспокоился – он все посмеивался, а то принимался жаловаться на времена.
– С чего бы я своих дочерей да внуков в деревню отправил, Семен Карпович? От хорошей да сытой жизни. Сам корочкой питаюсь да квасом, да молитвами. Хорошо еще, что бога не реквизируешь.
– Это верно, – согласился, улыбнувшись Семен Карпович, – разве только, что если голову снимешь с плеч. А погребочек где у тебя, Ферапонт Илларионович? Не во дворе?
Наверное, в глазах старика успел заметить какое-то замешательство, хмыкнул удовлетворенно.
– Какой тебе погребок, Семен Карпович, – спускаясь вслед за ним по осклизлой деревянной лестнице, покрикивал уже обеспокоенно Ферапонт. – С чего бы… Да ну коль не веришь, ищи. Вон тебе и сарай с лошадью. Обыскивай – я весь нараспашку. Коль за душой ничего не прятал, душа прозрачная…
– Прозрачная, значит, – бормотал Семен Карпович, обходя сарай, остукивая углы. Всхрапывала сонно, стукала копытами гнедой масти лошадь. Семен Карпович похлопал ее по морде, как будто хотел спросить о чем-то. Подмигнул Косте зачем-то и ни слова не говоря, вдруг пошел к оврагу. Остановился возле заржавелых балок, сваленных грудой возле забора и оглянулся на Ферапонта, пристально глядевшего на него, на глухонемого, сжавшего кулаки за спиной Николая Николаевича. В наступившей резкой тишине услышал Костя и шум листвы от предутреннего ветерка, плеск волн, внизу под кручей, тяжелое дыхание Ферапонта, сопенье Семена Карповича.
– Откуда балки, Ферапонт Илларионович? От гимназии натаскал? А главное для чего? На постройку если, так не поверишь. Себе на могильный памятник – так некрасивый получится из такой ржави.
Хозяин молчал, только хахакнул и потер бороду. Семен Карпович опять мигнул Косте и Савельеву. Втроем они принялись оттаскивать балки в сторону, вдыхая растревоженный железом горький запах полыни. Такая же горечь поплыла меж зубами у Кости. Он сплюнул и тут увидел припорошенный землей люк. Его подняли разом и открылся в земле неглубокий с осыпавшимися стенами погребок. Чернели в глубине две бочки, годные для засолки огурцов или капусты. В одной из них хранился изюм, в другой почерневшая засохшая мука. Бочки вытащили на землю – и вот тут не выдержал Ферапонт Луканичев. Он взмахнул костлявым кулаком, закричал:
– По миру пускаешь меня, Семен Карпович. Уморить хочешь голодной смертью.
Рыкнув, шатнулся было к ним глухонемой, но остановился, увидев дуло нагана в руке Николая Николаевича. Послышался его насмешливый и злой голос:
– Все слежу я за твоим слугой, Ферапонт Илларионович. Эк, пса натаскал. Чистый волкодав. Вели ему убраться в сторону, а то ненароком положим его в этот погребок.
Ферапонт обмяк сразу, махнул рукой глухонемому. Тот потоптался, присел на корточки. А старик, уже плачущим голосом, стал выкрикивать:
– Выслуживаешься, ты Семен Карпович. Бывало раньше обходил нас стороной, не трогал без нужды, ели хлеб и соль пополам. Теперь отнимаешь на манер комиссаров.
– То ли еще отняла кой у кого революция – глухо ответил ему Семен Карпович, отряхивая фуражку. – А то эка – изюм, да мука…
Он постучал сапогом по бочке, уже с каким-то удовольствием прибавил:
– Подкормим, глядишь, пролетариат, голодных рабов…
И подумал невольно тут Костя: вот ведь, ругал Шаманова Иван Дмитриевич Яров, будет он чужой для революции, мол, наплевать ему на нее, а Семен Карпович отыскал продукты. Коль чужой был бы, не открыл бы этот погребок, ушел бы, и дело с концом. Не стал бы обижать бывшего лавочника – вон как ненавидит сейчас он Семена Карповича. Снова стали симпатичны ему эти черные усики, капризная губа, выгнутый носик, красные сапоги, фуражка, запачканная землей и мукой.
– Иван Дмитриевич похвалит вас теперь, Семен Карпович. Вон сколько муки да изюму…
Шаманов усмехнулся, услышав эти слова:
– Его похвальбы мне, Константин, не дождаться. Разве что если Колю заметем мы с Николаем Николаевичем.
Савельев, пряча папиросу, в ладонях, отворачиваясь от ветерка, летящего с реки, вмешался в разговор:
– Слышал я вчера, будто наказали из комитета партии взять Артемьева в августе. Строго наказали, а то и не усидеть вроде бы Ярову на своем стуле…
Он обернулся к старику, застывшему на месте, прикрикнул:
– Чего встал – запрягай лошадь, повезем добро в милицию. Ну… – прикрикнул он и выругался матерно. Старик похромал к сараю, а Савельев, пристально глядя ему вслед, спросил Шаманова:
– Как думаешь – не из склада эта мука с изюмом?
Семен Карпович покачал головой:
– На складе изюма не было. И мука старая, залежалая. Из своей лавки берег старик, это уж точно. Одна только и есть улика, что старик да гнедая лошадь.
23
В первых числах августа ушел на фронт бывший матрос с крейсера «Баян» Македон Капустин и утонула Настя. Узнал об этом Костя, вернувшись из уезда, где несколько дней разыскивал угнанную конокрадом лошадь. Лошадь нашел, вернул хозяевам, а конокрада – парня крикливого и злого, что оса, пригнал в город, в уголовный розыск.
Здесь на удивление было тихо. Лишь в камере, за барьером, на куче тряпья, похрапывал мужчина, наверное, задержанный за праздношатательство или бесписьменность. На скамье для арестованных сидели, толкуя о чем-то Николай Николаевич и Ваня Грахов. Рядом с ними обедал Семен Карпович. Он совал в корзиночку-плетенку огурец, макая его в соль и хрустел смачно, с любопытством при этом разглядывая Костю, грязного, потного, прокопченного ветрами и солнцем, покрытого пылью с ног до головы. И злющего тоже, голодного. Поняв это, протянул вареную картошину, огурец, кусок хлеба.
– Сегодня могу поделиться, а завтра полудневной паек отдавать всем придется в пользу Красной Армии. А потом чайку попьешь, – постукал он по бутылке, выглядывавшей из корзинки. – Вот так и я нажил со временем буркотню в брюхе. Сегодня не ешь, не пей, да завтра, а может и послезавтра.
Он вздохнул, снова принялся хрупать остатками огурца, да вспомнил:
– А у нас новость во дворе, Константин. Настька, дочь Силантия, потонула. Три дня не была дома. Силантий заявлял нам. И Ольга его забегала ко мне не раз. Думали все, что сбежала с каким-нибудь гусаром. А день тому назад отыскалась в Волге, утянуло за аэропланный завод. Посмотрел Силантий – признал, ревел белугой. Дочка от первой жены, любимица. Говорят водой накачало ее так, что словно водолаз стала…
Он вытащил бутылку, отпил глоток – протянул Косте. Тот взял, точно во сне, отпил глоток и, вытерев пыльным рукавом губы, спросил хрипло:
– Ну?
– А что ну, – спокойно отозвался Семен Карпович, аккуратно уставляя бутылку на место. – Сегодня хоронить будет Силантий.
– С попом собирается хоронить, – тоже как показалось Косте, равнодушно сказал Николай Николаевич. – Красивая была девка, что и говорить. Нюхалась только больно много с парнями. Падка на гулянки. Полночь ли не полночь, а всегда с кем-нибудь у каретника маячит.
Семен Карпович закрыл замочек на корзинке, положил ключ в карман. Потом, щелкнув портсигаром, принялся сворачивать папиросу.








