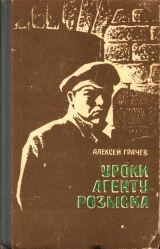
Текст книги "Уроки агенту розыска"
Автор книги: Алексей Грачев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
– Господи, в ткачи хотел… Или не видишь, что творится кругом. Дезертиров полно в лесах.
– Не бойся, – успокоил, – я обученный всему.
Рассказал матери и о том, как он приехал в город, как встретил Александру Ивановну, как устроился на работу, расхвалил своего учителя Семена Карповича. Да поговорить много не пришлось: мимо двинулся народ на сходку. Положил мешок в сени и тоже с матерью пошли к избе старосты, огромному пятистенку. На каменном фундаменте и высоких ступеньках крыльца, в сенях повиснув на подоконниках – все люди. В избе жара, духота, табачный дым, как синий туман.
Огляделся, надеясь увидеть Марию, но кругом лишь пожилой степенный народ – старики, старухи, женщины помоложе вроде Костиной матери. В красном углу за столом, накрытым нарядной скатертью, несколько человек: начальник милиции в зеленом военном обмундировании, рядом с ним военком, бритый наголо и толстый, под окнами старик Дубинин с суровым лицом, и незнакомый мужчина из волисполкома. Вот он склонился к военкому, сказал что-то и тот поднялся грузно из-за стола, оглядывая собравшихся жителей села. Гомон стал постепенно затихать, оставляя лишь глухой кашель.
– А не выведете завтра лошадей, будем считать вас врагами советской власти. Долгие разговоры только на пользу Деникину.
Деревенские богатеи, сидевшие кучкой возле окна, закрутили головами. Поднялся Камышов, улыбаясь, а руки не находили покоя: то за спину их спрячет, то в карманы сунет.
– Что ж это получается, советские граждане комиссары? У кого ничего нет, тот и царь, и господин нынче. А кто горбом своим нажил хозяйство – тот паразит и враг советской власти. Запустили нам сначала революционный налог – ни много, ни мало – мне надо две тысячи выложить, надо хлеб свезти задарма, а теперь и самую ходячую лошадь со двора – а пахать на себе. А может лучше петлю на шею да к ногам всевышнего каяться в грехах…
– Вот-вот, – так и подскочил Петр Петрович, – пора тебе в грехах каяться. Чужим потому что горбом, а не своим нажил ты хозяйство. Сколько леса ты продал как был в лесниках? У Федора Бекренева надел задарма купил, перепродал в три раза дороже, избу у Никитича перекупил и тоже продал по «божеской» цене, а сезонных рабочих на покосе как надувал, вспомни. Как работников своих шпынял, шую, мне лично, за хорошее зерно ссужал…
– Ах ты, гнида, – заверещал, потрясая над головой кулачищем, Камышов, словно позабыв совсем, что перед ним сейчас не просто односельчанин Дубинин, а волостной милиционер, – у тебя-то добра один колун.
Петр Петрович тоже взбеленился:
– Если я гнида, – сорвал он в крике голос, – то ты вошь толстопузая и таких как ты, я стрелял в прошлом году на Дону вот из этого австрийского карабина.
Согнувшись, потащил из-за стула, короткий, поблескивающий вороненым стволом, карабин. Сходка так и ахнула. Кто-то визгнул, кто-то затолкался к выходу. А Камышов еще больше выкатил желтые совиные глаза и сделал шаг назад, как собираясь бежать в толпу.
Усмирил Дубинина начальник милиции. Он усадил его на свое место и строго погрозил пальцем. После этого поднялся и погрозил уже Камышову:
– Мы вас, гражданин, можем арестовать за оскорбление должностного лица, вообще если будет такая кутерьма, то вызовем конную милицию.
– Во-во, – злорадно буркнул из угла Егор Иванович Побегалов, – с этого бы и начинали. А то сходку зачем-то собрали, речи красивые ведете.
Военком пояснил раздраженно:
– Добром потому что хотим уладить. Как вы, граждане, не поймете, что Красная Армия ждет коней. Чтобы отразить наступление Деникина, нам нужна большая конная сила…
– Добром отбираете, – крикнул сидевший рядом с отцом Митька Побегалов. Крикнул и испугался, опустил голову чуть не к коленям.
Опять сходка ахнула от такой дерзости. Егор Иванович звонко треснул сына по загривку и, обращаясь к начальству из уезда, извиняющим голосом попросил прощения за сына.
– Малахольный он у меня какой-то, так что не обращайте, товарищи власти, на него внимания. А уже дома я с ним покруче еще поговорю, выбью дурь из головы…
И еще раз шлепнул сына по затылку. Уж кого бы Костя отвез в город в розыскное бюро, так это Митьку. Ишь разоделся: в картузе с лакированным козырьком, в атласной голубой рубашке, подпоясанной тонким ремешком с металлическими насечками. Присмирел, будто и нет его здесь в избе.
С руганью забуравился из сеней в избу Епифан Сажин, еще один из сельских богатеев, торговец цикорием – старик уже, высокий и костлявый, с красивым лицом. Был Епифан крепко пьян, видно падал, пока шел на сходку, насобирал на длиннополый темный пиджак птичьего пуху, свежего куриного помета. Шмыгнув мокрым носом, погрозил кулаком и закричал тонким звонким голосом:
– А Деникин на Москву уже наступает. Скоро и сюда придет. Тогда вам, господа революционеры, придется туго. Защучат вас под жабры. Придется тогда наше барахло да хлеб из своей мошны трусить…
Тут уж и начальник милиции не выдержал, нагнулся к Дубинину. И по рядам шорохом листьев его слова:
– Взять и препроводить завтра в уезд… взять и препроводить за распространение слухов…
Епифана вытянули в толпу, оттуда на крыльцо.
Стоявшая впереди соседка Пахомовых на посаде, проговорила, обращаясь почему-то к Косте:
– Похлебает теперь Епифан водицы. А то и вовсе домой не вернется. Теперь больно много с богатеями не разбираются, слышала я.
Кто-то из толпы:
– А Озимов рядом, вот и смелые. Защитников из лесу ждут со дня на день. Можно агитировать…
Навел порядок на сходке староста Игнат Ильич Кривов. Поднялся он со скамьи, постукал в стену костяшками пальцев. Розовый с проплешинами в седых лохмах волос, с бородищей, из которой лишь мясистый нос, да оскал черных обломков зубов:
– Вот так-то лучше. Пусть говорят власти. А ваше дело слушать, да помалкивать, да выполнять советы…
Тишина в избе, ровный спокойный голос военкома успокоили Костю. Ну, сходка и сходка. Разве раньше не ругались мужики. Из-за покосов хотя бы. Чуть до драки не доходило дело. Да все миром кончалось. И здесь все утрясется. Пошумят мужики, да согласятся. Помогать надо же Красной Армии. А вот Мария могла обидеться или возьмет да и уедет куда-нибудь сегодня, а ему завтра утром уже надлежит быть на службе, в цейхгауз больницы собирались с Семеном Карповичем.
– Я отлучусь, – сказал матери и стал пробираться к выходу. Возле дверей как кто дернул за руку, оглянулся. Осуждающе строго смотрел на него Петр Петрович.
«А куда же это ты, Костя? – говорили его глаза. Тут же нашел чем оправдаться: «Сам-то в семнадцать лет не ахти рассиживал на сходках». А увидел в огороде Марию и вовсе позабыл про старика. Полола Мария овощи. Была одета в красный сарафан, на голове белый платочек, перехваченный узелочком на подбородке. Разминала босыми ногами сухую землю. Еще издали, заслышав шаги, распрямила спину, раскинула руки с пучками сорной травы. Не улыбнулась даже, так с пучком травы и подошла к изгороди. Глаза в землю смотрят, губы надуты капризно. Засмеялся Костя, сунул в карман сарафана кулечек с ландрином.
– Гостинец тебе, Мария, из города.
Мария улыбнулась наконец-то и пучки травы полетели по сторонам врассыпную. Пробасила с упреком:
– Попер зачем-то на сходку… Эко…
Мигнул ей ласково:
– Пойдем-ка, погуляем за овинники…
И ни слова больше упреков. Вымыла руки в бочке, вытерла их о подол сарафана, словно подразнив Костю своими пухлыми коленками и скользнула за изгородь. Шла она впереди, размахивая руками по-солдатски, он сзади. Обнять себя не позволила.
– Но-но, – погрозила пальцем, – хоть ты и агент, да все равно не купленная.
Что на сходке он был знала, и что агент – тоже. Догнал, за руку схватил. Рванулась было Мария, да сил не стало больше – опустилась на бревно возле овина.
Прижалась горячим плечом, зазывно глянула в глаза и отшатнулась, спросила, не то с обидой, не то с удивлением:
– Чо эт ты, Костяня, ровно больной или спать захотел?
Все так же, как сквозь стекло, глядя на Марию, сказал:
– А хочешь я тебе юбку в клетку куплю и блузку тоже клетчатую. Станешь тогда как горожанка…
Визгливым смехом отозвалась Мария, а он подумал с досадой: «Зря пришел к ней ты, Костя, раз в голове другая»…
15
Среди ночи разбудила мать. Услышал ее торопливый голос:
– Чужие в селе, Костя. Может спрятаться тебе?
На улице пронесся кто-то на лошади, еще простучали копыта, и еще. И все затихло снова – только издалека доносился, замирая, скрип колесных осей, точно стрекот сверчка за печью.
– Ничего, – ответил матери, – мало ли там кто, спи…
Вроде бы успокоил мать, легла в кровать. А лишь забылся на минуту, как в дверь забарабанили.
В нижней рубахе, натянув штаны, выскочил в сени. Ожгло холодом, набегающим сквозь щели. Подумал было: «Уж не Мария ли пришла? С крыльца закричал кто-то, не сразу понял, что это голос Митьки Побегалова:
– Эй, хозяева, хлев горит, что спите…
Судорожно откинул щеколду, выскочил на крыльцо, кинулся мимо стоявших на ступенях парней к хлеву, выискивая глазами со страхом красные языки пламени. И тут крепкие руки сжали локти, вывернули их с хрустом, так что вскрикнул от боли. Его потащили с крыльца. Только теперь, кроме Митьки Побегалова разглядел двух братьев Клячевых из соседней деревни Латухино. Оба в длинных пиджаках, хромовых сапогах, черных кепках, на них крест на крест два листа. У обоих за спинами винтовки. Старший из них, Максим, с папиросой в зубах, остановился и с размаху ударил Костю по уху:
– Морда сыщицкая…
– Погодь, – произнес тихо его брат, поменьше ростом и в плечах потоньше. – Озимов разберется. Заслуживает если, то и схлопочет…
Митька почему-то засмеялся. Шел он сбоку, помахивая револьвером. Посматривал на Костю, но молчал. Возле пруда их догнала мать, простоволосая, босая, кричавшая в голос:
– Куда же вы его повели, господи, люди добрые. Митя, ведь соседи же.
– Митя, люди добрые, – передразнил ее старший Клячев и оттолкнул рукой. – Не мешайся, матка. Сейчас наш командир разберется что к чему, подожди малость.
Мать пошла стороной, как тень, всхлипывая.
Деревня, несмотря на полночный час, гудела. Хлопки калиток, говор, ржанье лошадей – все заставляло думать, что фандековцы смешали ночь с рассветом и вот собираются выезжать, как всегда гурьбой, на покосы за реку. Возле избы старосты Кривова, куда подвели Костю, сидел на лошади всадник с саблей на боку, с винтовкой поперек седла, похожий на куль. Он свесился едва не к паху лошади, разглядывая арестованного и спросил весело:
– Кого это накрыли?
– Из города, – ответил старший Клячев, – красный сыщик наведался к маме.
– Ну-ну, – как-то радостно проговорил всадник, – веди его к Озимову, он сыщет ему подходящую статью.
Костю ввели в избу, полную табачного дыма, звона стаканов, шарканья ног, кислой вони самогона. На столе, за которым еще недавно сидели приезжие из уезда начальники, блестели сейчас в свете керосиновых ламп бутылки, чашки, стаканы, лежали на тарелках куски жареного мяса, ломти хлеба. Мужчины и парни – хмельные, говорливые, – кричали, обнимались, целовались, как в престольный праздник. Двое или трое, не в лад, тягуче пели:
«Дым валит, острог горит.
Споверь, еверь, ерки, марки,
Споверь-споверья…».
Среди сидящих узнал Егора Ивановича Побегалова, положившего голову на локти. Что-то кричал ему в ухо Камышов и поглаживал рукой затылок бывшего владельца пароходов в Петербурге. Тот поднял всклокоченную тяжелую голову, уставился на Костю мокрыми от слез глазами, трахнул кулаком по столу, что есть силы и завыл, тонко, будто ему в живот воткнул кто-то из-под стола раскаленную пику. Громче и слаженнее теперь затянули певцы:
«Я за этот за поджог
Попаду опять в острог
Эх, споверь, еверь,
Ерки, марки,
Споверь-споверья…»
– Давайте его сюда, – раздался громкий повелительный голос от угла стола. – Рад буду потолковать запросто с красным сыщиком.
У окна, положив локоть на подоконник, заставленный горшками герани, сидел и попыхивал папиросой большерослый мужчина лет тридцати, встрепанный, носатый, с выпуклыми, редко мигающими белыми глазами. Встретившись с этим взглядом, Костя даже вздрогнул, невольно подался назад, к двери, за которой с улицы доносились плачущие женские голоса. Младший Клячев, державший его под руку, засмеялся:
– Вона, его уже и ноги не держат. В штаны не наклал ли?
Слова эти и насмешки сидящих за столом зеленых обозлили и успокоили. Легко отбросил руку Клячева в сторону, подумав с бесшабашным весельем: «В другом бы месте нам сойтись, только бы и видели на земле с красными соплями».
– Но ты, – закричал Клячев, оскалил зло зубы и вскинул приклад винтовки.
– Дай, дай ему по зубам, поучи стервеныша, – подзуживал Камышов, – а то чуть с горшка и нам на шею комиссарить. Спрашиваю его сегодня, а он мне…
– Бросьте вы наседать на него, – проговорил носатый как-то вроде доброжелательно к Косте. – Парнишка еще молодой, что там спрашивать. Поди от титьки только-только мать отучила, а туда же в сыщики красноголовые…
Сидевшие за столом опять засмеялись и подобревшие загудели. И чудилось – грянь гармонь кадриль – как все они сорвутся со стульев, забарабанят сапогами…
«Эх, споверь,
Еверь, ерки, марки» —
не обращая ни на что внимания голосили певцы.
Пошатываясь, прибрел из кухни староста с миской овощной окрошки, перемешанной яйцами. Остановился подле Кости, разглядывая, как припоминая что-то. Обернулся к носатому, попросил:
– Уж вы бы, господин Озимов, не трогали этого парнишку. Молодость может заставила его пойти в такую контору. Не разобрался еще что к чему. А потом как видно не очень-то он одобряет советские законы, да указы. Поглядел-я как он сегодня днем со сходки ушел. Послушал, повернулся и в дверь. Значит что-то не по душе было. Не пожелал быть свидетелем грабежа… Так что ли, Костька?
За столом сразу стихли, все ждали, что он ответит. Вспомнился тут Косте Семен Карпович с его правилами и нехотя, сквозь зубы, выдавил:
– Чины уголовного розыска в политику не вмешиваются.
Сидевшие за столом остались довольны ответом, потому что загомонили снова, заулыбались дружелюбно. Даже на лице Камышова появилось некое подобие улыбки, а Побегалов, хрипло рыкнув, потянулся к бутыли с самогоном. Доволен остался ответом и сам Озимов. Он налил в стакан самогона и протянул Косте:
– Выпей-ка за власть свободного крестьянства без коммунистов.
Костя помотал головой:
– Не пью…
Поугрюмел сразу Озимов и плеснул в лицо Косте самогон, зарычал, выставив тяжелую челюсть в глубоких кровоточащих порезах от бритвы:
– А с красными так пьешь, наверное!.. Или у них послаще самогонки?..
– А красные по ночам не стаскивают с постели, – ответил тоже со злостью, – да еще по уху заехали.
– Ишь ты, сосунок, – язвительно и уже тихо сказал Озимов, – разговорился без вина. Язычок-то как у большевичка, так и попахивает. Может нам тебе его вырезать сейчас напрочь, да собакам бросить…
– И верно, не трогал бы ты его, Дмитрий Васильевич, – раздался чей-то знакомый голос из дальнего угла избы, где за другим столом, поменьше размером, сидело несколько человек, одетых по-городскому. У говорившего оттопыренные уши, глубокие зализы на голове, красные воспаленные глаза. Как он здесь очутился? Ведь он же собирался через три дня уезжать на деникинский фронт? А рядом с ним еще один знакомый – мужчина с патлами пегих волос – что вез в город ведро с чем-то.
– Парнишка молодой, – продолжал Сеземов, – подтверждаю, что он в политику не вмешивается. Я думаю, нам он и в будущем не повредит.
Озимов пригубил из стакана, ковырнул вилкой в чашке, потом махнул рукой:
– Ладно, сыщик. Ставь свечку в церкви как вернешься в город. Заступников больно много развел. Вот уж если бы Шаманов мне попался, я бы его в дерьмо носом натыкал, чтобы нюх отбить. Он меня как-то чуть в тюрьму не посадил… Его туда, а комиссаров собирайте в дорогу, – приказал он, подымаясь из-за стола.
Братья Клячевы, открыв дверь чулана, с силой толкнули Костю в темноту. Попытался ухватиться за стенку, а рука скользнула. Свалился на кого-то, проговорившего со стоном:
– Ух ты…
– Эй, вы, – закричал Максим Клячев, – выходите. Хватит рассиживать.
Свет керосиновой лампы осветил чулан и Костя увидел военкома, потиравшего грудь. Лицо его и без того круглое, распухло от побоев, на нижней рубахе, на кальсонах пятна запекшейся крови. Рядом, как игрушка-«неваляшка», покачивался из стороны в сторону начальник милиции в своем зеленом обмундировании, только босой. Вот он поднял голову – вместо рта кровавая опухоль. С помощью военкома медленно поднялся на ноги. Третьим отделился от стены, и пошатываясь, пошел к выходу Петр Петрович Дубинин. Волостной милиционер был в одних кальсонах, спина перекрещена вдоль и поперек кровавыми полосами. На пороге он обернулся, попросил Костю – голос был глухой и злой:
– Коль до наших доберешься, пусть этим сволочам припомнят сполна.
Начальник милиции тоже остановился, но лишь промычал, как глухонемой. Его рванули за руку, втянули в избу. Военком на ходу протянул Косте руку, она была влажная, может от крови, может от слез и проговорил быстро:
– Не забывай нас, парнишка…
Дверь чулана с визгом захлопнулась, звякнул засов. В избе топотало, доносились непонятные крики. Послышался пронзительный и полный ненависти голос Дубинина:
– Да я тебя и на том свете разыщу паразита такого. И там тебе покоя не дам.
Звякнул опять засов и появился человек, с порога выкрикнувший негромко:
– Эй, парень!
Костя пригляделся. В проблесках света, брезжущих из избы, узнал Сеземова. Тот подошел ближе и все крутил головой на дверь как боялся, что их подслушает кто-то. Руки не знали покоя, так и ходили ходуном. Поучающим голосом заговорил:
– Ты, парень, подумай о своем житье. Сейчас такое время – или будешь с пулей во лбу лежать в канаве, или же можешь стать орлом. Коль историю не знаешь, так скажу тебе, что Наполеон тоже был никто. Вроде тебя вот такой же паренек. А воспользовался суматохой и все под себя закрутил. И тебе может подвезти, парень, крепко, коль умным да сообразительным будешь.
– Чего это вы? – хрипло бросил Костя.
– А то, что думать надо, – уже грубо выкрикнул Сеземов. – Будешь молчуном, запомним это. Власть должна перемениться. Так что кумекай. Чин получишь. Может, сам заправлять станешь розыском, другие будут у тебя в подчиненных…
– Не хочу я заправлять – незачем…
– Не хочу, незачем, – передразнил его Сеземов. – Не нюхал еще, значит, патоки на шиле… Ну да ладно, – пробормотал он и оглянулся, потому что в избе затопали опять, загремели столы.
Заглянул в чулан мужчина в холщовом картузе:
– Поехали уже, господин поручик… – и умело четко вскинул ладонь к виску.
– Ну, ладно, – снова сказал Сеземов и шагнул к порогу, задвинул засов со скрежетом.
Немного погодя с улицы послышались выстрелы – один, другой, третий. И истошные крики, плач, топот копыт, скрип телег, постепенно затихающий за селом.
Прижавшись грудью к стене, Костя смотрел в крохотное отверстие окошечка чулана. Видел край забора, копешку сена и в ней воткнутые вилы, да еще край неба, нежного от желтизны просыпающегося солнца. Блестели березовые жерди у амбара, сваленные в груду.
В избе опять затопали – узнал голос матери и тут же старосты Кривова:
– И что ты, Васильевна с ума сходишь. Говорю же тебе, что целехонек твой Костька. Меня благодари, свечу в церкви ставь на мою доброту. Стал быть, он его тоже как к стенке захотел, а я ему, мол, не надо…
Звякнул засов, и мать повисла на шее, вся в слезах. Следом за ней, с трудом держась на ногах, вошел староста. Поднял лампу, разглядывая неодобрительно чулан, покачал головой:
– Эка, весь чулан кровью замазали. Ну и били же их, не приведи господь. Что им – здоровенные бугаи, да злющие, да еще самогоном накачались. Мою Верку всю исщипали, да обшарили, пока закуски таскала им на стол. Даром Верка, что гренадер, а не выдержала, куда-то к ночи захоронилась и сам не знаю, искать надо. А ты, Костя, вот что…
Глазки его под мохнатыми бровями забегали воровато:
– Если вернутся из города комиссары, да допрашивать станут, замолвь за меня словечко. Мол, по принуждению принимал незваных гостей из леса Кривов.
– Скажу я, как вы чашки со сметаной таскали гостям, – ответил, сжимая кулаки, – пойдем, мама.
Кривов проводил их до порога и уж в дверях проговорил как-то задумчиво:
– Может, и зря я тебя пожалел, Костька… Ну да бог, чай, не потерпит несправедливости…
На это уже мать ответила с гневом:
– А вон у лабаза людей положили – это что, справедливо?
И также тихо задумчиво ответил Кривов:
– Так уж значит им было на роду написано. Не нам тут судить господа бога, Васильевна, не нам.
Вслед Косте, понуро двинувшемуся через улицу к шумящей толпе возле лабаза, сказал:
– Чай, не один я, Костька, видел, как ты ушел со сходки. Против советских законов, не иначе…
Слова эти не сразу дошли до сознания. А тут предстояло еще одно испытание – увидеть расстрелянных людей. Толпа при его появлении зашевелилась, расступилась, давая дорогу. Смотрели на него и с жалостью и любопытством, как бы говорили эти глаза вокруг: «Вот и ты так же мог бы…»
Военком с почерневшим, как чугун, лицом уткнулся головой в кирпичную стену. Начальник милиции согнулся пополам, обхватив руками живот. Петр Петрович лежал, скрестив на груди руки, приглаженный. Рядом с ним прямо в пыли сидела его жена, терла лицо ладонями, вскрикивала.
– А Пахомову ничего, – проговорил кто-то в толпе, – пожалели по молодости, знать. Или в родстве каком с убивцами.
Как ладонью руки, наотмашь по лицу хлестнули его эти слова. Выбрался из толпы и едва не бегом домой. Быстро собрал вещи, распрощался с матерью. Молчала она все это время, пока он метался по избе, как слепой, натыкаясь на стулья, скамейки, чугунки, ухваты. Лишь напоследок попросила:
– Береги себя, Костюша, хотя бы ради меня…
16
Вагон был забит пассажирами. Сидели едва не на коленях один у другого, стояли впритир, лежали плотно на нарах: крестьяне с бидонами, корзинами, красноармейцы, раненые, едущие из лазарета, железнодорожники в масляных куртках с сундучками, мешочники с дубовой кожей лиц. Некоторые еще дремали, но большинство вели лениво разговоры между собой. В соседнем купе кто-то старческим голосом с кашлем и паузами, уходящими, видно, на затяжку папиросой, стал рассказывать громко:
– Пришли они ночью, шут их знает сколько. Колесникова измотали так, что и разум отбили. Комитет бедноты, видно, ему припомнили. А бабу его, Надею, ну знаешь, может, дочка каталя Петра Прошкина из Семендяева, заездили на сеновале тоже чуть не до смерти. Пряталась она там, да вишь, разыскали. Потом голышом в гряду выкинули. Старухе, матке Колесникова, пинков надавали сапогами так, что пластом лежит до сего да и встанет ли теперь. А напоследок зажгли хутор и поехали. Чтобы светло было ехать, что ли. Озоруют да и только…
– Не иначе, как Дима Озимов, – донесся чей-то спокойный голос с верхней полки.
– А шут его знает. Озимов ли, аль там Иван Косовицын… Пришли и ушли, а Колесников с бабой до сего не придут в себя. Хорошо, что дочки в гостях были у каких свояков.
Костя знал и Колесниковых и их дочек. Одной лет десять, другой лет двенадцать-тринадцать. Сама Надея, жена Колесникова, приходилась матери дальней родней. Прошлую зиму ездили к ним на лесной хутор за сеном. Надея – высокая полная женщина – встретила их радушно. Угостила цикорным чаем, напекла оладьев на скоромном масле, даже по куску сахару не пожалела к чаю. Сидела за столом, слушая рассказы матери о житье в Фандекове и все приглаживала гладкие и желтые, что спелая рожь, волосы. Много было всяких разговоров за шумящим самоваром, а особенно запомнилось, как Надея потрепала его один раз ладонью по щеке и, сощурив в серой дымке глаза, сказала:
– Ну, Васильевна, скоро и твой сын начнет женихаться. Жди до петухов…
Закрыл глаза. Пришли они и ушли… Пришли они и ушли… Пришли и ушли…
И всплывало мохнатое лицо Игната Ильича. Говорил он, поблескивая хитро глазами:
– Не один я видел, как ты со сходки ушел… Не один я…
– Не один я видел… не один я… не один я… – выстукивали безмятежно колеса под вздрагивающим полом. Смотрел теперь на него носатый белоглазый мужчина, со стаканом самогона в руке и слышал свои слова: «Чины уголовного розыска в политику не вмешиваются».
От этих слов улыбки за столами. Даже Камышов повеселел.
– В политику… в политику… в политику… – выстукивали теперь колеса новые слова. А почему эта банда сразу повеселела и подобрела? Что если так вот сказал бы им Петр Петрович?
– Я тебе и на том свете… Я тебе и на том свете… Я тебе и на том свете, – кричали за волостного милиционера колеса.
Душно стало, полез к выходу, сминая на своем пути пассажиров. Те забранились, пихали локтями, оглядывали его. В тамбуре тоже было полно пассажиров, толкующих о бешеных ценах на рынке, о мобилизации в Красную Армию, о банде Дмитрия Озимова, о тифе сыпном.
Ветер влетал за ворот рубахи, пожигал холодком. Неслись по сторонам перекрещенные колеи проселочных дорог, мелькнули путевые будки, показывались деревни и белые стены церквей. Тут и там катили, на телегах одетые в цветастые одежды крестьяне, долго глядевшие вслед поезду.
Поуспокоился, даже захотелось есть. Вытащил из кармана горбушку хлеба, откусил с удовольствием. Стал жевать, да вдруг рука повисла в воздухе: у другой двери тамбура, привалившись плечом к косяку, стоял и покуривал Сеземов. В солдатской шинели, мятой фуражке с засаленным верхом. Из-под околышка фуражки выпирали уши. Вот он пригнулся, что-то сказал присевшему на корточки парню в матросской бескозырке без ленты и тот захохотал. Сеземов тоже усмехнулся снисходительно, швырнул небрежно окурок в окно.
Поплыли за окном пристанционные постройки, будки, пакгаузы, заброшенные железнодорожные вагоны, бараки. Заскрипели натужно тормоза и одновременно с остановившимся составом пришло решение. Вылез вместе с пассажирами и двинулся через вокзальную площадь вслед за Сеземовым. Шел тот быстро твердым и ровным шагом военного человека. Одной рукой придерживал лямку заплечного мешка, другой помахивал, равномерно и неутомимо. Лишь один раз остановился – возле фотовитрины. Костя, подойдя следом, тоже остановился, глянул мельком. Укоризненно смотрела на него девушка в солдатской папахе, с винтовкой в руке, стоявшая в длинном ряду парней, одетых тоже в солдатские шинели и папахи. Прочитал подпись – корявые буквы. Это был отряд, еще весной уехавший воевать против Колчака.
«Мы на Колчака уехали, а ты, здоровый парень, чем занимаешься?» – как бы говорили глаза девушки.
Пошел дальше, стараясь быть незамеченным, прячась за прохожих. Так миновали они Толкучий рынок, потом перешли площадь рядом с розыском и вышли на главную улицу города. И здесь Сеземов не задержал шаг ни на минуту. Все только помахивал рукой да подергивал резко ремешок мешка за плечом. Какая-то девушка налетела на него. Он улыбнулся ей, приподнял даже фуражку и снова оттопырил околышком свои непокорные уши. Дойдя до трактира «Орел», посмотрел на окна, стал неторопливо переходить улицу по направлению к гостинице «Царьград», оглядывая при этом внимательно пустую пролетку, приткнувшуюся к углу здания. Костя решил, что этот санитар запасного полка обязательно пойдет сюда, в гостиницу. Он представил, как сейчас, тихо скрипнув, откроются тяжелые дубовые двери с медными ручками, с ярко поблескивающими стеклами. Потом запыленные сапоги зашаркают по мраморным ступеням. Он поднимется на второй этаж, постучит в дверь, выкрашенную белой краской. Дверь откроется и высокая женщина с напудренной шеей воскликнет: «А я думала, не разбойники ли это?».
Но Сеземов даже не посмотрел на гостиницу. Он вошел под темную арку крепостной стены, разделяющую одну часть города от другой, а на бульваре остановился в толпе, окружившей высокую деревянную эстраду. С эстрады уставилось в небо жерло граммофона. Летел четко произносящий слова голос над тополями, над крышами, над головами людей, идущих по аллее: «Наша революция»… «Мы должны»… «Все силы»…
И снова Сеземов зашагал, теперь к Волге.
Остались позади два купеческих дома, похожие один на другой – из белого известняка, с маленькими монастырскими окошками, с острой крышей, выложенной черепицей, с расписными воротами. Сняв фуражку перед крыльцом церкви, Сеземов вытер лицо ладонью и свернул во двор. Костя прибавил шаг. Влетел во двор и остановился в растерянности: прямо в грудь смотрело дуло револьвера и глаза Сеземова, сощуренные злобно.
– Ну-ка, повернись кругом, – негромко приказал он, оглядываясь на пустынный закоулок. – Ну, – уже закричал он нетерпеливо, и револьвер подскочил, как будто ударил кто по руке.
Костя повернулся и услышал быстрые шаги. Что-то упало в карман. Дуло револьвера больно ткнуло в левую лопатку.
– Я положил тебе в карман одну вещицу, – услышал голос Сеземова. – Подумаешь потом, где бы ей быть за твое свинячье любопытство. А сейчас живо убирайся на улицу… Ну!..
Костя все в такой же странной растерянности вышел за ворота. Оцепенело смотрел на широкую гладь реки, на лодки, на женщин-платомоек, на тот берег в дымке, на облака, низко плывущие над башнями церквей. Сунул руку в карман, нащупал что-то, вынул – и увидел на ладони поблескивающую ярко пулю.
17
В розыск он направился, не заходя домой. С мешком на плече, усталый, запыленный, расстроенный поднялся по лестнице. На верхней площадке остановился, прислушиваясь к голосам, слышным из-за двери, обитой войлоком. Кричал, похоже, Ваня Грахов:
– В воскресенье видел их обоих. На велосипедах с комсомольцами ехали. С флагами, с песнями, охапки цветов. Позавидовал даже…
Появилась в коридоре Шура Разузина. С заплаканным лицом пробежала мимо и, ойкнув, обернулась:
– Пахомов, ты слышал, что у нас тут вчера было?
Когда Костя, задержав шаг, покачал головой, вернулась к нему, переложив пачку серой бумаги из одной руки в другую.
– Горе-то у нас, Костя, какое, – сказала тихо и вымахнула из кармана сиреневой юбки платочек. – Вчера вот здесь, на лестнице, Шахова с Глебовым застрелил Артемьев. Сижу я в канцелярии у журналистки, как вдруг – «бах» и еще «бах». Выскочила на площадку, а этот и в меня целит из нагана. Такой бритый мужчина в гимнастерке, пиджаке, лоб узкий, сам тощий, узкоплечий. Опять «бах» – только жигнуло над ухом. Вон стену как ковырнуло, целый кусище выхватило. Я так и села. А те двое вниз по лестнице. Выбежал Иван Дмитриевич, Грахов с Канариным. Да уж поздно. Лежат на ступеньках Вася с Сергеем, встать не могут. И я себя не чую – в глазах темно, в ушах звон, даже затошнило. Чистый обморок…
Губы у нее задрожали, не выдержала, заревела в голос и запрыгала по ступенькам. Он привалился спиной к стене. Холодная и сырая, она легла ему на плечи плитой, придавила. Даже выронил мешок к ногам, глотнул судорожно прокуренного воздуха. Как же это так? Шахов и Глебов. Вспомнился первый день в угрозыске, белокурый Шахов, записывающий показания старика, у которого какой-то Зюга украл деньги, кудрявого Глебова, улыбающегося Семену Карповичу, по-приятельски… А то вот они оба сидят на летучке в кабинете Ярова возле этажерки, заваленной бумагами, газетами. Глебов крутит головой нетерпеливо, подымает руку, вскакивает, одергивая гимнастерку, напоминая этим самого Ярова. Стал говорить насчет комсомольской ячейки при уголовной милиции. Это чтобы среди агентов розыска были свои комсомольцы. А Шахов сидел, скрестив руки на груди, позевывая, закрывая глаза то и дело, потому что ночь накануне продежурил на пристани.








