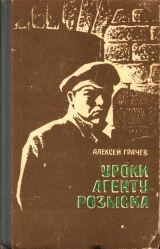
Текст книги "Уроки агенту розыска"
Автор книги: Алексей Грачев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
– Это верно, – угрюмо согласился Семен Карпович, – нет паутинки. Но Мичура тоже уголовник и брать его надо. А если вы считаете, что старшие агенты Шаманов и Николай Николаевич – Пинкертоны, так это Иван Дмитриевич, ложный след, это можно сказать революционное заблуждение. Найти опытного рецидивиста это не понюшкой зарядить нос. Да еще какие у нас стали условия…
И заговорил, все более озлобляясь:
– Все что было, растерялось. Опытных сотрудников разогнали, криминалистов нет, фотограф неумелый. Комнаты ему нет и смехота – выводит фотографировать преступников на балкон, дело ли это? Нет в розыске захудалой лошаденки с пролеткой, ходим в допотопном обмундировании – вытянул он тут свои ноги в красных бутылками сапогах. – В них не то что ловкого преступника, старуху стогодовалую не догонишь…
– А вчера, – не обращая внимания на тихий смех Николая Николаевича, продолжал он, – докладывали вам, наверное, что бабенка, взятая по подозрению на кражу, едва не удрала. Хорошо, что побежали вовремя Глебов с Шаховым на Мытный двор и успели царапнуть ее обратно. Ей, видите ли, захотелось посмотреть, чем торгуют на рынке деревенские мужики. Сообщите об этой истории в Центророзыск, так там два дня смеяться будут, да еще приказ отдадут на «черную доску» Советской милиции…
– Ну, так сообщите, – обиженно сказал Яров, – что сидите, пойдите и пошлите телеграмму… Может быть и поставят нас на «черную доску», хотя я и не отвечаю за всю милицию. Но только добавьте, что я бьюсь во все двери, да без толку. Не дают ни досок, ни гвоздей, ни стекол. Знаю – нужно обмундирование, а не дают, пролетка нужна – не дают, электрические фонари требуются, сода – а где взять. И фотографировать преступников на балконе не дело, потому что взбредет иному в голову, скакнет на улицу, чтобы сломать ноги или голову разбить насмерть… Но это пока, товарищи, – уже опять громче и со стуком кулака по столу продолжал, – придет время, все у нас будет, все условия. А пока надо работать и с такими неполадками. На фронте, наверное, не менее трудно. Вон сообщение пришло из Насимовской волости. Поднялось восстание дезертиров, разоружена волостная милиция. Петр Михайлович оттуда только что вернулся, – кивнул, он головой на бородача в шинели, – своими глазами видел он как горят сельсоветы…
Тут он опять подскочил как на пружине, оттолкнул ногой стул, с грохотом выскочил на середину комнаты. Был одет в солдатские широкие галифе, сапоги из яловой кожи. Поскрипывая ими, прошелся взад и вперед по комнате с сердитым видом, остановился около Семена Карповича, глядя на него сверху глазами требовательного начальника.
– Фронту все отдается, Семен Карпович, – и доска, и гвозди, и пролетки. Не говоря уже про автомобиль, о котором я тоже говорил в Губисполкоме и зимой еще в реввоенсовете Северного фронта. Не говоря об отдельной комнате для агентов розыска с постельными принадлежностями. Говорят – не до вас. Вон раненых везут и везут в город. А вы потерпите пока. Может и стреляют в нас, да не каждый ведь день.
Прибавил, уже с обидой в голосе:
– А Пинкертонами, Семен Карпович, нам надо быть. Ведь Пинкертон в нашем деле не что иное, как идеальный агент розыска. Просто надо работать по-новому, по-революционному, бескорыстно и честно.
Он собрал со стола фотографии, положил их на диван:
– Вот – с субинспектором нашли в коммунальном банке. Туда, оказывается, свезли часть бумаг из Окружного суда во время мятежа.
Парень со шрамом и красивыми глазами качнулся, лицо его расплылось в мягкой и дружелюбной улыбке:
– В подвал кинули. Да зачем-то известью осыпали. Поела эта известь здорово бумаги…
Семен Карпович раструсил фотографии. На одной из них бритый наголо мужчина с буграми на висках и пронизывающим взглядом серых глаз. Как будто ненавидел он того, кто его снимал.
– Артемьев, – пояснил Яров. – Сторожа склада признали его на фотографии, хоть и усы нацепил, когда брал склад. И Маму-Волки, который их вязал, тоже признали. Ошибиться уж в этом парне трудно…
Он отложил карточку, взял в руки другую. Теперь Костя увидел парня с улыбкой, в распахнутой на стороны голубой рубахе. Смотрел он куда-то вверх, будто в небо, на пролетающую птицу, будто искал что-то необыкновенное. Белые пряди волос, как у женщины, спадали на уши, на шею.
– Ему бы в театр или кинематограф, – заметил с долей уважения Яров. – Был бы может артистом, Шаляпиным. Не такое трудное время, вывели бы в люди, на ноги поставили бы.
От этих слов Семен Карпович как-то невольно вскинул глаза, не сдержал усмешки. И также быстро пригнул голову.
– Зря вы улыбаетесь, – холодно сказал Яров и сдвинул сердито рыжеватые брови к переносице. – Это сейчас не до того: война, контрреволюция, голод. Это сейчас суровое наказание ждет всех грабителей и спекулянтов. В будущем каждого преступника, можно сказать, в микроскоп будем рассматривать…
Желая переменить направление разговора, Николай Николаевич заговорил:
– А вором он стал потому, что никем другим не стал. Учила мать его на скрипке – не вышел талантом. Бросил. Потом в художники решил записаться, тоже бросил. В магазин обувной отдала мать, так прогнал хозяин перед революцией. Потому что знакомой барышне задаром отдал башмаки. Еле еще мать отговорила хозяина – до суда было дошло дело. Парень красивый – любовные связи пошли одна за другой, а на это деньги нужны. Мамаша не графиня, простая провизорша. Один выход остался к деньгам – воровство. Так и пошел. Уже который год скитается по России, а у нас в Окружном суде не одно дело было заведено. Зимой в армию взяли. Даже с месяц в казармах занимался, а как на фронт подготовили часть, так в бега от воинской повинности.
– Вот Гордо я ни разу не встречал, – сказал, разглядывая третью фотографию. – Это откуда-то из Латвии прибыл. Зверяга, душитель такой, что перекреститься хочется от одной физии. Первая рука Артемьева. Про него говорят: убьет человека, перекрестится и скажет: «слава богу, еще одному помог избавиться от мук земных…»
– С виду как мясник, – вставил бородач в шинели.
И верно – длинная шея, на ней маленькая голова с вытаращенными глазами, жиденькая косица темных волос на узком лбу. Плечи узкие, а тело как воздухом надутое – мясистое, пухлое, руки длинные. На Гордо изящный костюм, серая жилетка, галстук с крупным узлом. По жилетке пробегала цепочка карманных часов, в пальцах левой руки дымилась папироса, нога на ноге, Яров смел карточки в грудку и приказал деловым тоном:
– Размножить и раздать агентам. А парня этого, – тут он опять улыбнулся Косте, – надо взять. Образование, поди церковно-приходское один или два года? Научился расписывать свою фамилию и ладно по деревенской жизни?
Костя хотел сказать, что он считался самым грамотным на селе, что не раз его жители просили писать письма на войну своим родным. И что он многое от себя придумывал, потому что родные одно-два слова скажут и больше ничего не приходит в голову. А он писал, что нового в селе, у кого какая радость, у кого какая беда. Письма получались большие.
Но Яров не стал больше спрашивать, а наказал по-дружески:
– Дело в розыске трудное и опасное, учти это, Пахомов. Потому будь зорким, смелым, но и осторожным. Нам каждый агент сейчас на вес золота. Опытные разбежались, как справедливо сказал Семен Карпович, а молодые хоть и фронтовики – неопытные. Ну ничего, мы из молодых создадим кадры советских агентов уголовного розыска, честных, беззаветно преданных революции, бескорыстных, неподкупных. Так что ли, парень?
Удовлетворенный молчаливой и смущенной улыбкой Кости, Яров обернулся к Семену Карповичу:
– Передаю его вам, Семен Карпович. Пусть обязательство милиционера напишет. И на оклад временный, и на питание. И вот что – уже глухо добавил он, нагибая голову, как бычок – приходил вчера рабочий с Государственной махорочной фабрики. Стоял он день назад в вокзале возле касс третьего класса, ждал поезда. Подошел к нему гражданин, стал размахивать палкой, обозвал жидом и спекулянтом. Потом заставил идти в комнату для милиции, обыскал самого, вытряхнул чемодан. Ничего не нашел и даже не извинился…
– Это был я, – тихо и спокойно сказал Семен Карпович. – Это, действительно, жид и спекулянт. Его счастье, что был пустой на этот раз. Прикинулся он вам чистеньким вроде водички из колодца. А посмотрели бы, что у него я нашел прошлой весной в солдатском австрийском ранце…
– Я не знаю, что у него было в ранце, – нетерпеливо прервал Яров, – я знаю одно: вы оскорбили достоинство гражданина молодой Советской республики без всякого основания. Это уже равняется с преступлением по должности…
Увидев сдвинутые непримиримо брови Семена Карповича, вздохнул огорченно. Закончил, махнув рукой:
– Поймите на будущее, Семен Карпович, чтобы не было жалоб. А пока можете быть свободны…
Когда вышли в коридор, Николай Николаевич с виноватой улыбкой посмотрел на Семена Карповича:
– К фотографиям-то какие-нибудь следы бы…
Семен Карпович усмехнулся, выпятил капризно нижнюю губу:
– Фотографии ладно. Повеселил меня начальник: спекулянта в гражданины произвел, да и насчет Мамы-Волки распелся. Будто его можно в люди вывести, в артисты. Такого как Мама-Волки, – прибавил уже строго и убежденно, – одна могила выведет в люди…
7
В узком переулке, зажатом каменными стенами старинных домов, накрытом, словно платком, тенью высоких и массивных церковных ворот, колыхался, смеялся, кричал, плакал Толкучий рынок. Он смотрел на Костю глазами женщины в ночном чепце на голове, мужика с опухшим лицом, мальчишки с разноцветным тряпьем на руках, тонких, что палочки, парня на костылях с матросской рубахой на шее, старика с балалайкой, по струнам которой время от времени тенькал пальцами, сухими и дрожащими, фабричного с зажигалками, поблескивающими тускло, как патроны…
Рынок дергал его за рукава пиджака, тискал, совал в бока локти, давил ноги, сжимал грудь, так что захватывало дыхание. Он дышал в лицо воблой и сивухой, нафталином и духами, колесной мазью и керосином. Он умолял, звал, приглашал, сулил златые горы, едва не падал на колени…
Кричала женщина, быстро, по-птичьи, ворочая черную, то ли от грязи, то ли от загара, шею.
– Кофточка шелковая с заграничной прошивкой. Красота. Четыреста рублей.
За ее спиной бубнил старик:
– Махорку на хлеб… Кому махорку на хлеб…
Выплыло из толпы желтое лицо китайца-солдата в обмотках на ногах. Скалил зубы, такие желтые вроде бы как и лицо:
– Сахар нада? Сахар нада?
Мелькали перед глазами драные пиджаки, кепки, туфли бронзового цвета, залатанное тряпье, ярко сверкающие броши, камни, браслеты.
– Четыре с полтиной за сапоги… Четыре с полтиной…
– Что дешево больно?
– Охо-хо-хо… Ну, и недотепа. Четыреста пятьдесят значит. Иль из Турции приехала?
Еще один торговец преградил дорогу Косте, пробиравшемуся сквозь толпу вслед за Семеном Карповичем. Глаза злые и мутные, как у пьяного, под пиджаком голое костлявое тело, на ногах опорки, а в руках лаковые полуботинки.
– Эй, парень, махорки не имеешь?
– Я не меняю, – отозвался Костя.
Мужик – то ли он и правда пьяный был здорово, то ли умом тронутый – взмахнул лакирашками, закричал:
– Чего ты тогда, толсторожий фрайер, здесь шманаешься.
Кто-то в толпе сказал, вроде как с завистью:
– Разодет парень. Из властей, может кто? За губернатора может?..
– Не-е, – с ленцой отозвался еще один голос, – из сыскного, пожалуй. Тот что попереди с губой-то выдернутой – точно из сыскного. Ну, а этот знать с ним, в щенках ходит…
Лицо говорившего круглое сытое и улыбающееся миролюбиво, даже как-то подобострастно. Костя отвернулся, рывком раздвинул толпу, удивительно легко расступившуюся на этот раз перед ним. Догнал Семена Карповича, придерживающего под локоть мужчину, одетого в длинное и тонкое дорогое пальто. Бородка у гражданина клинышком, щеки холеные, шляпа что у важного господина, на сизом опухшем носу пенсне.
– Отпустили бы вы меня, Семен Карпович – упрашивал он скорбно. – С пьяных глаз я забрел сюда. А сахарок случайно достался мне, как все равно с неба манна.
– А это уясним сейчас, – пообещал Семен Карпович, вталкивая задержанного в маленькую будку возле церковных ворот. – Уясним, случайно или по другому как достался тебе этот сахарок.
Находились в будочке трое мужчин с кобурами на ремнях и две женщины. Они, как и сегодня утром Нинка-зазноба, растирали мокрые щеки кулаками. На пустом бочонке, пахнущем селедкой, на его грязном днище навалом пачки махорки, кульки, жакет дамский на белом меху, дамский корсет, фуражка защитного цвета, худые панталоны.
Семен Карпович отвел похожего на господина задержанного в угол и, притиснув его грудью к дощатой стенке, глядя ему пристально в глаза, спросил тихо:
– Ну, говори по совести, кто тебе ссудил сахарок. Не виляй, Киря, хвостом.
Задержанный шмыгнул сизым носом, поправил пенсне, зачастил торопливо и тоже тихо, чуть не на ухо Семену Карповичу:
– Ну, хоть на колени встану, Семен Карпович. Верьте хотите, хотите нет, а случайно достался сахарок. Зашел вчера вечером в чайную «Орел», сел за стол стакан кипятку выпить. А по соседству трое мужиков – кто не знаю. Ругаются, грозятся, вроде как делят что-то. Потом один мне и говорит: покупай сахар, товарищ хороший. Вот я и купил…
– Он был в фуражке? – спросил язвительно Семен Карпович. – Из интендантов?
Господин покачал головой:
– Вроде как в солдатской бескозырке.
– Лицо круглое без примет?..
И опять господин покачал головой:
– Пожалуй, что тощее лицо. А что без примет – верно…
– И уши у него длинные как у осла, – уже злорадно продолжал Семен Карпович.
Задержанный вздохнул, пугливо глянул на агента:
– Вот уши не знаю какие…
Семен Карпович не спеша забрал пуговицу на пальто у господина между пальцами. Тот мгновенно преобразился, посуровел – словно подменил его кто зараз:
– Опять вы мне собираетесь, господин Шаманов, обрывать пуговицы. Один френч вы мне однажды уже испортили такой забавой. И потом – он даже усмехнулся нахально – в уголовной милиции я выложу об этом Ярову. Он и вас как Терентия Листова в шею погонит из милиции за насилие. Мало вам одной истории. Времена теперь другие. Свобода. Да здравствует революция…
Господин вскинул вверх воинственно кулак и потрясенный Семен Карпович уронил свою руку. Пробормотал раздосадованно:
– Нет, ей богу, Алеша Попович объявился для шпаны и спекулянтов.
Он подтолкнул господина к бочонку, за которым сидел седоусый мужчина в серой толстовке.
– Вот, Иван Петрович, посмотри этого гражданина – сахар отобрал у него. Такая жара, а он пальто напялил на себя.
Тот кивнул и заговорил, обращаясь к задержанным:
– Люди страдают, а вы у них последние жилы вытягиваете. В десять раз дороже заламываете, своего же брата, трудового рабочего и крестьянина, обманываете. Вон сегодня ткацкая фабрика народ отправляет на баржах в Самарскую губернию за хлебом. Потому что дальше, как говорится, терпеть нельзя. Детишки пухнут, да чернеют. Может быть, казаки их всех порубают там в пшенице, а едут…
– Мы бы тоже поехали, – проговорила уныло одна из женщин. – Позвали и тоже, может, собрались бы в дорогу. Конец-то, чай, везде одинаковый.
Как не слыша ее, мужчина стукнул кулаком по бочонку. Женщина широко раскрыла рот, вдруг икнула. Костя едва сдержал себя от невольного смеха. Уж больно и смешно дернулась голова у тетки на тонкой шее.
– Карать будем строго, – продолжал говорить Иван Петрович. – Или не слышали про законы военного времени. Как с врагами.
– Слышали, как же, – уже с готовностью ответила другая женщина. – Мы бы рады, да…
– Рады вы, – уже тихо и сердито закончил сивоусый, – животы свои набивать. Ну-ка, гражданин, выкладывай, – обратился он к спекулянту, задержанному Семеном Карповичем.
Тот вздохнул шумно и принялся вытаскивать из-под пальто какие-то пакетики. Вместе с пакетиками появились на днище бочонка и пачки с махоркой, поблескивающие кольца, тяжелый браслет, не то медный, не то золотой.
– Вот тебе, – покачал головой сивоусый, – прямо ходячий ювелирный магазин. И все наменял за одно утро.
Спекулянт не ответил, а только зло покосился на Семена Карповича.
– Рады вы, – снова повторил продкомовец и кивнул второму мужчине, сидевшему с ручкой в руке и листком бумаги, молчаливо созерцавшему все происходящее в этой будочке. Видно, это был писарь-продкомовец. Он кашлянул в кулак и придвинув поближе к локтю листок бумаги, стал записывать что-то аккуратно.
Когда протокол был составлен, Семен Карпович увел Костю из будочки.
– В Дом лишения свободы отправят их, – стал говорить, пробиваясь снова через толпу к улице. – А Кирилл Локотков продувной мужик. Надо будет уяснить – откуда у него сахар: может извозчики, или же складские рабочие, а может и Артемьев это ему ссужает награбленное из склада. Ну, следователь порасспросит, потрясет его. А там дело в народный суд пойдет, как улики налицо. За спекуляцию самое малое отправят на принудительные работы копать ямы, разбирать хлам всякий на пожарищах, или грузить, или выгружать. Попотеет, в общем, как потеют сейчас бывшие господа у станции, которые не платят чрезвычайного налога. А то и просто шлепнут.
Он и сам вспотел. Вытирал лоб красным платком, для чего снимал всякий раз фуражку.
На толкучке многие знали Семена Карповича. Костя с удивлением наблюдал, как меняются лица торговцев и покупателей. Одни поспешно скидывали кепки да картузы, другие отворачивались, словно бы увидев что-то позади себя интересное, третьи здоровались почтительно. Но ни один не назвал Семена Карповича по имени и отчеству, не протянул ему руку. Как будто опасались открыть какую-то тайну.
Иных по мнению Кости тоже можно было бы задерживать и отправлять на проверку к продкомовцам. Видел, как торговцы при их появлении что-то прячут в полы пиджаков, в сумки. Вынырнул из людской толчеи мужчина, вчерашний пассажир в вагоне – остроносый, с патлами пегих свалявшихся волос под холщовым картузом. Вскинул голову на Костю, узнал, а увидел рядом с ним Семена Карповича, дернулся обратно, как наткнулся лбом на столб. Лицо перекосилось, глазки забегали испуганно, затравленно. Проворно, как и вчера под вагон, тиснулся между боками двух женщин, потряхивающих барахлом, покрикивающих наперебой.
– Вот того дядьку можно было бы проверить, – сказал Костя Семену Карповичу. – Вчера видел его в поезде – что-то неположенное вез в ведре в город, и сегодня тоже за шинелью, наверное, прячет какое-нибудь добро. Вон он как торопится, неспроста значит.
– Ладно, – махнул рукой Семен Карпович, – всех все равно не перетаскаешь. Мы на сегодня с тобой, Константин, потрудились уже – одного злостного и неисправимого спекулянта накрыли, сдали властям. Поработали, как скажет Яров, на революцию. Теперь можно и передохнуть. Вот завтра, а может и послезавтра, – важно стал говорить он, когда они выбрались из толпы и двинулись узкой улицей, – в газете можно будет почитать о нашей сегодняшней работе. Мол, чинами розыска на Толкучем рынке задержан известный в городе спекулянт Кирилл Локотков. А чины розыска это и есть мы с тобой… По фамилиям нас нельзя звать, дело секретное. У нас, особенно старых агентов, даже клички имеются. Это чтобы в разговоре, или депешах там, или телеграммах скрытно все было. Меня вот «бурав» звали, а Николая Николаевича «Фудзияма». Это за обличье его так назвал когда-то сам Бибиков. Лицо у него не русское, заметил – скуластое, глаза, что ниточки черные и кожа с желтизной. Вот только волосья на голове уже больно рыжи, что огонь. Видно в его роды когда-то китаеза или япошка затесался, вот и гуляет кровь из поколенья в поколенье, никак не выветрится до сих пор. И из себя-то он что, японец – коренастый да кривоногий, бегает зайцем. Мальчишек-воришек бывает догоняет, вот какие у него ноги…
Тут он остановился возле ларька с выдавленными дверями и окнами, вытер платком аккуратно и молча лицо, шею. Затем посмотрел на карманные часы, с почерневшей металлической крышкой, похожие на сплюснутое яйцо, и сказал:
– Ну, пора нам, Константин и посидеть, передохнуть. Да заодно попить не мешает, да перекусить, если найдет что мой старый знакомый Иван Евграфович.
8
Они пришли в чайную – бывший трактир «Орел» – одноэтажное здание из покрашенного известью камня, с ночлежкой в подвале, с широким, выложенным булыжником, двором для лошадей постояльцев. Длинное помещение было заставлено столами. За ними сидели люди, усердно хлебая что-то из мисок, чашек алюминиевых солдатских котелков.
Было многолюдно и шумно. Хоть и торговали одним кипятком с цикорием, но на столах у посетителей были видны куски белого хлеба, вареного мяса, рыба, даже пироги, привезенные, как видно, из деревень. Слышались пьяные голоса, играла гармонь и гармонист, лохматый мужичонко, пронзительно и непонятно выкрикивал слова песни. Слонялись возле столиков нищие, больше мальчишки, ободранные, чумазые, с грязными голыми ногами, с такими же грязными руками. Хныча, протягивали их, то ли деревенской женщине, отхлебывающей с блюдечка кипяток, то ли косматому старику, уныло жующему кусок мяса, то ли парням с лицами громил, сгрудившимся за отдельным столиком, гомонящими громко над стаканами. Нищих гоняли, они огрызались, показывали кулаки. Синей пеленой висел в чайной табачный дым, чад от горящих под кубом с водой дров. Звенела посуда, топали, как в пляске, шаги, хлопали без конца с визгом двери. Крики и голоса, лай гармони – мешались в ушах, оглушали.
Они сели за столик, засыпанный подсолнечной шелухой, табачным пеплом, яичной скорлупой, залитый кипятком, изрезанный ножами.
И тотчас же из кухоньки, едва не бегом, не сводя с агентов глаз, появился маленький пожилой мужчина в засаленном фраке и солдатских брюках, сапогах, с совком в руке. На несвежей белой рубахе лиловели влажные пятна. Точно кто-то там в кухоньке только что плеснул в него кипятком. Обварил и лицо – крохотное, и умильное, багровое и тоже влажное.
– Уж так я рад видеть вас, Семен Карпович, – заговорил тонким молодым голоском мужчина, одновременно быстро и вместе с тем осторожно смахивая со стола сор в совок. И клонил голову то к Семену Карповичу, то к Косте. В глазах, придавленных и бесцветных, таилась тревога. Кончив убирать, он бросил тряпку на совок и разогнулся, даже вытянулся по-солдатски: – Ну-с, какой заказик будет? Рад постараться для вас, почтенный Семен Карпович.
Семен Карпович снял фуражку, бросил ее на пыльный подоконник. Проворчал недовольно:
– Никак ты, Иван Евграфович, не отвыкнешь, от ресторанных своих привычек. Какой тут заказик, если торгуешь одними щами да цикорием. А слышал я, будто ты голым кипятком приторговывал.
Иван Евграфович хохотнул, но посуровел тут и бровки сдвинул в одно место, к носу.
– А как вы считаете, Семен Карпович, – много ли мне платят за должность. Дрова под топку сам ищи, пили и коли их тоже сам, и со столов убираем да и насчет заварки тоже хлопочи. Да еще воду в бачок не успеваю лить. Вон, – кивнул он головой на окно, за которым толпился народ в очереди к цинковому бачку с кружкой на медной проволоке:
– Целое налили море, черти. А власти меня ругают. Пишут в протоколе, что я заразу развожу возле трактира. Требуют, чтобы питье было и тут же ругают. А по мне бы, Семен Карпович, так отменил бы я такое благодеяние, как до сих испанка валит людишек.
– Вашему ученику тоже можно? – глядя умильно на Костю, уже другим тоном спросил он. – Так, скажем, для приличия, для делового разговора…
– Наметан у тебя глаз, Иван Евграфович. Не проведешь, как через стекло глядишь.
– Так как же, – поспешно забормотал Иван Евграфович. – Вы люди деловые. Если сидит с вами, так или же ученичок или же который под суд пойдет вскорости. Знаем, повидал я вашего брата на своем веку немало.
– Ладно, ладно, – прервал его мрачно Семен Карпович, – принеси моему парню тарелку щей. Карточки у него пока нет, ну да этой бурды у тебя хватит. Да может еще есть кой-что для гостей…
– Усию минутку…
Когда Иван Евграфович убежал все той же старческой рысцой – кивнул ему вслед:
– Бывший официант из ресторана «Царьград» – вон этого, – показал он на высокое красивое здание со стрельчатыми окнами, из серого гранита ступенями, медными ручками на тяжелых дубовых дверях. – Закрыли ресторан после революции, сейчас только гостиница. Да и понятно – чем кормить-то. Не жмых же на серебряных подносах разносить гостям. А этот Иван Евграфович там крутился, можно сказать, сколько я в сыскном. Теперь вот заведующим. Я его пристроил сюда.
Хмыкнул тут, дробно и тоненько рассмеялся. И опять потер шею и лицо красным платком, но ничего не прибавил, засмотрелся на проезжающий с грохотом по улице ломовой обоз с ржавым железом.
– Вот ты хотел того мужика еще прихватить, – снова заговорил Семен Карпович. – Может быть и стоило, а может быть и нет. Ведь всех преступников не переловишь, Константин. Они были, есть и они будут…
– Преступники тоже нужны на земле, – прибавил он, как бы внушил это самому себе, а не Косте. – Потешно тебе слышать, а посмотри-ка сколько людей кормится за счет преступника. Ну-ка вот, послушай перечту.
Он стал загибать пальцы, с усилием поводя при этом плечами:
– Милиция, а раньше полиция, городовые, ну теперь милиционеры, агенты, как мы с тобой, судьи, адвокаты, тюрьмы, больницы. Давай разом все жулье переловим – что станет со всей этой армией. А-а-а?.. То-то же. Тыщи останутся без куска хлеба, будут вон вроде этих мальчишек, – кивнул он головой, – клянчить подаяние. Подайте, дескать, юродивому, бездомному. Скажем, следователь Казюнин. Жил он рядом с Окружным судом, ну сейчас это просто губсуд. Пальцы в перстнях бывало, часы золотые, костюм что на губернаторе, собственное ландо имел с кучером. Ну отняли у него работу – что ж он выгребную яму чистить пойдет? Шалишь. Хоть и отобрали все добро, а он служил кем-то в рабоче-крестьянской инспекции. Щеголь был – добавил с явным восхищением – идет бывало в Окружном суде – голову кверху, усики кольцом, дорогая папироса в зубах, в биллиард ловко бил в гостинице «Англия». Пропал он куда-то. Жена даже заявление принесла в уголовную милицию.
Появился снова Иван Евграфович. Принес на подносе стаканы, на тарелке чайничек, тарелку щей, воблины. Едва он поставил все на стол, как пощелкав ногтем по золотистой чешуе воблины, Семен Карпович живо спросил:
– Рыбку сам выгружал с красноармейцами из баржи, Иван Евграфович? Вроде бы стоял запрет набирать на такую работу штатских лиц…
Иван Евграфович удивленно развел руками, воскликнул:
– Помилуй бог, Семен Карпович. При моем возрасте, да при моей силенке и в грузчики. Посетители это нам предложили, а мы взяли, в виде исключения для дорогих гостей вроде вас, Семен Карпович, да вашего нового ученичка, простите, не знаю имени и отчества…
– Константин Пантелеевич будешь звать, – ответил Семен Карпович и, покосившись на посетителей чайной, спросил: – Насчет Артемьева ничего не слышал?
Иван Евграфович нагнулся, заговорил приглушенно:
– Два дня тому назад молодой мужик сидел, с махорочной фабрики видно, потому как чихнул я около него даже – вот какой пропыленный. Кричал он соседу: будто знал Артемьева, когда тот в грузчиках был. Мол худой да невидный, а таскал хлопок с барж. Как челнок бегал туда и сюда…
– И больше ничего?
– И больше ничего, – уныло ответил Иван Евграфович. – Да еще сидели на той неделе Федя Чесаный с Нинкой-Зазнобой?
– С Нинкой-Зазнобой, – оживился Семен Карпович. – Она у нас сейчас в гостях. Так-так – не думаю, что Федя уговаривал ее насчет ночлега. Федя мужик деловой… Ну ладно, и на том спасибо.
Иван Евграфович молчаливо и как-то покорно на этот раз склонил лысую голову и отошел. Боком шел до стойки, где стояла толстая пожилая женщина в белой куртке, наливая щи в посуду черной поварешкой.
– Что-то он пугливый сегодня… – Семен Карпович взялся за ручку чайника. – Значит, побаивается. Два дня назад тут мужика «на малинку» взяли. Приехал из деревни, сел за стол, а продал перед этим на Мытном дворе луку, деньги в кармане. Даже французской булавкой застегнул карман, для верности, значит. Какие-то парни подсели, пили вино и ему поднесли стакан. Не отказался – как же, деревенская жадность. Даровое. Хоть и на свои мог налопаться. Заснул – а проснулся, как рассказывал потом, и в голове звон, перед глазами туман, блевал час здесь во дворе. А денег, конечно, нет в кармане. Наводит Иван Евграфович наверное, посмотрит, услышит разговор и ворам на ушко, а докажи…
И покашляв, стал разливать в стаканы, не кипяток, а красное вино.
– За начало твоей службы полагается, Константин. Так что давай-ка, глядишь и аппетит появится. Хотя аппетит в наше время вроде бы и лишнее, как еды-то щи да вобла.
Он, кряхтя, выпил вино, проследил за Костей. Подвинул к краю стола тарелку с едой:
– Ешь, Константин, не стесняйся. Хоть капуста да кипяток, а кровь разогреют…
В голосе его было столько доброты, глаза излучали столько тепла, что Косте он на миг показался отцом. Вот так же, помнится, сидел отец в деревенской избе за столом, подвигал сыновьям еду, а сам лишь курил и думал, думал о чем-то. Перед самой войной это было…
И взволнованно Костя сказал:
– Спасибо вам, Семен Карпович. Добрый вы ко мне. А почему и сам не знаю.
– Ну-ну, – с притворной сердитостью буркнул Семен Карпович, а голову опустил, как пряча от Кости глаза. – Сына ты мне потому что напоминаешь. Тоже Костей зовут. Только в тебе деревенского обличья много и лицо круглое и носик с загогулинкой, а у моего Кости лицо тонкое, волосы на голове белые. В мать он – полячка она у нас была, Бронислава Тадеуш. А еще радуюсь я за тебя, потому что верю. Верю, Константин, что моей дорогой твердо пойдешь. Дорога эта нелегкая, не то что, скажем, волосья в парикмахерской стричь или поварешкой мешать в котле на кухне. Будут окружать тебя люди черные, без сердец – карманники, убийцы, грязные бабенки, шулера. Пойдешь ты по притонам, по квартирам, будут тебя ругать, оскорбят не раз, а то и в лицо плюнут, а то и замахнутся чем ни попадя – ножом ли, кастетом ли. А ты все это перетерпишь, верю я крепко и потому вот перед тобой такой открытый, доверяюсь как на духу, рассказываю все такому мальчишке. Когда я пришел в ученики к Бибикову, так он мне не доверял больно-то, на побегушках был у него, на расстоянии за ним ходил, что собачонка. А тебе я доверяю как равному.
Он замолчал, а Костя, чтобы сделать приятное своему учителю, спросил:
– А много же вы, наверное, Семен Карпович, словили ворья? Столько лет на службе, уж всего насмотрелись, подитко.
Семен Карпович взял воблину, разломил ее, погрыз хвостик. Казалось Косте, обдумывает: отвечать или нет на вопрос.








