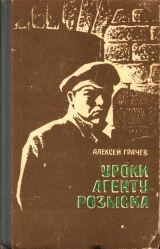
Текст книги "Уроки агенту розыска"
Автор книги: Алексей Грачев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Из-за двери опять донесся голос, теперь звонко спрашивал кого-то Карасев.
– Никак только не пойму – почему Коля стрелял здесь, в милиции, а не на улице. Там же легче было удрать?
Кто-то незнакомым голосом ответил:
– Потому что под дулом шли они сюда, наверное. Не удалось никак выхватить наган. А здесь ребята сплоховали, поубирали, видно, свои револьверы в карманы. Вот те и воспользовались.
И все же не верил Костя. Казалось, что снится ему, возле двери кабинета Ярова подумал с долей облегчения:
«Сейчас все пояснит начальник. Мол, выдумка это в отношении Шахова с Глебовым».
Яров стоял у окна, опустив плечи, сгорбившись по-стариковски. Гимнастерка на спине вздулась пузырем из-под ремня. Ветер трепал жидкие льняные волосы на лбу. Он выслушал сбивчивый рассказ Кости обо всем, что случилось с ним, и, ни слова не говоря, толкнул окно рукой. Поплыли из-за высоких белых стен, отделяющих Мытный двор от улицы, стройные и грустные слова революционного гимна:
«Вы жертвою пали в борьбе роковой»…
Яров слушал, покашливая глухо. Изредка переминался с ноги на ногу и слабо поскрипывал под ним паркетный пол кабинета. Не двинулся, когда кончилось пение и стал ясно слышен привычный шум городского квартала: скрип колес, шарканье ног, свистки, крики мальчишек.
– Значит, уволить тебя, – заговорил, не оглядываясь. – Не годишься в агенты. Ну-ну… Все так говорят. И я вот так же говорил в Губкоме партии однажды весной. Знаешь, что мне ответили там. В революцию все надо уметь…
Голос его был не злым, а скорее печальным. Глядел вниз, как будто ждал увидеть кого-то на каменных растрескавшихся плитах тротуара. Звякнул телефон. Разговаривал больше тот, на другом конце провода. Яров лишь кивал головой и один раз устало ответил:
– Хорошо, Петр Петрович, сейчас иду. Один мой сотрудник как раз оттуда. Вместе приедем.
Он повесил трубку на рычажок и остро глянул на Костю. Кажется, только сейчас пришел к окончательному решению:
– Никаких рапортов об увольнении, Пахомов. По молодости, по неопытности эти ошибки. И твои и тех вон ребят. Это Союз молодежи собрался на съезд. А пели в память о своих товарищах. Их в святовских лесах банда Озимова положила. Отправились воевать с зелеными как на масленицу: на подводах, да с песнями. Ну те их из кустов в упор. Как и Артемьев Шахова с Глебовым. Слышал уже, наверное? Вот так-то, Пахомов. Мы Артемьева ищем повсюду – в притонах, в чайных, на станциях, в деревнях. А он вчера, в полдень, этаким губернатором шагает возле стен Кремля. Мало один – так и двоюродного брата в попутчики забрал. Посмеяться, может, решил над нашим уголовным бюро – дескать, не ищете, так я сам к вам, на вы, так сказать, иду… Арестовали их обоих, а обыскали почему-то одного Василия, двоюродного брата. Николаю на слово поверили. А у него браунинг в сапоге хранился. Вот на лестнице и применил он его… Да, тяжелый удар нанесла нам контрреволюция и уголовщина…
Он натянул на чуб фуражку, смахнул со стола в ящик бумаги небрежно и как-то машинально. Покачиваясь, будто бы больной, подошел к Косте.
– Только вот что, Пахомов. Как же это ты в политику не вмешиваешься? Ты что – анархист или с луны свалился, не житель земли?
Теперь это был другой Яров, какого он не видел до сегодняшнего дня, постаревший сразу, с резкими морщинами в углах рта, с прищуренными злобно глазами. Уж лучше бы он его ударил, чем так смотреть. Лучше выгнал бы из кабинета пинком ноги, чем видеть в Пахомове самого неприятного на свете человека. Так подумал про себя Костя и съежился, опустив голову вниз.
– Знаю я кто твой теоретик, Пахомов, – глухо говорил Яров. – Знаю, кто втащил тебя в эту нейтральную платформу. Только, Пахомов, случается, что нейтральная платформа и платформа предательства – одно и то же. Ты про Мартына Туркина слышал?
– Слышал, – ответил тихо Костя, все еще не поднимая головы, боясь встретиться с глазами начальника, – Семен Карпович рассказывал. Он военного комиссара выдал…
Будто не слышал слов Кости начальник угрозыска. Продолжал все так же сердито:
– Из приказчиков он, этот Мартын Туркин. Их немало набежало в розыск перед самым мятежом. Приказчики, мясники, лавочники, официанты. Рассказывали мне, что даже уголовника приняли, имевшего несколько судимостей за грабежи. Через четыре дня кто-то из агентов разглядел своего нового товарища по работе, тут уж вот в шею и вытолкали громилу. А почему такое могло быть. Потому что начальник милиции дожидался белых, потому что некоторые из опытных агентов сыскного отделения похрапывали на этой вот нейтральной платформе. Тот же Мартын Туркин открыто грозил: «вот погодите – придут белочехи, они красным покажут». Слышал это и Семен Карпович Шаманов, твой учитель, а пропустил мимо ушей, не арестовал. Держался своего тезиса: «чины уголовного розыска в политику не вмешиваются». Интересно, хоть маленько екнуло у него в душе, когда узнал на следственной комиссии в Чека, что расстреляли военного комиссара по предательству Туркина. Не знаю… Мы шли под шрапнелью на приступ города, а Шаманов в это же самое время поливал стены своего дома водой. Это чтобы не загорелся он от огня горящих соседних домов. Служака он усердный и любит свое дело – тут ничего не скажешь. Еще стреляли, еще трупы с улиц не убрали, а он вышел на работу. Успел первого после мятежа воришку сграбастать – сдирал тот материю в швейной мастерской. Сграбастал и привел в розыск. Сидит, покуривает и ждет законных властей с первым своим заработком. Так он и при царе сидел, и при Керенском, и при Советах, и при белых. Так он и у Махно работал бы, и у японцев, и у англичан, приди они в наш город. Нейтральная платформа, а на деле предательство, я считаю.
Ты что же, по его пути пошел? Красные – им служу, белые – им буду служить…
– Не буду я белым служить.
Костя даже не узнал своего голоса, осип, захрипел, будто застудил его сильным морозом. – Хотите верьте, хотите нет. Получилось это сам не знаю как. Пришли они ночью, стали бить…
– Испугался?
– Испугался, – не сразу уныло признался Костя, – вырвалось у меня это.
– А те думаешь не испугались, те которых бандиты положили посреди села. Могли бы сейчас тоже чай пить у самовара, скажи эти же слова… Не стали кланяться, не стали умолять о прощении или о том, что они на нейтральной платформе.
– Я, если понадобится, Иван Дмитриевич…
– Понадобится, – прервал его уже помягчавшим голосом Яров. – Революционное мужество за один день не наживешь. Не пиджак, который можно приобрести завтра на Толкучем рынке. Прежде всего осознать надо во имя чего ты живешь сам и во имя кого, и во имя чего. А эти вопросы разрешаются испытанием…
Глаза его жгли и Костя опять опустил голову. Видел теперь пальцы начальника. Они то сжимались быстро в кулак, то разжимались. Казалось, с трудом сдерживал себя, чтобы не ударить своего подчиненного. Только вспомнил Яров сейчас мировую войну, Мазурские болота. Вольноопределяющийся Иван Яров лежит в траншее, сжимая в кулаках липкую пахучую тиной землю. Так как вот сейчас сжимал свои пальцы. С тягучим шелестящим свистом прилетали тяжелые германские снаряды. Валились на спину потоки комьев, пыли, щепа разбитых бревен, досок. Нос забивало гарью, надсадный кашель раздирал легкие. Бесконечно били из серого предрассветного тумана пулеметы, бороздили землю вспышки прожекторов. Потом из конца в конец траншей понеслась команда идти в наступление. Рядом подымались солдаты, с руганью вымахивали из траншей, а он как прилип к этой земле, тело стало свинцовое… Визгливый голос фельдфебеля заставил вскочить, броситься через бруствер. Бежал вслед за топочущими солдатами, видел как то тут, то там взлетают в кислой пороховой дым винтовки, руки, как никнут, горбятся серые шинели. Ждал – вот сейчас боль разрежет, располосует в одно мгновение Ивана Ярова. Хлынет в глаза темнота и не почувствует он больше, как сыра и жестка эта чужая далекая земля. Но добежал до проволочных заграждений, ввалился в траншею, уткнулся лицом в стену, обитую жердями, пропахшую табаком, немецким одеколоном, йодом и заплакал. От счастья, что даже не царапнуло его. Тогда ему было двадцать три года и он пришел в армию по заданию партии, чтобы вести среди солдат большевистскую агитацию. Этому парню всего семнадцать и знал он до сих пор лишь крестьянское поле, да хлев. Он еще сырой, как воск. Но из него можно тоже слепить твердый характер, крепкие нервы, которые помогут ему не дрогнуть даже перед военно-полевым судом, как не дрогнул он, Яров, в семнадцатом году под Двинском. Лишь взбунтовавшие солдаты отвели ружья конвойной команды от его груди, успели на какое-то мгновение. И этот не дрогнет, придет время. Яров верил в эта. Верил, разглядывая его усталое лицо, стиснутые зубы, морщину на переносице. Раннюю морщину. Знать уже переживал. Может, по отцу?
– Помыться тебе надо бы, Пахомов. Прокис от пота. Да пообедать. Сейчас пойдем в Губком партии, а оттуда домой, а к вечеру поедешь в Татарскую слободу. У родни Василия Артемьева надо побывать. Со мной поедешь. Хватит тебе старорежимной учебы.
В длинном, кажущемся бесконечным коридоре губернского комитета партии как на улице: старик с котомкой на плече, приехавший в город, как видно, издалека, пропыленный, зажаренный солнцем, матрос с карабином, женщина и вокруг нее мальчишки, девчонки – может, из колонии, или же ученики, какие-то парни с деревянными чемоданами, пилами и топорами.
Голоса и стук каблуков звучно отдавался сводчатыми потолками, выкрашенными в зеленый цвет стенами, высокими в расписных узорах дверями с медными ручками. Представил Костя что там, за этими дверями сидят важные и строгие люди, которые встретят его сейчас строгими словами, неприветливо. Но человек, к которому они пришли, был самый обыкновенный, разве что очень культурный с виду: в белой рубашке, пенсне в золотой оправе. Оглядев Костю, он спросил:
– Так это, Иван Дмитриевич, и есть тот, что из Фандеково? – Помолчал почему-то и тут же заговорил: – – Что там в деревне? Настроение какое у народа?
Удивился Костя – вроде бы и не столь важное дело спросил. Но робко рассказал, что посадил он нынче с матерью картошки, да овса дали власти по двадцать пять фунтов на душу. Вот с питанием тоже почти как в городе – голодает народ. Промывают барду паточную, да мешают кой с чем. Тем и питаются чаще всего.
– Ну, наладится, – твердо сказал собеседник. – А с чего это так легко живется в Фандеково бандитам? В сельсовете кто?
Помялся Костя – какое дело ему до сельсовета:
– Незнакомый откуда-то человек. Живет на станции, а в селе наездами бывает. Ну, да народу все равно. Говорят: нам что ни поп, то батька…
– Что ни поп, то батька, – сердито повторил партийный товарищ. – Зато вот троих положили в Фандекове, да каких людей хороших. Агитаторы собирали народ, чтобы о восьмом съезде партии объяснить? О том, какие задачи поставил Ленин перед рабочим классом и крестьянством? О том, что теперь главное в нашем деле это опора на бедноту в союзе с середняком?
Костя покачал головой:
– Нет, не собирали. Мать рассказала бы. Насчет отрезки земли у помещика Баунина было такое дело. Двое даже подрались. А насчет съезда не было.
Партийный товарищ вздохнул, посмотрел на Ярова. Тот двинулся на стуле с виноватым видом, как будто он был ответственный за проведение собраний в селе Фандеково:
– Запущена агитационная работа, Петр Павлович, сразу видно. А «зеленые» да кулаки этим пользуются.
– Пользуются, вот именно, Иван Дмитриевич. И эту ошибку нам надо исправить. Расскажи-ка подробно, Пахомов, как все у тебя получилось, про все, что видел…
Разговор был долгий и с виду мирный, спокойный, доброжелательный, но когда Яров вышел в коридор и стал судорожно расстегивать пуговицы гимнастерки, пальцы его вздрагивали. Гибель двух агентов в самом угрозыске, можно сказать на его глазах, расстрелянные и зарубленные в уездах, упущенный Сеземов бестолковым еще сотрудником, пуля, которая могла сидеть в затылке у этого сотрудника – как тут не расстроишься. Да еще вечером надо доложить экстренному заседанию в Губкоме партии по поводу бандитских вспышек в городе и уезде.
– Позорче, позорче, Пахомов, – только и сказал он и хрустнул пальцами, с силой сжимая их в кулаки.
Они спустились по лестнице вниз, вышли на площадь. Плавились кресты на церкви, стекла в окнах этих длинных трехэтажных зданий, выстроенных на площади полукругом, штыки красноармейцев, небольшой кучкой и вразнобой шагавших к саду. Оттуда, из-за кустов, из-за стволов, поломанных, обожженных огнем пожаров лип, донесся вдруг громкий и короткий плач. Яров вздохнул, снял фуражку.
– Слышал? – сказал угрюмо. – Год прошел уже, а около памятника погибшим в мятеж все люди. И днем, да и вечером. Родные, просто посторонние.
Костя бывал в этом садике не один раз. Вчера даже проходил мимо по дороге из флотских казарм. Около сколоченного плотниками из бревен восьмиугольного сруба с пятиконечной звездой на длинном и тоже деревянном шпиле сидели несколько женщин с заплаканными лицами. С ними дети – тоже молчаливые нахохлившиеся. А на тропках сада – люди любопытные – и в их глазах сочувствие и тоже жалость, и к тем, кто был захоронен под памятником, и к тем, кто оплакивал сейчас этих захороненных.
– Побольше бы бдительности коммунистам в прошлом году, – продолжал Яров, не отрывая глаз от видневшейся сквозь зелень кустов пятиконечной звезды. – Может не столько бы погибло, и город бы сохранили от пожара, от этих трехдюймовых снарядов.
– Дяденька, – послышался сзади тонкий слабый голосок. – Дайте кусочек хлебца…
Возле них стоял лет шести-семи мальчонка, смотрел с надеждой и напряженно, тянул тощую перевязанную куском полотна руку:
– Дайте, дяденька, – попросил снова. – Я вам за это «Интернационал» спою.
Яров погладил его по голове и резко повернулся.
– Идем, Пахомов.
Шел через площадь чуть ли не бегом. За углом, возле высокой стены, ограждающей улицу от Мытного двора, остановился. И губы дрожали – улыбнулся криво. Можно было подумать – спасся от какой-то огромной опасности.
– Ничего, – проговорил твердым голосом. – Ничего, – повторил опять, так же твердо и сурово. – Придет то время, Пахомов, когда этот мальчонка даст оценку всему, что было с ним и не пожалеет. Не пожалеет, что пришлось ему голодать в девятнадцатом году, не пожалеет, что руку тянул за милостыней… Ради светлого будущего так тяжело ему сейчас. Ради него…
18
Прошло несколько дней и снова в Фандекове грянули выстрелы. В самом дальнем углу погоста, у ограды, поникшей, ржавой, заросшей хмелем и калиной легли от красноармейских пуль трое: Побегалов, Камышов и староста Кривов.
Верен остался Камышов самому себе даже в последнем своем пути – ругался на все село, грозил, рвал рубаху на себе. Игнат Ильич был тих и спокоен, только и есть, что шептал молитвы, да торопливо крестился, чуть не до того, как пуля согнула его пополам.
Побегалов – тот будто уезжал в город за товаром для своей лавки. Пока вели, давал советы завывающим в голос домашним. Мол, это сделать, да то, да третье. Даже что-то наказал насчет ремонта печи в баньке. А напоследок передал поклон сыну Митьке, который ушел с бандой Озимова. Попросил во всеуслышание, чтобы он при случае попомнил отца, «убиенного безвинно».
Не пришлось Митьке попомнить отца. Чоновские отряды во главе с председателем Чека Агафоновым настигли, окружили и разбили банду в «озерном» крае. Пулеметы сложили больше половины «зеленых», среди них и Епифана Сажина, Митьку, братьев Клячевых, дочь старосты Кривова Верку, увязавшуюся за младшим Клячевым.
Озимов скрылся с несколькими подручными. Появлялся он в разных уездах губернии и вновь надолго хоронился неведомо куда, а скорее всего на хутора к сытым «озерным» мужикам. А спустя пять лет и вовсе исчез. Остались лишь слухи о его судьбе. Одни утверждали, будто бросил он свое бандитское ремесло и с фальшивыми документами, как обыкновенный сапожник, тачал башмаки, да туфли. Другие рассказывали, будто кто-то видел его во время Великой Отечественной войны в Румынии, чуть ли не владельцем лавки. Но большинство верило, что Озимов утонул. Случилось это, мол когда за ним по пятам гнался уголовный розыск глухой осенью. Посадил средь ночи жену и сына в сани, погнал лошадь прямиком через реку, по неокрепшему еще льду. И наскочил впотьмах на промоину. Будто без звука все ушли под воду. Заставляли верить в этот рассказ тоже бесследно исчезнувшие жена и сынишка бандита. А что не нашли трупов в реке – так ил засосал. Или всплыли когда-то и где-то – так поди разбери кто это всплыл, если времени прошел не один даже год и столько утекло воды.
Но все это было потом, многие годы спустя. А в те июльские дни события шли своим чередом: исчезла неизвестно куда из гостиницы «Царьград» Инна Ильинична. Запасной полк отправился на деникинский фронт без командира санитарного отряда Сеземова, зачисленного в дезертиры. В угрозыске забелел на стене еще один приказ, в котором одним из параграфов Яров утверждал сотрудником второго разряда Пахомова Константина Пантелеевича.
19
Теперь он был настоящий агент уголовного розыска. В одном кармане лежало картонное удостоверение, в другом тяжелый черный и плоский кольт. Вручая то и другое, инспектор Петр Михайлович Струнин, пообещал в скором времени заменить кольт на револьвер. По его мнению револьвер и удобнее, и надежнее. Но Косте нравился кольт своим внушительным видом, девятью зарядами.
Сейчас он шел по городу с «личным сыском». Он мог идти куда угодно. Так и инспектор наказал:
«Ты можешь идти куда захочешь: на рынки, на остановки трамвая, на пристань, даже в баню. Приглядывай, могут подозрительные встретиться в толпе. Если надо, предъявишь удостоверение. Оружие применяй в последнюю очередь, когда побежит арестованный или нападут злоумышленники».
Не спеша шел он мимо приземистых двухэтажных каменных домов, соединенных друг с другом железными, в золотушных струпьях, воротами, деревянных заборов, на которых лишаями темнели обрывки от содранных афиш или воззваний, старинных арок – под ними даже в солнечный день всегда темно, холодно. Смотреть со стороны – красивая, наверное, походка у Кости Пахомова. Ровный четкий шаг, пощелкивают сапоги, начищенные утром ветошкой, снятой с поленницы у Александры Ивановны. Голова не качнется, лишь глаза туда и сюда жучками-плавунцами. Выхватывают из людской толчеи седую бороду старика, сонные глаза разморенной в бане девицы, вздрагивающий штык винтовки за спиной чоновца. Рука правая у Кости в кармане, поглаживает нежно рукоять кольта. Совсем этим похож он на парня в желтой куртке. Если бы шла рядом еще Настя! Он бы ей сказал, эдак спокойно: «А не пойти ли нам, Настя, погулять к реке?».
Метнулся из подворотни безмолвной дворняжкой газетный лист и на нем успел прочесть имена, отчества, фамилии, осужденных скорее всего губревтрибуналом за бандитизм, за мародерство, за укрытие контры, за злостную спекуляцию. Откинул лист и вот он уже под огромным башмаком долговязого парня. За собором сухо треснул выстрел. Взмыли над куполами галки. Маятником шаркает по стене заколоченной булочной разбитая вывеска. Полыхнуло трюмо парикмахерской. Ее владелец, пожалуй, последний в городе частный владелец парикмахерских, старик, изящный и тонкий, что юноша, в очках, атласном халате сидел у окна, уныло, рассматривая мелькающие перед глазами лапти и ботинки, сапоги и краги, босые ноги и штиблеты. Весь этот поток людей вливался за углом в бурлящий и гомонящий Толкучий рынок. Не вынимая руки из кармана он вломился в толпу. Народ тот же: черные, землистые, бронзовые лица, зычные глотки, цепкие руки. Сновали мелкие торговцы в разнос с лотками. На лотках пакетики с сахарином, пачки с махоркой, катушки ниток, какое-то тряпье, ириски дорогие, что и соль.
…В Фандекове, на реке, за домом мельника Семенова есть омут с водоворотами. Кинешь щепку и смотришь, как крутят ее черные маслянистые воронки. То утопят, то выбросят ее невидимые пальцы, протянутые со дна. Наконец отпустят и, вроде как радостная, понесется она на стремнине в тени кустов тальника, камыша, под гибкими и скрипучими лавами. Так и Толкучий рынок занес его сначала в будочку продкомовцев, к сивоусому Ивану Петровичу, покидал потом из конца в конец и, намучив как следует, вытолкнул на улицу. На манер Семена Карповича снял фуражку, вытер потный лоб, а отдышаться не успел – увидел набегающий из-за угла трамвай. Погнался за ним, вскочил на подножку прицепного вагона. Был вагон без стены, накрыт горбатой железной крышей, продырявленной повсюду пулями. Пассажиры стояли плотной стеной, держась руками за металлические стойки, мотались из стороны в сторону, поругивались беззлобно. Спросил бы Яров или Семен Карпович: «Это куда и с какой политикой ты едешь, Пахомов?» Ответил бы: «Мало ли кто в такой толкотне заберется в чужой карман». Или вон как поглядывает рябой парень на женщину, прижавшую кошелку к груди. Значит, дорожит здорово кошелкой, раз так тискает ее. Ему это понятно, а опытному вору и подавно. А уж если по секрету, так больше интересовали сейчас Костю вот эти три венецианские окна небольшого особняка в тесном переулочке. С платформы вагона за занавесками всегда можно увидеть головы, то мужские, то женские, портреты на стенах, плакаты. Только и на этот раз не заметил он Настю. Наверное, сидела она где-то на втором этаже. Проехал трамвай переулочек, остановился на площади, как из ковша воду, выплеснув пассажиров. В разные стороны разошлись все трое: рябой, едва не вприпрыжку, к садику у театра, женщина, все так же прижимая к груди кошелку в дверь часовой мастерской, а он к электротеатру «Рекорд». У запыленного окна снял снова фуражку, причесался гребнем. Увидел свое мутное отражение: высокий парень с почерневшим лицом, в расстегнутой косоворотке, пиджаке. Со стороны смотреть – готовится агент розыска пойти в электротеатр вслед за этими мальчишками и девчушками. Имеет причем полное право Пахомов пойти в кино за здорово живешь. Вот как писал в своем приказе на прошлой неделе Яров:
«Дежурные имеют право присутствовать в кинотеатре бесплатно, остальные агенты, наравне с гражданами города, должны покупать билеты». Очень строгий приказ, удививший, между прочим, агентов розыска. Только нет что-то желания у Пахомова сидеть в кресле и хохотать до коликов в животе на ужимки Макса Линдера. Он идет прочь от электротеатра, он входит снова в этот узенький переулок, открывает дверь облупившегося с фасада особняка. Идет ровным и четким шагом по кафельному полу и вдыхает терпкий аромат лекарств, карболки, уступает дорогу пожилым сестрам милосердия в белых наколках, с красными крестами на пышных, как у монахинь, колпаках. Его оглядывают подозрительно, но не спрашивают. И он их ни о чем не спрашивает, а подымается спокойно по лестнице на второй этаж. Как будто он какой фельдшер из уезда, приехал, чтобы выписать эти вот пахучие лекарства. А на втором этаже первая дверь направо приоткрыта. И в узенькую щель увидел Настю, сидевшую боком за столом. Сидела и слушала как о чем-то рассказывает или же убеждает, или же ругает ее тоже рыжеволосая девушка. Прошел мимо двери и едва не носом уткнулся в ангелочков, вылепленных на стене. Пузатенькие, пухлощекие – они подымались стайками над облаками, подмигивая ему гипсовыми глазками, как бы говорили: «Не робей, парень, иди смело». И как подтолкнули его к полуоткрытой двери. Раскрыл ее, вошел, проговорил бодро:
– Здравствуйте, Настя. Иду по своим делам, гляжу, знакомая сидит, дай, думаю, загляну…
А руки как не свои, а по щекам точно кипяток льется, обжигает их. Поди-ка, красный, если опять же смотреть со стороны. Эх, и зачем он только сунулся сюда! Девушка, стоявшая у стола, удивленно уставилась на Костю, потом так же на Настю. А та поднялась медленно и проговорила с растерянной улыбкой:
– Проходите, Константин, так ведь вас зовут, слышала я. Проходите и садитесь вот на этот стул…
Тут ее подруга ахнула и кинулась к дверям, успев сообщить, что «задаст ей Петр Вонифатьевич».
Костя присел на кончик стула, стянул с головы фуражку и мельком оглядел комнату. На стене зонтик, может, и Насти, брезентовый плащ, у окон три стола. На одном счеты, на другом лампа с синим абажуром, в самом углу навалом плакаты. У Насти на столе большая, с пулемет, пишущая машинка, ворох бумаг, стакан с водой.
– Работы сегодня много, – заметив его взгляд каким-то виноватым голосом, проговорила Настя. – Отчет надо отпечатать к концу дня. Сколько в губернии заболело инфлуэнцией, сколько брюшным тифом, сколько сыпным. От этих циферок даже в глазах мошкара. Вот ради отдыха и заговорилась с подружкой. Она тоже машинистка, только у инспектора, на первом этаже.
Со времени их последней встречи во дворе «дома сыщиков» она изменилась. Похудела, под глазами вмятинами черные круги, губы посинели, распухли – как будто кто ударил ее вчера кулаком по лицу. «Целуется, – подумал он. – Целуется и на берегу реки сидит, наверное, до утра».
– А я вас видел недавно возле реки вечером поздно, – помимо воли, вырвалось у него. – Шли вы с каким-то парнем в желтой куртке.
Она покачнулась слегка, словно кто ее толкнул в плечо рукой, быстро и испуганно проговорила:
– Нет-нет… Что вы… Вы просто спутали меня с кем-то… Что вы, – повторила снова, как в забытьи, и стала перебирать ворох бумаги, отыскивая в них что-то. А у него в душе сильнее разливалось чувство тоски и ревности. Так вот в Фандекове разливается по весне река. День за днем все грознее, все шумнее она – так что грозный шум становится слышен сквозь двойные рамы их дальней от берега избы.
– Вы это, Настя шли, – повторил упрямо и с огорчением. – А парень этот похож на одного, которого уголовная милиция ищет. Сверху-то хорошо было видно, луна чай, светила…
Немало советов и уроков дали ему и Семен Карпович, и Яров, и инспектор Струнин. Только как прятать от человека свою ревность – не научили. Позже он поймет, что совершил ошибку. Позже он с горечью вынесет себе приговор, что не был он в тот день настоящим агентом розыска, хотя и лежало в одном кармане картонное удостоверение, а в другом тяжелый черный и плоский кольт. Не заставили его задуматься ни ее руки, которые никак не могли вставить в машинку листок бумаги, ни ее потемневшие щеки, ни ее хриплый голос:
– Простите, – попросила холодно, – но у меня срочная работа. Отчет требуют в губисполкоме…
– Пожалуйста, – даже с какой-то бесшабашной веселостью ответил он и, нахлобучив фуражку, шагнул в дверь, плотно прикрыл ее за собой. На лестнице подумал тоскливо: «Выгнала. Она тебя, Костя, попросту выгнала в шею, как все равно нищего».
Стучали каблуки по кафельному полу, отдаваясь в ушах звонко. На улицу вышел оглохший. Откуда-то из-под земли приплывали стук колес трамваев, топот, цокот копыт, злая брань ломовых извозчиков, пенье женщин, с флагами идущих в колонне на площадь на митинг. Он натыкался на прохожих, не отзывался на их ругань, упреки. И все видел перед собой того в желтой куртке. Значит, крепко любила она его, раз так заволновалась, раз не захотела посидеть с ним хотя бы одну минуту, раз выставила за дверь… Но ведь она же сама приглашала его погулять в городе. И смотрела там, во дворе «дома сыщиков», нежно ласково. Мария никогда не смотрела так…
На перекрестке он вскинул голову. Увидел мелькнувшую в окне рыжую прическу: то ли это была Настя, то ли ее подруга – издали не разглядел.
20
Другим стал для Кости Семен Карпович. Каким – он и сам не сказал бы, спроси если кто. Вроде все тот же оставался Шаманов, а вот не тянуло к нему, как прежде. И голос слышался чужим, незнакомым, и походка вразвалку со скособоченной головой раздражала, и усмешка его разонравилась – казалось смеется он над всем миром, над каждым человеком с кем сходится нос к носу. Оттого-то, если приходилось вместе идти домой, помалкивал или отвечал скупо, нехотя, с трудом подбирая слова. Приходилось иногда с ним бежать на место преступления. И здесь сам не заводил разговора, на шутки лишь улыбался вежливо, на сердитые упреки виновато кивал головой. В конце концов Семен Карпович заметил настроение своего бывшего ученика. И спросил по дороге домой августовским безоблачным вечером:
– Да ты что, Константин? Или обидел я тебя чем?
Слова эти, сказанные с задушевной грустью, тронули Костю, смягчили отчуждение. Все же в этом городе – жарком и голодном – среди тысяч незнакомых людей, безразличных к его судьбе, к его жизни, он был самым близким после Александры Ивановны. Вот почему не сдержал дружеской улыбки, ответил:
– Да просто настроение такое, Семен Карпович как приехал из села. Насмотрелся. Да и тут еще Шахов с Глебовым…
– Шахов с Глебовым?
Семен Карпович как-то удивленно повторил сказанное Костей и в нос себе ворчливо добавил:
– Чего тут особенного? Революция нуждается в мясе. Это еще что, – со вздохом продолжал он. – Посмотрел бы ты, что у нас тут творилось в первые дни после революции. Магазины крушат в одной стороне, в другой ларьки, в третьей толпа солдат с винтовками, в четвертой вино из подвала винного на поток отдано. Один солдат даже захлебнулся. Насытился, поди-ка на всю загробную жизнь… Он хохотнул коротко, привычно знакомо покрутил головой на фермы моста, через который шли, постукивая каблуками по настилу.
– Красная гвардия тогда была вместо милиции. На конях, а то и просто рабочие с винтовками. Ворам они спуску не давали. Поймают коль в толпе, быстро приговор, так у ног толпы и укокошат. Стрельбы было много. Бывало, что тебе германский фронт. И бомбы ухают, и пулемет стрекочет. Вот тогда наших двух тоже агентов бомбой враз положила солдатня в притоне у этой самой госпожи Добрецкой. Помнишь, в «Царьграде» такая с носом вороньим сидела за столом? Ну вот… Пришли они с обыском, а солдаты пьяны. Послали их, агентов, в кухню – мол, там есть кто-то подозрительный. Да обоим вслед бомбу и кинули. Так изрешетило, что живого места не отыскать было на ребятах. Молодые, бывшие фронтовики. А госпожа эта, Добрецкая, вот после того и смылась.
– Может среди солдат и здесь Артемьев был? – сказал Костя. – Ходит же он в солдатской форме?
– Может быть, – охотно согласился Семен Карпович и этими словами обидел почему-то Костю. Сердито спросил:
– Ну вот, а вы говорили однажды Ивану Дмитриевичу, что Артемьев не убивает. А он вон как может…
Семен Карпович пожал плечами. Как будто недоумевал, услышав слова Кости. Тут же заулыбался, похлопал его по плечу:
– Молодчина! Запоминаешь разговоры. Это уже хорошо, Константин. Втягиваешься… Ну, а то про Артемьева – так видишь ли, – их сейчас горстями ставят к стенке. Вот они и отбиваются. Как все в природе. Поймай в кулак муху – и послушай, как она жужжит, точится во все стороны, сучит лапками, крылышками, воюет даже. Так вот и воры. Раньше варнак семью вырежет, а ему восемь лет каторги. Обреют, кандалы на ноги и от этапа к этапу. И коль в силе варнак, да в почете у шпаны, так еще и в «жиганы» иль в майданщики выбьется. Все равно как земское начальство. Вот он и не обнажал оружия против сыска, руки кверху. Теперь что пуля, что ревтрибунал бывает одно и то же. Оттого и Коля…








