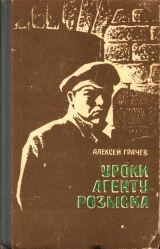
Текст книги "Уроки агенту розыска"
Автор книги: Алексей Грачев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Annotation
В своей новой повести прозаик Алексей Грачев рассказывает о трудной работе сотрудников уголовного розыска в одном из губернских городов в первые годы существования молодой Советской республики. Автор использовал материалы Государственного архива Ярославской области и воспоминания ветеранов милиции.
Уроки агенту розыска
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Уроки агенту розыска


1
Летним полднем девятнадцатого года Костя Пахомов приехал в город. Состав из расхлябанных вагонов остановился на дальнем пути, рядом с санитарным эшелоном. Едва затих звонкий перепляс буферов, как послышалась негромкая речь раненых, стук костылей, стон вперемежку с руганью. Покрикивал где-то неподалеку маневровый паровоз, тонко отзывалась ему трель рожка стрелочника и вдруг все эти звуки разом поглотились громом духового оркестра у вокзала. Кто-то из пассажиров, нетерпеливо закачавшихся к выходу, проговорил:
– Еще одна маршевая рота уходит на войну…
Другой – мужик в шинели и холщовом картузе, пробурчал:
– Воюют, а в щах заместо говядины тараканы.
Парень в черном пиджаке, черной кепке заглянул ему сзади в лицо:
– У тебя, дядя, одна жратва на уме. Потерпеть не можешь?
– Мне-то что. У меня ремешок подтянут…
– Вот и язык подтяни, – посоветовал парень, оглядывая ведро, которое нес мужик в руке:
– Вижу как подтягиваешь… Дуранду с крахмального на толкучку везешь?
Тот оглянулся и теперь испуг появился в глазах. Помотал головой:
– Не-е-е… Какая там дуранда. Творожку да лучку родичам в город из деревни. Подкормить малость.
Он, кряхтя, спустился со ступеньки на землю, а под вагон юркнул с проворством ящерицы. Костя полез за ним, шаркая мешком о закопченные шпалы. На дощатой станционной платформе попутчик покосился на него и остановился:
– Это ты, – произнес, вытирая лоб рукавом прожженной в полах шинели. – Думал тот, черный что грач. Может из бандитов, может из Чека. И тех и тех бойся. Их ты, времечко.
Он оглядел Костю, добавил уже приглушенно:
– Из дезертиров что ли?
– Нее-е, – тоже нараспев ответил Костя, – на работу приехал.
– На работу? – недоверчиво и вместе с тем разочарованно переспросил мужик. – А я смотрю рожа круглая да румяная. Точно в лесу, в землянке откормился. Чего же тогда стороной пробираешься?
Он сплюнул и, осмотревшись, резво пошагал к видневшемуся неподалеку кладбищу. Точно не по душе ему была музыка, гул на перроне. Или боялся снова столкнуться с тем скуластым парнем?
Возле деревянного с огромными окнами вокзала шумела толпа. Развевались знамена, кричал что-то старик, забравшись на пустые ящики. То и дело он стукал в грудь кулаком, ветер трепал его жидкие седые волосы. Кто-то плясал, кто-то смеялся раскатисто. Проталкиваясь, Костя видел юные лица красноармейцев, заплаканных женщин, девчат с ласковыми глазами, степенных и важных стариков, наказывающих что-то строго красноармейцам, мальчишек, снующих и гомонящих, что воробьи над житом.
– По ва-а-а-гонам!..
Толпа от этой команды пришла в движение, хлынула волной по перрону. Грохали каблуки бойцов, заскакивающих в теплушки. Последние поцелуи, торопливые и жадные, может быть навечные, слезы, крестящие пальцы. Гукнул паровоз и тотчас же грянул опять духовой оркестр, у многих от этого грустного марша мгновенно заблистали глаза. Даже у Кости в горле запершило. Заскрипели запели колеса и теперь в едином порыве взметнулись в небо косынки, платки, картузы, ладони. Поплыли мимо косоворотки и картузы, пиджаки и залатанные брюки, заскорузлые гимнастерки, пузырчатые галифе, засаленные обмотки. Полетело из одного вагона с присвистом и топотом:
Пойду, выйду в рожь высокую,
Там до ночки погожу…
– Это не деревенское кулачье, – проговорил кто-то с гордостью за спиной у Кости. – Фабричные, прямо из казарм.
У старика, который сказал, вытянутое с синеватиной лицо, ощупывающие глаза. Так и говорили они: «А ты что же, парень, не едешь на фронт? Ты почему остался на перроне? Такой-то румяный?».
Вроде бы как и окружающие тоже стали подозрительно посматривать на Костю, на его мешок, в котором лежали яйца, преснухи, банка сметаны – все в подарок Александре Ивановне, к которой собирался идти.
«Рано еще мне. До осени оставили, осенью может и я поеду»…
Ответив так про себя старику, Костя пошел на площадь, где тоже было полно народа, повозок, походных кухонь, подвод с мешками, обмундированием. Готовился к отправке еще один эшелон. И здесь поцелуи, наказы, объятия и плач, то громкий, то тихий, всхлипывающий. На одной из подвод сидел красноармеец. Лениво водил пальцами по клавишам хрипящей гармони. Увидев удивленный взгляд Кости, пояснил:
– Пулей прошибло. Одной пулей гармонь, другой приятеля в живот. На фронт вроде как он едет со мной…
Он вздохнул, отложил гармонь за мешки. Костя же протолкался сквозь толпу, обошел торговку, зычно предлагающую котлеты из конины и остановился изумленный. Прошлой зимой он с матерью привозил дрова на Мытный двор. Вот здесь ехали на дровнях вдоль улицы. Тогда лежали черные от паровозной копоти сугробы, дымились трубы домов, деревья стояли в снежных платках. Катались ребята с горок, жители везли на санках ведра с водой.
Сейчас вдоль улиц лишь черные печи, голые стены, куски железной кровли, битый кирпич. Одну из печей на другой стороне площади разламывали какие-то странные люди. На одном бархатный пиджак, у другого на голове котелок, третий даже при галстуке. Толстяк с трясущимися щеками катил тачку с битым кирпичом на пустырь. Колесо тачки щелкало о щебень и камни и в такт глухо щелкала пряжка ремня о ствол винтовки охранявшего людей красноармейца. Красноармеец поворачивал лениво зачернелое лицо, поддергивал локтем приклад.
– Куда тебе, эй? – послышался женский голос.
Из-за спины вывернула девчонка лет четырнадцати-пятнадцати. Черные волосы прилипли на лбу, лицо как у пожилой женщины, одутловатое, смурое. Встала напротив, уставилась не мигая, как хотела еще что-то спросить или же собиралась просить подаяние.
– Знаю я, куда мне.
Осторожно подкинул мешок на плече и двинулся вдоль пустынной улицы. Ветер швырнул ему в лицо щепоть горячей красной пыли и от этого ожога, впервые с той минуты как покинул родной дом, тревога охватила его:
«Как-то жить будешь здесь, Костюха?».
2
Отец Кости погиб в мировую войну. По рассказам, дошедшим до Фандеково, будто бы в бою погнал он артиллерийского битюга в укрытие, поскольку ездовым служил. Только поскользнулся или подвернулся неловко – ударил его ошалевший от взрывов конь кованым копытом по виску. Будто бы и не охнул отец…
Если отца свела со света лошадь, то Николая, старшего брата Кости – волки. Случилось это уже в начале зимы семнадцатого года. Отступая из Риги от немца, остановились солдаты в имении графа Аракчеева. Подтопить печи понадобилось и поехал Николай с однополчанином в лес на порубки. А тут волки рядом взвыли, а может даже и собаки одичавшие. Бояться надобности не было – с ружьем – а Николай – он и в Фандеково-то храбрым не был – пустился бежать. Да зацепился за пень что ли, упал и глазом на острый сук.
Об этом узнали лишь в восемнадцатом году. По весне пришел в дом мужчина, житель какой-то далекой ихнего уезда деревни. Еще с порога, с любопытством осмотрев избу, спросил:
– Ты это мать Пахомова Николая?
– Я, – ответила мать и вцепилась в край стола, онемела.
– Ну так не жди сына, – по-петушиному выкрикнул мужчина и как палкой стукнул мать по голове. С помощью Кости привел ее в чувство, стал извиняться, что надо бы осторожно как-то дать понять. Осталось в памяти сказанное: «Подбежал другой солдат, а он как на казачьей пике».
Теперь вот и Костя ушел из Фандеково. Той же дорогой, что и отец уходил на войну и брат – мимо бань, мимо бугров вдоль реки, где в сенокос мужики пьют водку, галдят и поют грустные песни, мимо мельницы Семенова. Стоит мельница, у бочага, густо заросла высокими розовыми цветами и крапивой. На бревнах, осевшая за многие годы, как пыль, почерневшая мука. Тянутся к берегу деревянные лотки – все время по ним бегут зеленые от травы потоки. За мельницей – дом-пятистенок, с коньком на трубе, с высоким забором. Вчера вечером стоял у этого забора с Марьей – дочерью мельника. Теребила в руке платок, смотрела в сторону обидчиво.
– Покидаешь, значит, – сказала, повернулась вдруг и пошла к дому…
А покинул деревню он потому, что тесная стала для него изба с низким потолком, с тусклыми окошками; в ней всегда сумрак, тяжелый воздух. Мать хоть и плакала, а не противилась решению сына.
– Может тебе лучшая доля достанется, не как отцу с братом…
Одела его «как полагается»: сапоги из кожи, брюки из синего трико, темно-синий пиджак, картуз как у зажиточного мужика. У околицы, перед тем как распрощаться, порадовалась:
– Слава богу, не стыдно будет за тебя перед людьми. Кланяйся Александре…
Александра была подруга матери, жила когда-то в Фандекове. И замуж они вышли за сельских мужиков, да чуть ли не в один день. Разошлись только пути их мужей сразу же после свадьбы. Пантелей – отец Кости остался в селе, хлебопашеством занялся, Тихон же, муж Александры Ивановны, переехал в город и поступил на службу в сыскное отделение. Года три служил, а потом застрелили его грабители.
…Жила Александра Ивановна на другом конце города, за рекой. Костя шел мимо сгоревших в белогвардейский мятеж зданий, мимо магазинов, захламленных и опустелых, мимо бараков, в которых ютились погорельцы, через площади, через трамвайные рельсы, мерцающие на солнце, как тающий воск. Остановился он лишь возле собора, окруженного высокими и толстыми стенами. По сторонам от широких каменных ступеней подымались белые колонны. В голубом небе плыли в облаках позолоченные кресты. В черных глазницах колокольни, стоявшей поодаль, метались колокола. Звон катился над городом гулкий, быстрый и тревожный.
У колонн толпились люди, похожие на тех, что видел Костя возле вокзала – больше пожилые мужчины и женщины, в костюмах, хоть и поношенных, но из дорогого материала, шляпах и шляпках, с тростями и зонтиками в руках. Крестились, о чем-то переговаривались негромко, оглядывая настороженно друг друга. Сновали в толпе ободранные замурзанные мальчишки. Один из них на глазах у всех полез в карман к тщедушной старушонке. Та ахнула и с усилием подняла суковатую палку. Мальчишка нахально захохотал, насвистывая, отправился через улицу на бульвар.
– Обнаглело ворье, – проговорил злорадно мужчина в парусиновом картузе, – ну и власти. Скоро нагишом будем ходить по улицам, поживем. Раз мощи князя Федора с детьми тронули, то ли еще будет.
Его сосед с родимыми пятнами на обеих щеках, прямой, в шляпе, насунутой глубоко на виски, напрягая жилистую шею, заговорил быстро:
– Вчера ехал в вагоне. Гляжу, а с Катаичевской церкви крест сдирают. Вышел – так в груди и защемило. Ведь я в этой церкви венчался со своей женой-покойницей. А им, этим комсомольцам, что до этого. Ухватились за канат, как репинские бурлаки и поют еще:
Эх, дубинушка, ухнем…
Сломали крест. Верите ли – с одной дамой обморок. А какая-то женщина одну из этих девиц по физиономии хлоп, хлоп, хлоп… И домой не являйся, кричит. Хорошо бы так и других поучили…
– Хорошо бы, – проговорил в парусиновом картузе, оглядываясь по сторонам. На него шикнули и он замолк, лишь взмахнул рукой. А тут вдруг толпа, неведомо, по чьему знаку, повалила с тихим гулом в собор. Зашаркали подошвы, застукали дробно палки. Костя тоже захотел подняться по ступеням, да вспомнил, что забот у него и без того полно.
Войдя под арку моста, посмотрел на город. Тут и там подымались в небо золотистые шпили соборов, кресты и башенки церквей, схожие с головками чеснока. Поблескивали на солнце крыши зданий, точно на них лежала роса или иней. Синие волны реки лизали ядовито-зеленые от травы берега, бурые валуны, железный хлам. Возле стен монастыря тянулись незакиданные окопы, оставшиеся от мятежа. По улице, вдоль набережной, катили весело по булыжнику подводы, работали ногами велосипедисты, пронесся, звонко потрескивая, мотоцикл, и дым лег сизой дорожкой в воздухе.
Маленькая стройная девушка в блузке из красных и синих клеток, в юбке, тоже клетчатой – белое с черным – красных чулках, полуботинках прошла мимо, стукая каблуками. Едва не задела Костю плетеной сумочкой. Взглянула на него – постриженные под «польку» рыжеватые волосы, лицо круглое, чуть тронутое загаром, на щеке ямочка.
– Берегись, – загремел крик с пролетки, влетевшей как вихрь, на мост. Зычный голос, треск колес ошеломили Костю. Отскочил в сторону, едва не сунувшись ногой в одну из многих щелей и дыр деревянного настила. Кучер пролетки – старик в сдвинутом на нос картузе, свесился, грозя кнутом:
– Поглядывай, фефела деревенская…
Удивился Костя – каждый угадывает, что он из деревни приехал. Оглянулся на уходящую девушку, перекинул мешок с плеча на плечо и спустился по круче вниз, к берегу реки. В двух шагах река была уже не синяя, а бурая. Мутные волны набегали на пески с тихим плеском, вскипали желтой пеной. У берега, возле груды железных бочек и ведер с пробитыми днищами, сидела орава беспризорников, горел костер. Языки пламени лизали бока чугунка, подвешенного на проволоке. Шипела вода, бросаясь в огонь, пахло варевом. На Костю глянули глаза черноволосого парнишки в рваной кацавейке – острые, недобрые. Донеслись слова – парнишке приглянулись его сапоги да пиджак. Пошел побыстрее, с опаской оглядываясь на костер: разденут чего доброго. Вон их сколько и помочь никто не поможет – вокруг пустынно.
Успокоился, лишь подойдя к дому, где жила Александра Ивановна. Был дом какой-то чудной – низ каменный, затем подымались мореные прокопченные бревна. Наверху две светелочки, как скворешни. Пристройки для уборных из просмоленных досок. Крыша вполовину зеленая, вполовину красная, оборжавленная. Водосточные трубы тоже проржавели, полопались, ощерились. Парадная дверь на улицу была заколочена широченной доской.
Возле ворот, привязанная к чугунной тумбе, стояла лошадь. С хрустом выбирала из торбы траву, встряхивала черной гривой, словно гоняя паутов. Из калитки вышел высокий сутулый мужчина в синей выцветшей гимнастерке, подпоясанный широким солдатским ремнем с оловянной пряжкой, совершенно лысый, с русыми пушистыми усами. Глаза под такими же русыми пушистыми бровями юркие и цепкие.
– Тебе чего тут надо, парень? – спросил.
Голос был тонкий, а шея вытянулась, как у обозлившегося гусака.
– Я к Александре Ивановне Федоровой. Здесь она живет. А дверь, вон, забита…
– К Александре Ивановне, – повторил дядька, сразу потеплевшим голосом. – Здесь, здесь она живет. Со двора вход в самом низу, под лестницей. Только где-нибудь сейчас за едой рыщет, может даже на толкучке. Меняет, поди-ка, барахлишко на продукты. А жара-то, прости господи, как у негров все равно в Африке…
Он отвязал торбу, бросил ее на подводу, потом отвязал вожжи и опять обернулся к Косте:
– В гости или так переночевать только?
– На работу хочу устроиться, – ответил Костя, удивляясь дотошности дядьки.
Теперь дядька совсем стал ласковым. Заулыбался, похлопывая прутом по штанам, не то плюшевым, не то из бархата. Пузырями набегали они на кургузые запыленные сапоги.
– Она устроит, – пообещал. – Она все ходы и выходы знает, как в каторжной тюрьме работает в уборщицах. Устроит, – прибавил уже задумчиво. – А тебя как звать-то?
– Костей.
– А отчество?
Костя засмеялся растерянно. Уж очень чудной дядька. Видно, язык у него на болтовню больной.
– Я ведь еще неженатый, какое тут отчество. Просто Костюха.
Дядька погрозил пальцем зачем-то:
– Должность тебе тетка Александра сыщет приличную. Так что отчество понадобится. Так как все же отца-то зовут твоего?
– Ну, Пантелей.
– Стало быть, Константин Пантелеевич, – проговорил извозчик, впрыгивая на подводу, забирая вожжи в кулак.
Костя так и врос в землю. Смотрел с открытым ртом, как бултыхается на рытвинах улочки подвода, качается лысая голова на тонкой коричневой шее. С чего бы это дядька такой уважительный к нему? Будто он, Костя Пахомов, господин какой, вроде уездного доктора или там Егора Ивановича Побегалова, бывшего владельца пароходов в Петрограде.
3
На двери квартиры Александры Ивановны висел замок, наверное, фунтов десять весом. Такие замки зажиточные фандековские мужики обычно вешали на амбары с зерном. Костя вышел, сел на ступеньку крыльца, вытянув усталые ноги. И тотчас же выбежал из-за угла мальчишка лет десяти, круглолицый, белоголовый, в нижней рубашонке, штанишках. Уставился на Костю голубыми глазенками. Потом спросил:
– Ты к кому?
– Я Александру Ивановну жду, жить у нее буду.
– Ага, – радостно воскликнул мальчишка, – значит, ты тоже сыщик?
– Это почему?
– А потому что все в этом доме сыщики, – пояснил важно мальчишка. – И Семен Карпович, и Николай Николаевич, и дедушка Василий был в сыскном, помер, и дядя Тихон у тети Александры тоже был сыщик, да убили его. Значит, и ты.
Его слова сильно не понравились Косте. Он хмуро буркнул:
– Не собираюсь я в сыщики. На фабрику пойду, в ткачи…
Чтобы переменить разговор, спросил:
– Тебя как зовут.
– Петькой, – ответил мальчишка и кивнул головой на небольшой из красного кирпича дом в глубине двора. – Здесь я живу. Отец на станции извозчиком работает, а мать, она не родная мне только, дома. Она портниха, шьет кому что. А еще Настька…
– А Настька кто?
– Это сестра моя. Она в конторе работает машинисткой.
И убежал, как вспомнив что-то важное. Опять Костя остался один. Но ждать было не скучно. Из «дома сыщиков» вышла старуха с темным лицом, в длинной красной кофте, длинном голубом платье, драных шлепанцах и с тазом в костлявых руках. Дошаркала до стоявшего рядом с домом Петьки кирпичного каретника и выплеснула воду. Тотчас же с треском раскрылось окошко в доме. Показалась молодая женщина в халате, закричала на всю улицу с руганью:
– Ты бы себе в морду плеснула эту гадость. Словно место другое не нашла.
– Эко диво, – громко ответила старуха, – жирней будет навоз, Фекла Ивановна…
– Я тебе, ведьма, покажу Феклу Ивановну, – замахала рукой женщина, едва не вываливаясь из окна. Круглое рябое лицо ее побагровело от злости. Старуха тем временем резво возвратилась на крыльцо и отсюда пригрозила:
– Ничего, придет время и каретник у Силантия отберут. Лошадей отобрали и каретник тоже возьмут. Останется твой старый лысый хрен на бобах. Тоже пойдешь куда-нибудь землю копать с господами, отбарствуешь…
Прошла в двери, бормоча еще что-то себе под нос. Женщина все же для острастки выкрикнула несколько обидных слов вслед старухе и замолчала, с треском захлопнула окошко.
Опять пробежал Петька, размахивая палкой, как саблей, проковылял, хрипло распевая, пьяный лохматый инвалид на костылях к кому-то в «дом сыщиков», точильщик с точилом на плече надорвал задаром горло в зазывных криках.
Чтобы время шло быстрее, Костя стал вспоминать Фандеково. Скажем, чем занимается сейчас Мария, пока он сидит здесь на крыльце, изнывая от жгучего солнца, облизывая ссохшиеся губы. Воду носит в огород? Нет, этому еще не время. Уж что к вечеру. Пожалуй, с полдней по тропе вдоль берега, заросшего кашкой, возвращается с ведром молока. Идет ровно четко, взмахивая по-солдатски рукой. Рослая тоже как и он, румяная, задорная. И хохотушка, песенница, да плясунья. Вон в заговенье как плясала – пыль столбом. Только и слышно было: «иэх, ты», да «иэх ты»…
Или в доме Ивана Петровича Камышова, бывшего лавочника, шуршит припрятанным от реквизиций миткалем, шотландским сукном. Да выслушивает, как поглаживая отвисшие жирные щеки, наговаривает он ей всякие там прибауточки, да поговорочки. Хоть и к шестидесяти уже, а глаза всегда так и забегают, как увидят молодую женщину или девку рядом с собой…
Нет, скорее всего сидит Мария с Митькой Побегаловым за овинником, на полусгнивших бревнах или воротине, где он недавно сидел с ней. Известно всем в Фандеково, что влюблен Митька в дочку мельника. Рад бы крутиться около нее почаще, да Кости побаивался, его крепких кулаков. Теперь свободна Мария. Зазвал поди-ка за овинник, улещивает, нашептывает всякие словечки, замасливает. А она еще пуще только краснеет, да вздыхает. Высокая грудь так и ходит…
Помрачнел, стал вспоминать о матери. Вот что она делает сейчас знал твердо – валкует сено в огороде. А около забора кто-нибудь из соседей. Потому что огород у дороги как идти на станцию, на самом людном в селе месте. Кто ни идет, всяк остановится почесать язык. Ну да потому, что мать рада сама поболтать при каждом удобном случае.
Может и сейчас кто-нибудь стоит у забора. Ну, скажем, сельский милиционер Петр Петрович Дубинин, дальняя родня матери. Старичок уже, седой, а звонкоголосый, задиристый, бойкий и проворный. В японскую воевал и в германскую, и даже в гражданскую куда-то далеко на юг ездил с отрядом красногвардейцев. Там ему прикладом в рукопашном бою пробили голову. Вот тогда уж, как вернулся из лазарета, так и поступил в милиционеры. Поговорить любит, с кем бы ни встретился. Вот и сейчас, остановился, скинул фуражку, оглядел по-хозяйски копешку сена, а спросил, поди-ка, про него:
– Ну, проводила Костюху?
– Проводила, – ответит мать и станет вытирать рукавом пыльного сарафана влажные глаза. А может и не заплачет, потому что выплакалась уже досыта. Скажет только:
– Повезет, так найдет себе Костюха лучшую долю. Ему-то хоть выпадет спокойная жизнь.
Такие слова говорила ему на дорогу, такие слова и Петру Петровичу скажет…
Солнце тем временем опустилось на крыши соседних домов. Во дворе стало сумрачнее и прохладнее. Заскрипела калитка, впуская двух женщин с сумками. На Костю они лишь мельком глянули. За ними следом прошел мужчина в мохнатой кепке, одетый в белую рубаху с закатанными по локоть рукавами, в брюках, ботинках на толстой подошве. Лицо круглое, запекшееся от жары – будто он целый день косил где-то траву.
Появилась девушка – та самая, что встретилась на мосту. Увидев Костю, улыбнулась уголками рта и быстрее закрутила плетеной сумочкой, а голову вскинула горделиво. Мягко и ласково поскрипывал песок под каблуками ее желтых полуботинок, плавно раскачивалась клетчатая юбка. Вот она поднялась на крыльцо дома извозчика. Постучала, дверь открылась тотчас же, как будто та рябая молодуха все время сидела в сенях и ждала.
Выходит это и была Настька, которая в машинистках.
Снова хлопнула калитка и не спеша вошел пожилой мужчина невысокого роста в красных солдатских сапогах бутылками, черных брюках, в выгоревшем на солнце зеленом пиджаке, тяжелой серой фуражке. На шее возле подбородка ярко белели пуговицы черной косоворотки. Когда он приблизился, Костя увидел крохотные, как у птицы, черные глаза, выгнутый носик, похожий на утиный. Над верхней губой двигалась щеточка черных усиков. Нижняя губа была выпячена, как у капризного ребенка – вот-вот сейчас заревет обиженно.
Мужчина вступил на ступеньку и склонился над Костей.
– А ты, парень, пить хочешь?
Засмеялся – открыв пустоту на месте двух передних зубов нижней челюсти. И тут же, как вспомнив, что собеседник увидит эту пустоту, сомкнул губы, став опять похожим на капризного взрослого ребенка.
– Хочу пить, – удивленно ответил Костя, – а вы почему угадали?
Мужчина лишь хмыкнул и потер щеку ладонью руки, как бы и сам недоумевая:
– А потому, что я сам хочу пить. А еще губы у тебя почернели даже. Будто корзину черники сжевал. Некому напоить, ждешь кого-то?
– Александру Ивановну Федорову жду, – ответил огорченно Костя. – А ее все нет и нет. Может, совсем она не придет сегодня, а я сижу…
– Ну, пойдем я тебя напою, – сказал мужчина и взялся за ручку двери на крыльцо. Во двор вошла женщина – маленькая в длинном темном платье, простоволосая, тоже темная от загара. В ней Костя с трудом признал Александру Ивановну, приезжавшую в село года три тому назад и у которой ночевал с матерью прошлой зимой. Вроде как бы болела чем Александра Ивановна – шла низко опустив голову, с усилием несла в руке мешок, шаркала ногами в стоптанных полуботинках, по-старушечьи, хотя лет ей и всего-то было около пятидесяти.
– А вот и Александра Ивановна, – радостно сказал Костя, оглядываясь на мужчину. – Она уж меня и напоит…
– Ну, пусть напоит, – охотно согласился мужчина, – может вода у нее слаще, чем у меня…
4
Александра Ивановна не скажешь, что обрадовалась, увидев Костю. Не поздоровалась в ответ, а только сказала:
– Экий столб вытянулся. В батьку. Тот такой же рукастый был, да широкий, что крючник… На работу, значит приехал? Ну, ну…
Жила она в двух маленьких комнатках, оклеенных зелеными обоями. Одно окно выходило на домишки, внизу по оврагу, с сарайками, с помойками и уборными в огородах. Виднелась из него также синяя река, купола городского Кремля на той стороне, взлетевшие над водой ажурные фермы моста, рыбацкие лодки. В окно второй комнаты смотрели стена каретника, вытеребленная точно пулями или камнями, угол дома извозчика, крыльцо.
Мебель в комнатах стояла старинная и бедная. Победнее, пожалуй, чем у него с матерью в деревне: пара венских стульев с бахромой, кровати в обеих комнатах с металлическими ножками, столик, крытый полотняной салфеткой, буфет посудный из красного дерева, весь исцарапанный, облупленный, да еще висла из угла огромная икона.
Бросив мешок к порогу, Александра Ивановна, принялась бродить по квартире. Переставляя стулья, рылась в сундуке, закованном медными полосами, гремела посудой в буфете. Точно чего-то искала и не могла никак вспомнить. Проговорила, наконец-то, сердито:
– Такое пальто, такое пальто. На хорьковом меху. Мы его с Тихоном перед войной покупали у купца Разумнова. Как министр был в нем. А тут чуть ли не пару головок луку взамен, подумать только, времена какие. Да и обмануть каждый норовит-то стекляшки за бриллиант всучит, то карандашом покрасит воду и торгует будто спиртом…
– А я вам, Александра Ивановна, привез из деревни сметаны, масла, – сказал Костя, – да еще преснухи творожные. Да яиц десяток. Мамка просила сказать, что как накопит кринок пять-шесть творогу, так и пришлет с кем-нибудь…
Александра Ивановна сразу переменилась. Она предложила Косте и пиджак снять, и фуражку, а мешок снести во вторую комнату под кровать. Глаза совсем не сердитые – добрые. Наливая воду в цинковый рукомойник, похвалила его за широкие плечи, да шею, которая как у «доброго мужика».
– Сейчас я тебя попотчую, чем есть, – пообещала. Принесла откуда-то воды, загрела самовар. Когда он вскипел, насыпала в чашку вяленой моркови, достала из буфета сухарей.
Пока он жадно глотал кипяток, расспрашивала о деревне, о знакомых. Погоревала, что старшего сына Побегалова расстреляли в мятеж. Ну да ведь за дело – головорез был. Посмеялась, слушая как изображает Костя крикливого старика Дубинина. Размечталась, когда дошел он до Камышова:
– С Иваном-то я в молодости гуляла. Бывало на беседе придет, приткнется… Он – красавец был парень. Кудрявый, на балалайке заковыристо, бывало, дренькал, с песнями. Не то что сейчас, конечно. Старый стал, да невидный ясно, как и мы с твоей матерью-то. Сватал меня Иван, а я отказалась. Уж больно и нахрапист, да и семья жилистая, помучилась бы за ним. Попреков сколько бы наслушалася, потому что родители мои куриц даже не держали…
Про Костину работу она заговорила лишь, когда ом собрался спать:
– Так куда хоть сам-то надумал? Может присмотрел уже место?
– А и не знаю. Куда-нибудь. Успеть бы какому-нибудь ремеслу научиться, пока в армию не взяли. Хотелось бы на ткацкую, говорят интересно тамотко…
Александра Ивановна появилась в дверях, качая головой.
– Тамотко стоит твоя фабрика. Дельным-то рабочим делать нечего, мастерят зажигалки, да коньки на трубы, да буржуйки на зиму. И на бирже тоже не ахти какую работу найдешь. Без тебя, что комары, толкутся, потому что карточку продовольственную самую высокую так просто не дадут. Последнюю категорию разве, а на нее что – только куснуть один раз.
И уже твердо прибавила:
– Нет, Костя, устрою-ка я тебя в сыскное. И должность важная, что у доктора, да и кормить будут получше, на казарменном они пайке стоят. Дадут карточку, к столовой прикрепят. Хоть тарелку щей нальют пустых и то похлебка. Может с одеждой у них туговато сейчас, в своем ходят, ну ты и так одет, что франт. Не скоро износишь. А устроить – устрою, потому как в уборщицах работаю в тюрьме, да и с сыщиками знакома. У нас в доме они живут.
Костя так и сапог из руки выронил.
– Не хочу я, – буркнул хмуро и даже с долей злости. – Вон сегодня возле собора мальчишка в карман к старухе забрался – что же такого заморыша я должен тащить в кутузку. А он есть хочет, одеться может хочет. А наверняка, ни отца, ни матери, поубивали, может, их на войне. Кто же кроме него самого позаботится?
Александра Ивановна выслушала спокойно и махнула рукой. И даже усмехнулась, как видно уверенная в том, что все будет так, как она решила.
– Должность важная. А что мальчонку – имать надо. Ну-ка он у меня вытянет деньги, которые я выручу за пальто, или масло стянет, которое ты привез из деревни. Или мать приедет на Мытный продаст петуха, хвать-похвать – а денег нет, у мальчонки уже деньги. Что же рада будет твоя мать? Кто ей обиженной поможет? Сыскное… А ну-ка не будет сыскного, что тут у нас сотворится, раз сейчас и то порядка мало…
Костя уже молча стягивал второй сапог. Слушать тетку Александру стало вроде бы интересно. Верно – если будут тащить деньги из карманов – что же станет. А если никто в сыскное не пойдет – разор наступит. Верно, как сказал мужчина возле собора, нагишом побегут люди и на «караул» никто не отзовется. А Александра Ивановна все также спокойно, как скажем дятел, тюкала и тюкала словами:
– А паек дают приличный. Самому хватит и матери кой-что пошлешь. Даже ландрин-зубодер дают. Девку свою угостишь, вот уж обрадуется, сразу же шелковая станет. Имеется она наверное у тебя?
– Ну что вы, Александра Ивановна, – ответил и покраснел.
А она хмыкнула: мол, все понятно. Но больше ничего не сказала, ушла в свою комнату. Оттуда, спустя немного, с кряхтеньем укладываясь в свою кровать, посоветовала:
– Только и есть, что не форси вроде моего Тихона. Грабители в него пистолеты, и он свой пистолет ухватил.
Послышались тихие всхлипы и оханье. Жалела тетка Александра своего мужа. Не могла без слез вспоминать его.
Костя тоже попытался вспомнить дядю Тихона, потом представил как, причмокивая, будет хрустеть ландрином Мария Семенова, засмеялся в подушку и тут же заснул.
5
После завтрака, Александра Ивановна повела Костю к «ее знакомому из сыскного», жившему на втором этаже «дома сыщиков», в конце длинного и темного коридора. Им оказался мужчина с утиным носиком, крохотными и черными, как у птички, глазками, выпяченной нижней губой. И сегодня на нем были красные бутылками сапоги, выгоревший пиджак, косоворотка с яркими белыми пуговицами, только расстегнутыми. Фуражка с прогнутым козырьком висела на стене, за спиной, на крючке. Темные волосы на голове были острижены коротко. На лбу, под глазами, в углах рта разбежались морщины и весь-то он показался Косте усталым, замученным. Будто всю сегодняшнюю ночь или таскал поклажи на спине, или копал в огороде землю, или рубил дрова. А может даже за ночь заболел чем-то.








