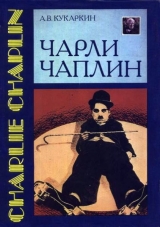
Текст книги "Чарли Чаплин"
Автор книги: Александр Кукаркин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
Возвращаясь домой после посещения тюрьмы, Чаплин не мог, конечно, и предположить, что его собственная киностудия на авеню Ла Бреа, вблизи живописного Сансет-булвар, станет для него вскоре местом добровольного заточения, что он будет вынужден даже бежать из нее, бежать вообще из Голливуда и скрываться в Нью-Йорке.
Хотя первые раскаты грозы, нависшей над головой артиста, уже прогремели в годы войны, тяжелые предчувствия не омрачали по его возвращении в Голливуд знакомый горизонт. Тем более что беспредельная лазурная гладь Тихого океана, спокойствие и величие снежных горных вершин, вольные просторы раскинувшейся к юго-западу великой прерии делали немыслимыми какие-либо аналогии или сравнения. Да и сама киностолица, со своими эвкалиптовыми и пальмовыми аллеями, разностильными, но веселыми виллами и сверкающими под яркими лучами солнца стеклянными крышами громадных кинофабрик, была, казалось, прямым антиподом страшного ада Синг-Синга. Лишь спустя несколько лет Чаплин в полную меру узнает, насколько обманчива привлекательная внешность Голливуда, какими ядовитыми испарениями насыщен его субтропический климат – не менее опасными, чем сырость казематов. Чаплин убедится в этом – как, впрочем, и многие другие. Пока же он, преисполненный творческих планов, с удвоенной энергией принялся за любимую работу в своей студии.
В одном из первых яге фильмов, созданных после возвращения, «Пилигриме» (1923), его герой Чарли предстал в роли беглого каторжника из Синг-Синга. Это гневное обвинение мещанской и ханжеской Америки превосходит все прежде созданное Чаплином по своему художественному мастерству и реалистическому звучанию.
Сатирическая заостренность «Пилигрима» находилась в резком противоречии с направлениями, господствовавшими в то время в голливудском кино. После окончания войны, в 1918 году, там еще больше разрослась развлекательная тематика, сочетавшаяся с религиозным ханжеством, и усилилось преклонение перед могуществом денег, в которых зрители приучались видеть единственный смысл человеческой жизни. Голливуд с особой силой занялся пропагандой «американизма», прославлением «сильной личности» – «self made man» («человека, который сделал сам себя»). На все лады популяризировалась ложь о том, что в «свободной, демократической» Америке каждый «сильный человек может стать миллионером», что «любой ребенок может быть в будущем президентом».
Рекламно-плакатный образ «стопроцентного американца», равно как и наивно-сусальный образ «гармоничной Америки», был заимствован Голливудом из арсеналов американского литературного течения конца XIX столетия, получившего название школы «неясного реализма». При наличии некоторых реалистических и даже осторожных критических тенденций эта школа, фальсифицируя действительность, занималась изображением «процветающей» Америки, рассуждениями об исключительности ее пути, распространением расистских теорий о «наибольшей пригодности американцев к господству», эстетским любованием «силой», отличалась лицемерным человеколюбием и мещанским сентиментальничанием. Комплексом всех этих идей и воодушевлялся Голливуд. От «неясного реализма» он перенял также незыблемость идеализирующих буржуазное общество счастливых финалов своих фильмов.
Теми же истоками питался Голливуд и в пропаганде «несокрушимого американского оптимизма», идейные основы которого столь тесно связаны с образом «стопроцентного американца». Одним из наиболее популярных киносимволов стал в этом отношении образ, созданный выходцем из школы Гриффита, обаятельным, улыбающимся, честолюбивым и агрессивным Дугласом Фэрбенксом. Ни при каких обстоятельствах не терял он присутствия духа, непоколебимо веря в силу своего кулака, своей шпаги и своей фортуны. Даже когда Фэрбенкс играл роль англичанина Робина Гуда, француза Д'Артаньяна, мексиканца Зорро или багдадского вора, он неизменно оставался все тем же идеальным янки при дворе иностранного короля.

Пилигрим


Чарльз Чаплин, заглянувший в сокрытые от дневного света закоулки и подворотни буржуазного мира, создал в «Пилигриме», сам, может быть, не думая об этом, совсем иную разновидность «стопроцентного американца». Несомненное преимущество его героя состояло уже в том, что он не сошел со страниц романов и не вышел из средневековых или столь же романтичных современных легенд. Образ Чарли из «Пилигрима» впитал в себя некоторые существенные и типические черты простого американца. Его эксцентричная внешняя маска и порой смешные поступки не принижают эти черты, а служат психологическим контрастом, подчеркивают их. Что касается социального лица героя, то не вина этого простого американца, что жизнь привела его в Синг-Синг.
Но герой Чаплина не собирается мириться со своей судьбой. Фильм начинается с бегства его из тюрьмы. Чарли облачается в одежду пастора, стащив ее у купающегося священнослужителя, и уезжает в далекий провинциальный городок. Там как раз ждут приезда проповедника, и беглого каторжника принимают за него. В первый (кстати, и в последний) раз чаплиновского героя в этой картине приветствует даже представитель власти – шериф. Случай улыбнулся Чарли, но это бывает так редко, что он долго не может поверить в удачу. Мнимого пастора провожают в церковь, где он должен произнести проповедь. Досадное осложнение, но Чарли быстро находит тему. Эта тема особенно близка ему, неудачнику и отщепенцу: борьба слабого с сильным, борьба Давида с Голиафом, неравная борьба маленького, простого человека с могущественным обществом. Чарли с драматической экспрессией изображает ее, пользуясь всем красноречием своей мимики и всей выразительностью своих жестов. Почтенные члены религиозной общины, принадлежащие к одной из наиболее пуританских сект – пилигримам, поражены странной проповедью «пастора»; только какой-то мальчишка оценивает ее по достоинству и награждает Чарли аплодисментами, столь неуместными после проповеди. Признательный Чарли расшаркивается по-театральному, посылает прихожанам воздушные поцелуи и делает попытку забрать перед уходом церковную кружку в качестве гонорара. Почти против своей воли он попадает затем в гости в пуританский дом, хозяева которого предлагают ему традиционный чай с кексом и ночлег.

Чаепитие, сопровождающееся различными комичными положениями, завершается наконец уходом гостей. Но Чарли чувствует себя скверно, и не без оснований. Еще на улице его узнал сидевший вместе с ним в тюрьме грабитель. Решив воспользоваться обстоятельствами, бандит нагло проникает в дом и представляется хозяйке в качестве старого друга «пастора». Чарли догадывается о его намерениях; благодарный за гостеприимство и плененный красотой хозяйской дочки, он преисполняется решимости помешать грабежу и вступает в борьбу с вором, но тому все же удается похитить все имевшиеся в доме деньги. «Я принесу их вам обратно», – говорит Чарли молодой девушке и убегает вслед за негодяем. В его отсутствие приходит шериф, получивший по телеграфу приметы беглого каторжника. Когда Чарли возвращается и, торжествующий, отдает девушке отобранные у вора деньги, шериф его арестовывает. Он отвозит Чарли к мексиканской границе. На той стороне американский закон не властен, но Чарли не догадывается перейти спасительный рубеж, несмотря на полную возможность этого. Тогда добрый шериф посылает его нарвать цветов на мексиканской земле, а сам отправляется на лошади обратно. Но Чарли – человек чести, хотя и был осужден за какой-то проступок. И он возвращается с цветами, догоняет всадника. Раздосадованный шериф отвешивает ему увесистый пинок и уезжает. Только тогда Чарли начинает понимать происходящее. Он переходит границу, но на мексиканской стороне происходит страшная перестрелка. Чарли бежит, и постепенно его фигурка теряется вдали, у самого горизонта. Он убегает по пограничной линии, одной ногой по одну сторону границы, другой – по другую. На одной стороне – буржуазный правопорядок, на другой– революция, участники которой в те времена подчас представлялись «маленькому человеку» Америки в облике каких-то бандитов [Можно вспомнить советскую комедию 1924 г. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», высмеивавшую американскую пропаганду, которая приложила особые старания в этом направлении.].
«Как всегда, – писал Сергей Эйзенштейн в статье, посвященной творчеству Чаплина, – наиболее замечательной деталью, эпизодом или сценой в фильмах бывают те, которые, помимо всего прочего, служат образом или символом авторского метода, вытекающего из особенностей склада авторской индивидуальности.
Так и здесь… Последний кадр «Пилигрима»– почти что схема внутреннего характера героя; сквозная схема всех конфликтов всех его фильмов, сводимых к одной и той же ситуации: график метода, которым он достигает своих удивительных эффектов.
Убег в диафрагму – почти что символ безысходности… Тем более что мы прочитываем эту драму шире, как драму «маленького человека» в условиях современного общества».
Картина клеймила общество, приведшее «маленького человека» к безысходности. Это общество сначала заключило его в тюрьму за проступок, совершенный, может быть, в отчаянии нужды, в муках голода – за ту же украденную сосиску в «Собачьей жизни». (Что Чарли не бандит, ясно даже шерифу, который поступился прямым своим долгом и отпустил его на волю.) Сбежав из тюрьмы, куда его несправедливо засадили, Чарли превратился в затравленного зайца. Автор с глубоким проникновением раскрывает взбудораженное и травмированное состояние его психики. Чарли ни на секунду не забывает, что он каторжник, по следу которого гонятся неумолимые стражи закона. Решетка железнодорожной кассы вызывает у него воспоминания о решетке тюремной камеры; купив билет на поезд, он по привычке залезает под вагон; здороваясь с шерифом, он протягивает ему обе руки, как для наручников; перед началом своей проповеди в церкви он сначала поднимает вверх руку, как это делают в суде, давая клятву; во время проповеди он пересчитывает сидящих на возвышении членов религиозной общины, поющих в хоре, – их оказывается ровно двенадцать, и они представляются Чарли присяжными…
Чаплин не останавливается на этом в своей критике буржуазного общества. Калеча жизнь людей, оно с ханжеским лицемерием не перестает твердить о боженьке. Художник создает галерею запоминающихся портретов, которые, несмотря на свою эпизодичность, кажутся перенесенными на экран прямо из заплесневелого мирка провинции. Все окружающие заражены ханжеством; один лишь Чарли – атеист и к церковной проповеди относится как к какому-то театральному спектаклю. Этот атеизм сразу делает его намного выше окружающих. Кроме того, самый факт превращения каторжника Чарли в «святого» пастора – весьма недвусмысленная параллель. Характерно, что комедия сначала и называлась «Пастор»– это в еще большей степени стирало грань между правонарушителем и церковнослужителем.
В фильме имелось немало пародийных кадров (например, высмеивались гангстерские «боевики» в сцене единоборства Чарли с бандитами в баре), а также были разбросаны детали, скрытый сатирический смысл которых мог быть полностью оценен лишь зрителями, знакомыми с бытом и нравами Соединенных Штатов. Так, в эпизоде проповеди мнимого пастора Чарли, где амвон превращается в своеобразные театральные подмостки, одновременно высмеивалось «нововведение» в церквах, устраивающих бесплатные ревю для заманивания прихожан. Неизменно вызывает смех сцена, где чаплиновский герой тщетно пытается воткнуть маленький флажок с изображением звезд и полос в только что испеченный кекс. Его попытка оказывается тщетной, ибо под густым слоем крема находится мужской котелок, которым прикрыл кекс зашедший на кухню шаловливый мальчуган. Чарли ничего не знает про котелок, но зрители знают и потому смеются, когда видят неудачу с флажком. Однако содержание трюка этим не ограничивается – он имеет смысловой подтекст. Рядовой американец чуть ли не с пеленок воспитывается в особом преклонении перед государственным флагом США. Благодушный смех над желанием Чарли украсить даже домашнее кулинарное изделие флажком оказывается поэтому окрашенным язвительной насмешкой. (В комедиях Чаплина подобный же мотив встречался и прежде; в «Дне развлечений», например, показывались белые американцы, которых тошнит, и негры, обессиленные от страданий, на фоне длинных полотнищ со звездами и полосами– ими украшена палуба пароходика, совершающего увеселительную морскую прогулку.)
До «Пилигрима» американское кино не знало прежде ничего равного по дерзости социальных и политических нападок, по совершенству художественной формы и комедийной игры. Реакционные круги буквально взвыли от негодования, но чем сильнее неистовствовала печать, тем большим было признание заслуг художника со стороны широкого зрителя.
В финале «Пилигрима» Чаплин достиг наиболее яркого раскрытия трагической сущности комедийного образа своего героя. Справедливо расцененный С. Эйзенштейном как драма безысходности маленького человека в условиях буржуазного общества, этот финал несравненно больше, чем концовка «Малыша», соответствовал мировосприятию художника в начале 20-х годов. Лишь в «Новых временах», спустя пятнадцать лет, он впервые откроет в своем герое задатки бунтаря, не ведающего драмы безысходности. Впрочем, и сам маленький человек Америки к тому времени станет другим.
Показательно, что еще задолго до «Пилигрима», в картине «Бродяга», Чаплин как бы положил начало определенному типу фильмов, оказавшемуся в его творчестве наиболее устойчивым. Вспомним финал «Бродяги»: одинокий Чарли удаляется по бесконечной дороге, но он не позволяет грусти и разочарованию надолго овладеть своим сердцем. Концовка, некогда случайно найденная Чаплином в картине «Между двумя ливнями» – в одном из первых его кистоуновских фильмов, – использовалась здесь как сознательный и символический прием. Именно так стал заканчивать художник многие из своих короткометражных, а затем и полнометражных картин. За «Бродягой» шли «Полиция», «Граф», «Искатель приключений», «Праздный класс» и «Пилигрим», за ними последуют «Цирк» и «Новые времена». Все эти комедии завершались «открытым концом», open end, уходом героя в неизведанную даль – уходом, ставшим для Чаплина традиционным. И почти каждая такая концовка представляла собой не только своеобразный переход к будущему фильму, обещание автора продолжить рассказ о скитаниях Чарли, – она в значительной степени помогала художнику раскрыть суть образа героя. Неугасимая любовь маленького человека к жизни, его вера в будущее служили залогом того, что в конце концов он все же найдет свою дорогу.
Глава V. НОВАТОРСТВО МЕТОДА
Чтобы выразить истинное содержание, полезно попытаться выразить его как можно проще. И тогда, если есть такое содержание, оно предстанет в подлинном значении; если же его нет, то это будет видно из тумана, прикрывающего пустоту.
Академик А. Д. Александров
Комедия лирико-драматического плана «Малыш» и сатирическая комедия «Пилигрим» явились как бы этапами на пути к созданию одного из величайших произведений не только чаплиновского, но и всего мирового киноискусства – «Парижанки» (1923). Выпуск этого полнометражного фильма свидетельствовал помимо возросшего мастерства также о потребности художника обобщить свой жизненный и творческий опыт. И в том факте, что для обобщения этого опыта он избрал драматическую сатиру, нашло еще одно яркое проявление его стремление к «серьезному» жанру.
В беседе с корреспондентом журнала «Нью-Йорк уорлд», состоявшейся во время съемок «Парижанки», Чаплин сказал:
– В течение двух последних лет я неустанно искал новые методы постановки кинофильма, методы, которые удовлетворили бы меня и понравились публике. Я ставлю перед собой задачу в драматической форме раскрыть повседневную жизнь и заинтересовать публику не трюками, а изображением обычной действительности. Ведь жизнь в конечном счете банальна, но в повседневности проявляется и все то, что имеет вечное значение, все непреходящее, все великое. Вскрыть и показать это на экране – вот моя цель. Пора прекратить выпускать картины, в которых представлены стопроцентная добродетель или такое асе стопроцентное злодейство. На экране зло и добро должны переплетаться так, как они переплетаются в жизни, иначе не избежать ходульности, которую мы и видим теперь почти что во всех кинодрамах.
В «Парижанке» Чаплин решил дать цельную, психологически углубленную характеристику нравов и быта буржуазного общества. Сюжет фильма прост и непритязателен, даже трафаретен: это хорошо известная по классической литературе история купленной и загубленной женской жизни.
Помимо дамы парижского полусвета Мари Сент-Клер здесь действуют столь же традиционные богатый содержатель Пьер Ревель и бедный возлюбленный – художник Жан Милле. Состояние Пьера Ревеля открыло перед ним двери парламента и ночных кабачков французской столицы. Он ценит в жизни только три вещи: хороший ужин, душистую сигару и красивую женщину. Бедность художника Жана Милле, недостаток мужества и неспособность противостоять условностям среды привели его к поражению в борьбе за возлюбленную. Внутренне одинокий, беспомощный и бесправный, измученный фальшью окружающего мира и оскорбленный в лучших чувствах, он кончает самоубийством.
Что касается героини Мари Сент-Клер, то она искренне любила молодого художника, но взаимное недоверие, проникшее во все слои общества, роковое переплетение мелких случайностей и предрассудки отняли у нее жениха. А тлетворная власть денег лишила ее принципов здоровой морали, что неизбежно привело к внутренней опустошенности. В результате Мари, некогда мечтавшая о собственной семье и всеобщем уважении, становится кокоткой, ценимой не более хорошего ужина и душистой сигары.
«Парижанка» – настоящий кинороман, даже с эпилогом и прологом. При этом необыкновенно тонкий, умный и социально правдивый кинороман. Он разбивал все принципы, все каноны буржуазной кинодрамы, и прежде всего традиции американской школы. До «Парижанки» американское кино фактически не поднималось выше мелодрамы с присущими ей преувеличением характеров, неестественно сгущенной эмоциональной окраской образов и событий.
Во вступительном титре «Парижанки», служащем обращением автора к публике, говорится: «Человечество состоит не из героев и предателей, а из простых мужчин и женщин». И персонажи фильма впервые в западной кинематографии перестали быть абстрактными выражениями добра и зла. По сути дела, в картине вообще не было привычных фигур «героя» и «злодея», а действовали и жили самые обыкновенные люди.
Героиня Мари не только не наделена традиционной добродетелью, но даже опускается до роли простой содержанки. Ни Лилиан Гит, ни Мэри Пикфорд, ни другие героини американского экрана не могли бы допустить и намека на нечто подобное. Более того, когда Мари Сент-Клер приходится делать выбор между прежним своим бедным возлюбленным, готовым на ней жениться, и богатым содержателем, который собирается жениться на другой и оставить ее лишь в качестве любовницы, то она колеблется и в конце концов отдает предпочтение второму: он по крайней мере не малодушен.
Богач Пьер Ревель не только бездельник, фат, циник, прожигатель жизни, но и остроумный, порой великодушный, всегда выдержанный, очень галантный человек, способный увлечь женщину. Своей проницательностью, знанием жизни, корректностью и меланхоличной ироничностью он в некоторых сценах вызывает даже симпатии зрителей. Вполне естественно, что героиня не питает никакой ненависти к подобному «злодею».
Положительный герой Жан Милле в свою очередь не наделен никакими традиционными «героическими» чертами: он не только беден, но и не очень умен и талантлив, не только скромен, но и ненаходчив, не только не пленителен, но подчас и жалок. В конце фильма– опять-таки вопреки всем канонам западного кино – «герой» становится жертвой, а «злодей» торжествует победу. Поменяв их местами, а вернее, низведя обоих до уровня простых смертных, Чаплин вывел в сатирической драме – вслед за тем, как он это сделал в комедии, – не марионеток, а живых людей. Говоря о его новаторстве в этом отношении, французский кинорежиссер Рене Клер отмечал, что в «Парижанке» «впервые персонажи кинодрамы – это люди, а не дрессированные паяцы… Это настоящая революция в искусстве…».
И хотя все герои «Парижанки» – ничем не примечательные, простые люди, они в то же время необычайно яркие социальные типы. Для наиболее полного и глубокого их раскрытия Чаплин сознательно ограничил число действующих лиц: три главные роли (Мари Сент-Клер, Пьер Ревель и Жан Милле), три вторые роли (мать Жана и две подруги Мари), несколько эпизодических персонажей; кроме того, всего две массовки – танцы в ресторане и вечеринка в Латинском квартале. Сам Чаплин не играет в «Парижанке»: характер фильма заставил бы его расстаться со своей гротескной, стилизованной маской, к чему он в то время не был готов. Чаплин появляется здесь мимолетно лишь в эпизодической роли усатого носильщика на провинциальном вокзале.
Действующие лица фильма выглядят тем убедительнее и правдивее, что они наделены индивидуальными и запоминающимися характерами, раскрытыми в наиболее существенных своих чертах. Их личные чувства и помыслы в свою очередь используются для более многогранного освещения общего социального фона. Каждый образ представляет собой неотъемлемую часть целого ансамбля, без которой не была бы полна живописная картина нравов.
Чаплин всячески избегает какого-либо морализирования, даже выражения своих симпатий или антипатий. Любая индивидуальная судьба рассматривается им прежде всего как отражение общей картины социального целого. Поэтому в каждой такой судьбе видны или угадываются те общественные условия, которые превратили действующее лицо в то, чем оно является.
В трагическом конце Жана Милле нельзя обвинить ни его бывшую невесту Мари, ни его мать, ни даже богатого соперника Пьера Ревеля. Во всем, что случилось с героями, повинна сама система, самый уклад жизни, ее неустройство, ее предрассудки и жестокость. Скрытый, но истинный драматический конфликт происходит здесь не столько между героями, сколько между ними и окружающей их средой. Именно в сатирическом разоблачении этой среды художник достиг таких масштабов и глубины, что камерная драма поднялась до высот трагедии.
Чаплин проявил в «Парижанке» талант кинодраматурга и режиссера, не только остро чувствующего чудовищную несправедливость и пошлость буржуазного мира, но и способного к художественным и философским обобщениям большого плана, обличительная сила которых может быть сравнима только с лучшими классическими произведениями критического реализма. Кинороман «Парижанка» положил достойное начало чаплиновским обличительным полотнам, которые в своей совокупности образуют своеобразную «Человеческую комедию» XX века, – полотнам, включающим в себя «Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор», «Мсье Верду», «Огни рампы» и «Король в Нью-Йорке».
Правда, Чаплин сам несколько снизил эффект своего замечательного фильма. Он перенес действие картины во Францию, изменил первоначальное ее название, «Общественное мнение», раскрывавшее идейный замысел, на более камерное и приемлемое для цензуры и прессы – «Парижанка». Помня, очевидно, о горьком опыте с комедией «Жизнь», он «привесил» также к фильму идиллический конец. (Это тем не менее не предотвратило запрещение «Парижанки» в пятнадцати штатах Америки.)
Несмотря на некоторые вынужденные уступки художника, огромное социально-общественное звучание картины все же несомненно. Как правильно отмечала французская критика тех лет («Ле хроник дю жур», декабрь, 1926 года), в «Парижанке» Чаплин «не пощадил ничего из человеческой подлости и глупости. Здесь все выведено наружу. Это величайшая пощечина обществу».
Но значение «Парижанки» не только в этом. Незадолго до ее выпуска Чаплин писал: «Парижанка» будет самой примечательной из всех моих работ. В этом жанре я являюсь новатором. Что бы ни ожидало мою картину – успех или провал, я считаю все же, что она будет своеобразной как по манере актерского исполнения, так и по развитию действия… В ней не будет сложных эффектов, будет только проявление человеческих страданий и радостей да еще чувство юмора».
Чаплин с полным основанием говорил о своеобразии и новаторстве «Парижанки». Сама тема фильма, углубленная характеристика нравов, стремление воссоздать картину подлинной жизни требовали новых средств художественной выразительности. Для показа обычных, лишенных какой-либо мелодраматической аффектации человеческих чувств и стремлений нужны были соответственно средства простые и в то же время впечатляющие.
Несмотря на многочисленные попытки, внутренний мир человека в те времена оставался чаще всего закрытым для киноискусства. Известные тогда средства кинематографической выразительности с грехом пополам удовлетворяли требования авантюрно-приключенческой, любовно-приключенческой, любовно-сентиментальной или постановочной исторической мелодрамы. Они совершенно недостаточны были для создания подлинно психологической драмы, в центре которой находился бы человек со всеми его сложными переживаниями, а не сюжет, не внешний конфликт.
Фактически кинематограф знал в те годы единственное действенное средство передачи душевных переживаний героев – это мимическую игру на крупных планах. Но этого, естественно, было недостаточно. Гриффит и его последователи пытались найти новые технические возможности и художественные приемы. В известных пределах их обогатил опыт комических актеров.
Немая кинодрама была лишена самого могущественного средства выразительности – живой, звучащей человеческой речи со всем ее необозримым богатством интонаций. Поэтому для раскрытия образа, передачи мыслей и переживаний действующих лиц в ней постепенно все шире и продуманнее стали использоваться игра с вещами и предметами, лейтмотивность движений, служащая характеристикой персонажей, многозначительность жестов, контрасты трагического и смешного и т. д. Немая кинодрама во многом начала строиться на технике игры и приемах, которые давно были известны в искусстве пантомимы и перенесены затем, особенно успешно – Чаплином, в комический фильм. Последний не случайно называли «лабораторией изобретательности, выразительности и кинематографического мастерства».
Однако ни Гриффит и никто из его последователей не сумели по-настоящему использовать опыт комического фильма. Отдельные удачи (подлинно реалистические детали) не меняли общего характера царившего тогда мелодраматического штампа. Лучшая драматическая актриса Гриффита Лилиан Гиш в своем стремлении воссоздать на экране правду жизни выходила иногда за рамки навязываемых ей искусственных и абстрактных схем. Но достигалось это ценой невероятных усилий и отнюдь не специфическими для кинематографа способами. Американский историк кино Алберт Пейн в своей книге о Лилиан Гиш приводит показательный в этом отношении пример, относящийся к ее игре в фильме «Сломанные побеги» (1919):
«Кульминационным моментом была знаменитая сцена в чулане– страшный эпизод, когда отец Люси вламывается в каморку, чтобы убить собственную дочь. На репетициях никто не мог заменить Лилиан. Она репетировала три дня и три ночи напролет почти без сна. Неудивительно поэтому, если истерический ужас, отразившийся на детском лице, был результатом не столько актерского мастерства, сколько подлинных переживаний. Говорят, что, когда снимался этот эпизод, перед студией собралась толпа и молча, со страхом прислушивалась к воплям Лилиан. Гриффит в продолжение всей съемки сидел потрясенный, не произнося ни слова».
Стремление к естественности, правдолюбию и убедительности кинематографического действия заставляло некоторых режиссеров сознательно ставить актера в такие условия работы, которые доводили бы его до необходимого психологического состояния, вызывали бы у него соответствующие реакции. Так, например, Эрих Штрогейм снимал финальные сцены «Алчности» (1923) в настоящей пустыне, подвергнув своих актеров подлинным мукам от жары и жажды и чуть не погубив некоторых из них. Подобные «натуралистические» методы свидетельствовали лишь о том, что в кинематографе не были еще найдены специфические образные средства, могущие дать художественный эквивалент человеческим переживаниям и чувствам.
Многие из таких новых средств вышли из «лаборатории изобретательности и выразительности» – комедийного фильма, первым мастером которого был Чарльз Чаплин. Недаром один из любителей афоризмов, французский художник Фернан Леже, заметил: «Искусство изобретать – это Чаплин, искусство подражать – это другие».
Было бы глубоко ошибочным считать, что новые для кинодрамы средства выразительности, продемонстрированные в «Парижанке», явились случайным, неожиданным открытием. Новаторство Чаплина в драматическом жанре было подготовлено всей предшествовавшей его девятилетней работой в области комедии, несмотря на всю экспрессивную условность ее формы. Избегая, как правило, проторенных дорог, вечно в поисках новых приемов актерской игры, сценарной драматургии и кинорежиссуры, Чаплин чуть ли не каждым своим фильмом обогащал, двигал вперед киноискусство. Один из наиболее интересных примеров режиссерского новаторства Чаплина из фильма «На плечо!» привел венгерский писатель и теоретик кино Бела Балаш в своей книге «Искусство кино»:
«…Чаплин в роли солдата мировой войны. Он стоит вместе с другими в окопе и ждет приказания наступать.
Дрожа от страха, он неловко пытается создать видимость спокойной, обдуманной осанки. В волнении он разбивает карманное зеркальце, и от него отодвигаются его суеверные товарищи: на нем как бы печать беды. В узких окопах они не могут достаточно далеко отодвинуться от него, всего на два-три шага. Но аппарат такой медленной панорамой берет это расстояние, что превращает его в бесконечность. Робким полудвижением Чаплин тянется к своим товарищам, но кажется, что они очень далеко, потому что это движение длится долго – пока аппарат, следуя за взглядом Чаплина, переходит на его товарищей. Чаплин ощущает в этом расстоянии такую даль… «Неужели человек так одинок на этом свете?» – говорит его медленный взгляд». Мы уже видели прежде в кино, заключает Балаш, громадные пустыни, сфотографированную бесконечность. Но в маленьком пространстве еще никто не находился в таком одиночестве. Эти три шага пустоты вокруг Чарли превратились в огромную пустыню.








