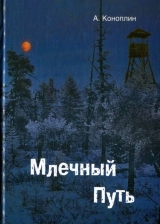
Текст книги "Млечный путь (сборник)"
Автор книги: Александр Коноплин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Фельдшер Иван Иванович, как всегда, был пьян. Но не настолько, чтобы не узнать своего бывшего клиента. Мы договорились с ним даже быстрее, чем можно было предполагать. Я отдал ему все, что у меня было: часы, серебряный портсигар, деньги, оставив себе совсем немного. Он обещал приютить Васю и даже помочь ему прописаться.
Попрощавшись с обоими, я вышел во двор. Вася окликнул, ощупью нашел меня в темноте, и вдруг совсем по-детски прижался ко мне своим щуплым, вздрагивающим телом.
– Ты едешь в Марьину Рощу? – спросил он, немного успокоившись.
– Да.
Он помолчал:
– Если ты хочешь найти письма, то напрасно. Митя ведь сказал, что их бросили в урну.
– Нет тех, наверняка, есть другие. А потом я не верю, что письма были вот так запросто брошены в мусорный ящик.
– А я верю. Для него ведь мы кто? Никто! Сволочь он, Стаська! Если бы не глаза, давно бы ушел!
– Причем тут глаза? Кстати, ты уже ушел. Осталось только прописаться, и тогда будешь жить по-человечески.
– Да, а кто кормить будет? Работать-то я не могу, да и не умею ничего…
– Научишься. Вон совсем слепые и то зарабатывают. Авоськи плетут, коробочки клеят…
Мы помолчали.
– Стасик, – спросил Вася, – а ты не боишься Боксера?
– Все равно. Я заставлю его отдать письма!
– А если он не признается, что взял?
– Тогда я скажу, что у меня есть свидетель – Митя-Гвоздь.
– Но он умер.
– Тогда ты. Не струсишь?
– Нет. Знаешь что, возьми ты лучше вот это… На всякий случай.
И в ладонь мне опустился тяжелый браунинг. Я с удовольствием ощущал его гладкие холодные грани.
– Чей?
– Митькин.
Мы попрощались. Спрятав браунинг за поясом, я пошел к станции. Разве мог я тогда предполагать, что следовавший за той страшной ночью день будет моим последним днем на свободе. Что пройдет восемь долгих лет, прежде чем я снова смогу ходить по земле, не слыша за своей спиной дыхания конвоира.
Впрочем, иногда мне приходит в голову, что, даже зная все наперед, я в ту ночь все равно бы поехал к Гладкову. Сидя в электричке, я со странным спокойствием думал о безруком судье, Славе Тарасове, Мите, Жуке, Стецко, отце и о Георгии Анисимовиче. Словом, о всех тех, кто сыграл в моей жизни какую-то роль. Больше всего о двух последних.
Во-первых, я почему-то не сомневался, что отец жив, и что в письмах Стецко об этом сказано. Во-вторых, Георгий Анисимович не станет скрывать от меня правды. Ведь речь идет о самом дорогом для человека – о его отце! В-третьих, если Гладков в самом деле забирал мои письма на Главпочтамте, то они должны находиться сейчас у него. Причина, по которой он может не отдать письма, та же, что была у Мити, – опасение, что они подействуют на меня, и я уйду из воровской жизни. Других причин я не видел.
Георгий Анисимович всеми силами старался оградить нас от любого влияния со стороны, ограждая одновременно и от провалов. Это он запретил Голубке пускать в дом женщин. Запретил нам приходить и уходить с дачи в светлое время. Он построил под домом обширный погреб-тайник, куда при появлении уличкома или участкового милиционера прятались все, кроме хозяйки дома. Опасаясь все тех же провалов, он запретил нам в самих Люберцах заниматься даже карманными кражами. Однажды сильно избил за это Валерку. Если в поселке в то время и совершались кражи, то я могу ручаться, что никто из обитателей дома Голубки в них не участвовал. Страх перед знаменитой тростью Боксера даже на расстоянии удерживал нас от подобных нарушений.
Конечно, все это делалось не ради нас самих, нашего здоровья или благополучия. Гладков был, прежде всего, эксплуататором. Из наших карманов он обычно выгребал все, оставляя минимум по своему усмотрению. Он охотно давал в долг, но возвращать приходилось с процентами. Он мог одарить заграничным барахлом со своего плеча, но мог и уничтожить. Может быть, поэтому мнение о нем среди блатных было разное. Одни считали его «рубахой», другие – «жмотом».
Он был хитер и коварен. Уйти из его лап было практически невозможно. Я не раз пробовал это сделать. Один случай запомнился мне особенно. Отчаявшись избавиться от него, я решил удрать из Москвы. Уехать, не выдавая никого, не заявляясь в милицию. Возможно, где-нибудь, думалось мне, на краю земли мне повезет, и я устроюсь на работу, а со временем получу и паспорт. Но оказалось, что я слишком плохо знал тогда Боксера и его длинные руки. Помню, благополучно купив билет до Ростова, я дождался, когда поезд тронется, и сел на ходу. Стараясь держаться независимо, прошел насквозь один вагон, другой, третий. В тамбуре остановился закурить. Сунул руку в карман, достал папиросу, начал искать спички и вдруг услышал за своей спиной;
– Прикурить желаете?
Позади меня в шляпе, темных очках с тросточкой в руке стоял Боксер. Не торопясь он достал серебряную зажигалку, зажег ее, некоторое время держал на уровне моих глаз, хотя в тамбуре было светло.
– Куда путь держите? – снова спросил он и, не получив ответа, добавил совсем тихо: – Когти рвешь, подлюка? Вольной жизни захотелось? Ну, я тебе покажу вольную жизнь! Ступай за мной!
Мы вышли на следующей станции. Следом за нами на платформу спрыгнул невесть откуда взявшийся Жук и еще двое, лица которых показались мне знакомыми. Мы миновали здание вокзала, прошли вдоль всего поселка, свернули за какой-то сарай и прошли к старому кладбищу.
Меня никто не держал за руки, и я имел немало шансов удрать, наконец, закричать, позвать на помощь, но не сделал ни того, ни другого. Идущая по моим пятам фигура Боксера, одетого во все черное, его поблескивающие за стеклами очков глаза вселяли в меня почти суеверный страх. Ноги мои не слушались и были похожи на ватные, руки холодели и, когда там, на кладбище, меня стали избивать, я почти не сопротивлялся. Уже валяясь на земле и теряя сознание, почувствовал, как в гортань льется водка.
– Жук, волоки в таксо!
Больше я ничего не помнил. Позднее Валерка рассказал, что Боксер вез меня в такси до Москвы и всю дорогу, должно быть, для шофера охал и причитал по поводу того, что его дорогой племянничек напился, подрался и вот ему, человеку в годах и больному, предстоит отвечать за него перед тетушкой.
Тех двоих, которые били меня, он в такси не взял. По словам Жука, оба так озверели, что он, Жук, вынужден был под конец даже вступиться за меня.
– Не то бы тебя там и пришили, – закончил он торжественно.
– Кто были эти двое? – спросил я.
Он сказал, вспомнил двух «добрых молодцев».
Таков был Боксер. По одному из паспортов Георгий Анисимович Гладков, зубной техник. Матерый волк, не любивший тех волчат, которые показывают зубы. Сколько раз за всю жизнь приходилось ему смирять подобные бунты, и кто знает, сколько бунтарей было спущено его подручными в Москву-реку, Яузу или просто в городскую канализацию?
* * *
От вокзала до квартиры Гладкова я ехал в такси. Хмурый шофер, по-моему, не столько смотрел на дорогу, сколько через зеркальце на меня. Этот взгляд мне был знаком. Так смотрят на нас милиционеры, дворники, сторожа и кассиры – все те, кому часто приходится иметь дело со шпаной. С таким водителем, как этот, ехать было опасно. Он мог подрулить к любому отделению милиции. В другое время я, конечно бы, вылез из машины, но сейчас мне необходимо было торопиться.
– Прибавь скорость, друг! – попросил я. – Заплачу вдвое.
Он ответил, не оборачиваясь:
– Не торопись на тот свет, там кабаков нет, – но скорость все-таки прибавил.
На углу Шереметьевской и 1-го проезда Марьиной Рощи я расплатился и вышел из машины. Было раннее утро воскресного дня. В дымном мареве над Москвой поднималось солнце. На улице появились первые прохожие.
В то время Марьина Роща была едва ли не самым заброшенным уголком старой Москвы. Много лет не ремонтированные дома, обвалившаяся штукатурка, почерневшие стены двухэтажных деревянных домов с фантастической плотностью населения на один квадратный метр. Сразу после войны сюда хлынул мощный поток жителей ближайших деревень, в котором коренные жители растворились без остатка. Деревня привезла свою культуру и свои привычки. В праздники здесь играли на трехрядке и дробили «елецкого». В одном из таких домов и жил Гладков.
Подходя к подъезду, я вспомнил свой первый приезд сюда и с удивлением заметил, что это было всего каких-то пять-шесть лет назад. А ведь мне казалось, что прошла вечность. Всего лишь пять лет понадобилось «дяде», чтобы сделать из меня профессионального вора. Пять лет! Я шел сейчас по той же самой мостовой, и каблуки моих ботинок оглушительно выстукивали в такт моим мыслям: пять лет, пять лет, пять лет…
При дневном свете этот дом показался мне еще более мрачным и угрюмым. Стены его покосились, парадное крыльцо вросло в землю, и поэтому одна половина двери не открывалась вовсе. Вторая – наоборот, не могла закрыться. Два его таких же древних соседа были снесены. На их месте темнели котлованы. Пройдет совсем немного времени и здесь вырастут совсем другие дома – многоэтажные, просторные, светлые. Не будет больше страшных общественных кухонь с керосинным чадом, площадной брани хозяек, вони общественных уборных и загаженных лестниц! Ах, скорей бы все это приходило! Жаль только, что вместе с домом бульдозер не сотрет с лица земли самого Георгия Анисимовича!
Наш условный стук похож на букву «р» азбуки Морзе. Но почему мне приходится повторить его трижды?
– Чего тебе? – это Валерка.
Сквозь щель я слышу только его голос, потому что в прихожей темно.
– Мне нужен Георгий Анисимович.
– Его нет! – дверь готова захлопнуться, но носок моего ботинка был уже в щели.
– Волк, мотай отсюда пока цел! – советует Валерка.
– Мне нужен зубной техник Гладков, – говорю я и просовываю в дверь весь ботинок.
Валерка пихает его обратно, и некоторое время между нами происходит молчаливая возня. Неожиданно дверь отворяется. Меня пропускают в прихожую. Привыкнув к темноте, я скорее чувствую, чем вижу, что Валерка здесь не один. За дверью еще кто-то.
– Чего тебе? – снова спрашивает Жук.
– Мне два слова сказать…
– Говори! – голос Георгия Анисимовича не из-за двери, а с противоположной стороны.
Кто-то жарко дышит в затылок. От волнения у меня дрожат колени.
– Я с Лесной.
– От легавых?
– Голубка велела кое-что передать…
Долгая пауза. По-прежнему дышат в затылок. Потом Гладков отворяет дверь в соседнюю комнату. Но он еще не уверен…
– А может, ты свистишь, Волк? Может, никто тебя не посылал?
Я делаю вид, что обиделся.
– Подумаешь, могу и уйти! Только она говорила насчет каких-то «рыжиков», что в саду закопаны…
Он толкает меня в комнату и захлопывает дверь.
– Чего орешь?
Сунув руки в карманы, он некоторое время ходит по комнате. Сейчас она похожа на склад, в котором только что произвели очередную ревизию. Но это не просто ревизия. Боксер собрался «рвать когти».
Он нервничает. Валерка сунулся было в дверь, но получив затрещину, скрылся. Наконец, он со злобой пинает ногой какой-то узел и подходит ко мне.
– Вообще-то тебя надо бы пришить. Заслужил, паскуда! Ну да ладно, живи пока. Давай выкладывай!
– А чего выкладывать? У меня, как у латыша…
– Где золото?
– Под яблоней.
– Под какой яблоней?
– Под третьей от левого угла терраски. Пять четвертей к востоку…
– Каких четвертей? К какому востоку? Слушай, Волк… Хочешь я сейчас из тебя семерых козлят сделаю?
– Да чего вы пристали? – крикнул я, отбегая от него к окну. – За что купил, за то и продаю! Сказано – под третьей яблоней от левого угла терраски пять четвертей к западу…
– К востоку или к западу?
– К западу. То есть к востоку, кажется. Забыл.
Он стоял, не сводя с меня глаз.
– Что она еще сказала?
– Сказала: «Мне теперь все равно не жить. Разделите промеж собой. И Ивана Ивановича не обидьте, и Васе на лечение уделите, сволочи, головорезы проклятые»…
Его глаза сделались круглыми.
– Ты что, спятил?
– Нет.
– Где ты видел Голубку в последний раз?
– В заначке над кухней.
По-видимому, это место было ему знакомо. Боксер задумался. Вот сейчас он скажет: «Мы уедем, потом вернемся, а ты пока стереги квартиру». Но он сказал совсем другое;
– Поедешь с нами. И не вздумай бегать. Пристрелю, как собаку.
В мои планы уходить отсюда совсем не входило. Письма были где-то здесь.
– Я никуда с вами не поезду!
Он неожиданно согласился:
– Как хочешь. Только что ты здесь будешь делать?
Момент развязки приближался со скоростью курьерского поезда.
– Искать письма, – ответил я, стараясь смотреть ему прямо в глаза.
Но он не смутился:
– Какие письма?
– Мои письма, которые ты забирал на почте!
Он устало провел рукой по лицу.
– Ах вот что… Плюнь на них, Волчонок. Они не стоят того, чтобы мы с тобой ссорились. В самом деле, поедем с нами! Не бойся, я давно все простил…
– Мне нужны письма! Мои письма! Слышишь?
Он снова устало прикрыл глаза и погладил пальцем веки.
– Их нет у меня, Волчонок. Да они тебе и не нужны. Поедем!
– Отдай письма! – крикнул я.
На улице засигналила машина. Георгий Анисимович сказал, глядя в окно:
– Идиот! Зачем он сигналит? Впрочем, теперь все равно.
Он повернулся ко мне спиной и поднял с полу небольшой кожаный саквояж. Никогда еще я не видел Георгия Анисимовича таким старым. Плечи его больше не казались мощными, руки висели плетьми, и ему стоило больших усилий, чтобы поднять хотя бы одну из них. Борцовская шея морщинилась у самого воротника, ноги при ходьбе шаркали по полу. Он с трудом доплелся до знакомого мне буфета из красного дерева, открыл дверцу, достал бутылку коньяка, неторопливо налил в стакан и залпом выпил.
– Письма! – сказал я, теряя терпение.
Он покачал головой и вдруг добродушно, по-стариковски, погрозил мне пальцем:
– Не-е-е хорошо-о-о! Обманывать нехорошо-о-о… Матрена не могла сказать тебе, где золото, потому что она не знает! Нехорошо-о-о-о, Стась… Кстати, о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе я тоже читал, – он налил еще стакан и залпом выпил. – Но я тебе и это простил. Едем!
Постепенно спина его выпрямилась, на лице появился румянец, движения стали энергичнее…
– Письма! – сказал я. – В последний раз спрашиваю! Отдашь?
Он усмехнулся и вылил остатки коньяка в стакан. Эта усмешка решила все. Я выхватил браунинг:
– Считаю до трех: раз… два…
Он размахнулся и кинул в меня бутылкой. За моей спиной посыпались оконные стекла. Лицо Георгия Анисимовича пылало яростью.
– Щенок! На кого руку поднимаешь?! Думаешь, не знаю, кому служишь?! – он схватил со столика бронзовую статуэтку и запустил ею в меня.
– …три! – я дважды нажал спусковой крючок.
Георгий Анисимович рухнул на колени, потом опрокинулся на спину.
В ту же секунду в комнату вбежал шофер Коля. Я выстрелил и в него, но промахнулся. Дело в том, что из браунинга я стрелял впервые в жизни. Коля сделал огромный прыжок, сшиб меня с ног и вырвал из рук оружие. Но вместо того, чтобы убить меня, он нагнулся над Боксером и вдруг сказал:
– Что ты наделал, глупый мальчишка! Ах, что ты наделал!
Вбежавшим следом за ним Валерке и Шустрому он предложил поднять руки вверх, на что те немедленно согласились. Обыскивая их карманы, он то и дело бросал на меня уничтожающие взгляды и бормотал:
– Что ж ты наделал, парень! Ах, что ты наделал, глупая голова!
Потом появились два милиционера, козырнули «шоферу» Коле и увели Валерку и Шустрого. Потом в комнате стало тесно от людей. Вспыхивал магний, щелкали фотоаппараты, какой-то человек совал мне в руку пистолет и настойчиво твердил:
– Встань там, где стоял! Встань там, где стоял!
Потом мы спустились по лестнице и вышли на улицу.
Несколько милиционеров с трудом сдерживали натиск стонущей от нетерпения толпы. Давя друг друга, люди лезли вперед. Наиболее энергичные то и дело вылетали из этой толпы, словно пробки из бутылки, и со счастливыми физиономиями становились впереди всех.
Этот день, мой последний день на свободе, я запомнил особенно. Шофер Коля, которого здесь все звали «товарищ лейтенант», держал меня за руку и повторял то же самое, что и в комнате убитого:
– Что же ты наделал, глупый мальчика! Ах, что ты наделал!
Держал меня не потому, что боялся упустить (из спецмашины да еще на ходу не так-то просто выскочить), и даже не из-за того, что я перепутал все его планы по ликвидации банды, а потому, что, как он выразился, «давно хотел вывести из игры» меня и теперь страшно жалел, что все так получилось. И что меня – с этим теперь уж ничего не поделаешь – будут судить за особо тяжкое преступление.
Я решил, что судьба посылает мне еще одного «добренького», но ошибся. Прощаясь, он вдруг протянул мне руку.
– Не горюй, Карцев! В общем-то, ты отличный парень. Все что смогу, я для тебя сделаю, – и ушел, провожаемый изумленными взглядами конвоиров.
Нет, он вовсе не был тем, кого я называл «добренькими». В моем следственном деле он сыграл немаловажную роль. К сожалению, мне не пришлось поблагодарить этого замечательного человека. За год до моего досрочного освобождения он погиб от руки бандита.
Когда я думаю об этом, мне всегда почему-то приходит на память широкоскулое лицо Маруси или длинное, вытянутое, с перебитым носом лицо Боксера. Иногда оно снится мне ночами, и тогда я начинаю ощущать на своих плечах, на груди и на горле железные пальцы этого человека. В такие ночи я часто просыпаюсь в холодном поту.
Моя Арачи
Ци давно уже носилась по землянке, беспокойно цокая и даже прыгала мне на грудь, а я все никак не мог проснуться, хотя и слышал сквозь сон не только ее крик, но и настойчивые удары в дверь. Испугавшись, что проспал приход Арачи, я кубарем скатился с топчана, опрокинул по пути ведро, в котором таял снег для питья, и дрожащими от нетерпения руками принялся искать в темноте крючок. Но дверь оказалась незапертой, она просто примерзла. Тогда я ударил ее каблуком. Но вместо Арачи в землянку ввалился седой от инея и злой, как черт, Моргунов.
– Чего запираешься? Небось, не разворуют капиталы!
– Дверь примерзла, – сказал я и вдруг увидел, что Моргунов приехал не один. У двери шевелилось странное существо, неповоротливое и смешное от множества надетых платков, непомерно широкого пальто и громадных валенок.
– Знакомься. Новая радистка, – сказал Моргунов. – Звать Липа.
– Олимпиада Валентиновна, – поправил голосок откуда-то из недр свитеров и курточек.
– Вот и я говорю – Липа! – повторил Моргунов и сделал ударение на последнем слове. – Прислали из Управления Липу. Понял?
Он явно был не в духе. Подойдя к печке, пошуровал в ней кочергой, чертыхнулся, достал спички, прикурил, переломав с полдюжины.
– Кормить думаешь? Подожди… Если опять проклятые концентраты, заранее говорю, – лучше не носи!
– Зайчишку подстрелил вчера. К самой землянке пришел.
– Это другое дело.
Между тем, то, что звалось Олимпиадой Валентиновной, разделось и превратилось в невысокую девицу, румяную и круглую, как колобок, с сильно подкрашенными губами и прической «под мальчика». На идеально гладких, лишенных всякой растительности надбровных дугах, были нарисованы тонкие брови. Одна бровь получилась длиннее другой, наружный конец кончался на виске. Лыжный свитер и брюки с трудом сдерживали мощные, рвущиеся наружу формы.
– Это другое дело, – повторил Моргунов по поводу зайца, наполняя тесную землянку табачным дымом. – А я тебе питание для рации привез. Впрочем, теперь уж не тебе, а Липе.
– Олимпиада Валентиновна, – невозмутимо поправила девушка.
Моргунов свирепо вытаращил глаза, но разговор продолжал со мной.
– Ты как, не отдумал?
– Нет, Дмитрий Иванович.
– А она… Знает?
– Нет еще. Жду вот…
Некоторое время он молча дымил трубкой. Под конец в ней всегда начинало клокотать и булькать, и тогда начиналась долгая и старательная чистка. Потом трубка заправлялась снова и опять под конец курения начинала клокотать.
– Неудачная конструкция, – всякий раз говорит о ней Моргунов. – Поеду в город другую куплю.
Говорит он это много лет. И много лет подряд друзья присылают ему новые трубки всевозможных фасонов и размеров. При желании Моргунов мог бы составить из них неплохую коллекцию. Но коллекционирует он только минералы, а из присланных трубок курят табак его друзья-эвенки во всех стойбищах Илимпийского района.
– Тебе письма, – говорит Моргунов, щелкая кнопками планшетки. – Только сначала накорми, а то не получишь.
– Готово уже, ешьте.
– Тогда получай. Выпить хочешь? Армянский! В управлении из-под прилавка дали. Ну, как хочешь?
Писем много. Одно, как всегда, от Лени Беспалова. У него до защиты диплома осталось совсем немного, а там – профессия горного инженера, дальние края, возможно, даже наши… Другое – от воспитателей Толжской колонии. Среди прочих подписей росчерк Славы Тарасова. Мог бы, конечно, и отдельно написать. Ну да, пес с ним! Вот уж не думал, что начнет зазнаваться! Из «обязательных» – кажется все. Впрочем, еще одно. От Васи Кривчика и Ивана Ивановича. Они по-прежнему живут вместе. Недавно ездили в Киев в глазной институт к профессору Колесниченко. Оба надеются, так как «видели в той клинике совершенные чудеса медицины»…
Остальные письма от приятелей. Как и я, они «завязали», но к новой жизни привыкают по-разному. Один даже честно признается, что не прочь повернуть обратно. Надо будет срочно ответить.
Почерк на одном конверте показался мне незнакомым, хотя обратный адрес тот же – Сумская область, Недригайловский район, деревня Бересни, Стецко Ивану Остаповичу. Торопливо разрываю конверт; «Дорогой Стась! Извини, что пишу не сам. Проклятая рана то закроется, то откроется. Да так, что приходится брать бюллетень. А работа у меня сам знаешь: все дело в правой руке! Словом, пишет тебе моя дочь Евдокия. Так что у меня теперь свой секретарь со средним образованием. Для бывшего помкомвзвода с незаконченным начальным – в аккурат.
Но я не о том. Пишешь ты, что вот уже третий год живешь и работаешь „как все“. Почему же тогда не едешь к нам? Кажется, мы с тобой уговорились. Мне это непонятно и довольно обидно. К тому же и Дуська моя очень твоей личностью интересуется. Продиктовал бы и больше, да она не станет писать. Тут и авторитет отцовский не поможет».
Далее следовала приписка, явно написанная не под диктовку: «Интересуюсь как и всякой любопытной личностью. Батя мне ваши стихи показывал. Одно мне даже понравилось, а в общем-то ничего особенного. Сейчас все так пишут. Вот и все. Как видите, пишу и не стесняюсь, потому что стесняться мне нечего. Ничего такого, на что намекает отец, я и не думаю. Евдокия Стецко.
А пока продолжаю выполнять обязанности секретаря. Между прочим, здоровье его совсем плохо. Он пишет, что рука болит. Это неправда. Руку ему отняли два месяца назад. Не говорит, не хочет расстраивать вас. Так что пока за него буду вам писать я, уж не обижайтесь.
А все-таки лучше, если бы вы в самом деле приехали. Работы здесь хватит, не беспокойтесь. В учебе тоже поможем. У меня подружки поступают в педагогический, им для практики очень даже нужно… И потом у нас ребят очень мало. Все в города поуезжали. В нашем колхозе, например, один тракторист на всю деревню. Остальные – бабы и девки. Даже в кузнице одни бабы. И смех, и грех! Извините, разболталась, а батя торопит».
«Работы здесь для мужика – непочатый край. И заработаешь, и оденешься, и еще на водку останется. Но главное – не это. Главное то, что некому работать. Девки (сильно зачеркнуто), вертихвостки разные, в город так и норовят удрать, а на деревню им наплевать (сильно зачеркнуто). Чаще всего за военных замуж выскакивают. Так что приезжай, помоги нам. Всегда твой, Иван Стецко».
Мои гости быстро расправились с зайцем и занялись каждый своим делом. Дмитрий Иванович принялся раскуривать трубку, а Липа вынула зеркальце, губную помаду, пудреницу и принялась прихорашиваться. Покончив с этим делом, она сдвинула бровки, впервые критически оглядела мою землянку и сказала строго:
– Я думаю, Дмитрий Иванович, нам нечего долго тянуть. Мне хотелось бы сейчас же принять аппаратуру от этого гражданина. Пока он еще здесь, – она еще раз оглядела бревенчатый потолок, земляной пол, грубо сколоченные скамьи, стол… – А потом… Я попросила бы вас перевести меня отсюда в поселок. Там у библиотекаря есть свободная комната.
Моргунов с тоской посмотрел на меня.
– Слушай, Карцев, может, останешься, а?
Я вышел, чтобы набрать дров. Над тайгой занимался день. Седые от инея олени Моргунова и Липы лежали возле двери. Перевернутые вверх полозьями нарты тоже белы от инея. Кедр, что стоит около моей землянки, протягивал ко мне мохнатые, снежно белые лапы…
Моя землянка на самой вершине сопки. От ее двери в хорошую погоду видно на многие километры. Зачем я поставил ее здесь? Во-первых, на высоком месте рация работает лучше. Во-вторых, здесь суше по сравнению с остальной тайгой. В-третьих, я люблю смотреть с высоты на безбрежные просторы тайги. Увидев ее один раз, нельзя не восхититься. Прожив полгода, нельзя не заболеть тайгой. А прожив вместе с ней несколько лет, нельзя не отдать ей свое сердце…
– Ой-ео-о-о!
Что это? Может, мне показалось? Может быть, это крикнул дикий олень, которого схватила рысь?
– Ой-ео-о-о!
Я бросаю дрова и бегу к обрыву. Отсюда летом по блестящим на солнце заворотам реки видно, как петляет Пирда. Сейчас ее русло можно только угадывать по береговому лесу и несколько более высокому правому берегу. Все погребено под толстым слоем снега и будет лежать так до самого мая.
По берегу Пирды вьется тропа. По ней недавно проехали Моргунов со своей спутницей, и кто-то едет сейчас. От мысли, что это Арачи, у меня замирает сердце. Но вот из-за поворота показался олень. Если это Арачи, то почему одна? Где же Колька? Через минуту я уже вижу, что это не Арачи, но продолжаю стоять на краю обрыва и ждать. В таком одиночестве любой путник – желанный гость. К тому же у меня нет особого желания возвращаться в землянку. Новая радистка мне неприятна.
Торопливо перебирая копытами, олень карабкается на сопку. На его спине Иван Унаи, который, вместо того, чтобы слезть и помочь животному, сердится и подгоняет его плетью.
– Иргичи! – кричит он еще снизу. – Худую весть принес тебе Унаи!
Не в обычае эвенков так торопиться с сообщением. Люди лесов – они привыкли все делать обстоятельно, не торопясь. Прежде чем сообщить даже радостную новость, эвенк сначала поздоровается, потом дождется, когда его пригласят в жилище, а может быть, даже напоят чаем… Только тогда он будет рассказывать. Либо Унаи перенял от русских торопливость в делах, либо весть в самом деле плохая.
Как бесконечно долго карабкается в гору его олень! Но вот, наконец, они рядом.
– Василий уехал из Энмачи! – выпаливает он одним духом. – Кто теперь отдаст долг Унаи?!
У меня на минуту темнеет в глазах.
– Где Арачи? Он не тронул ее?
Вместо ответа он достает из-за пазухи записку. Неровные карандашные строки прыгают перед моими глазами. Письмо написано наполовину по-русски, наполовину по эвенкийски. Так Арачи пишет, когда очень волнуется. «Родной мой! Неделю назад Василий увез Кольку в Туру к сестре. Сказал – кататься. Арачи поверила. Вчера вернулся один, без Кольки. Велел собираться и ехать с ним. Сказал, если не поеду, уедет сам и увезет Кольку далеко. У Арачи никого нет, кроме Кольки и Иргичи. Арачи долго думала, не спала. Иргичи большой, Колька маленький. Колька погибнет без Арачи. Прощай, мой ясный! Арачи едет одна, сердце она отдала Иргичи».
Первым моим желанием было схватить оленя Унаи и скакать в Энмачи. Потом голова стала проясняться.
– Когда уехали?
– Однако вечером.
– Кто повез?
– Старый Панкагир.
У Панкагира лучшие олени. Не догнать. Унаи смотрит мне в глаза и говорит:
– Старики велели сказать тебе…
– Что такое? Какие старики?
– Все. И Панкагир тоже. Велели сказать: «Иргичи должен оставить Арачи».
– Ты с ума сошел, Унаи. Я ее люблю!
Он попытался взять меня за руку.
– Старики тоже любят Арачи. Нет другой такой в стойбище! Однако Арачи не девушка. У нее муж и ребенок. Зачем Иргичи ломает их дом, словно медведь улей? Плохой муж Василий, плохой человек, однако отец. Кольке с ним жить! Так сказали старики.
Заскрипел снег под ногами Моргунова.
– Вот ты где! Здравствуй, Унаи! Зачем пожаловал?
И ему повторил Унаи слово в слово то, что сказал мне.
Моргунов смущенно кашлянул и посмотрел на небо. Полярный день кончался. В марте он короче воробьиного носа.
Дмитрий Иванович кашлянул снова и тронул меня за плечо:
– Прости, брат! Хотел как лучше, а оно, видишь, что получилось?
И ушел в землянку. И тогда спросил Унаи:
– Что будет делать Иргичи?
– А что будешь делать ты?
– Унаи поедет искать Ваську. Унаи знает, где он. Пусть отдаст долг.
– Это твое дело. А ей передай, что Иргичи ждет…
Он покачал головой:
– Однако долго ждать будешь.
– Долго ли, коротко ли – это мое. Я не буду ломать их дом, но, если все-таки развалится, пусть старики не суют носы в нашу жизнь. Решать будет Арачи.
Он согласно закивал головой и излишне торопливо стал собираться в обратную дорогу.
Когда я вошел в землянку, Липа с наушниками сидела на моем месте и, как видно, заканчивала последнюю проверку.
– Так, значит, рация в рабочем состоянии? – громко спросил Моргунов.
Она пожала плечами и, нарочно не обращая на меня внимания, спросила:
– Что будем передавать, товарищ начальник?
– Передай следующее, – он быстро взглянул на меня и уверенно продолжил: – В новом радисте партия не нуждается. Точка. Радистом остается Карцев. Точка. Жду самолет в Энмачи девятого. Точка. Моргунов. Точка.
…Толстое полено лиственницы никак не хотело раскалываться. Я вышел из землянки за другим. Над тайгой висела темная зимняя ночь. Через все небо, как длинная-длинная дорога, тянулся Млечный Путь. В Энмачи некоторые старики еще верят, что эта дорога ведет души умерших к лучшей жизни. Для астрономов это наша Галактика, а для геологов, летчиков и моряков – признак морозной и ясной погоды.
В темноте самолеты летают редко. Даже в Туре аэродром плохо освещен. Но если точно рассчитать, то можно, вылетев из Туры часа в четыре утра, приземлиться в Энмачи на рассвете. В марте в восьмом часу у нас в Эвенкии бывает достаточно светло.








