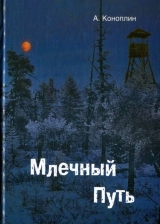
Текст книги "Млечный путь (сборник)"
Автор книги: Александр Коноплин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Надзиратели в кандеях и те удивлялись: «На кой хрен тебе такая собачья жизнь? Ладно бы пожилой, немощный, а то ведь молодой, здоровый, а себя кандеями изводишь». Уж может, в самом деле завязать?
В сумерки доскакал он на своих двоих до жилья. Не лагерный поселок, а настоящая кержацкая деревня. Окошки – рукой не достанешь, бревна в обхват.
Сперва Шкет огляделся. Мало ли? Может, погоня по следу догнала. Потом выбрал избенку победнее: косенькую, крыша соломой крыта – и постучал в окно палкой. Отворили ему сразу – будто ждали. Низенькая дверь в аккурат для него, и потолок низкий, головой достанешь. Женщина, что его впустила, с первого взгляда показалась ему старухой: носик востренький, глаз не подымает, губы тонкие поджаты, руки худые в синих надутых венах. В избе напротив двери большой стол, за ним лавка, на ней пятеро огольцов мал мала меньше. С краю девочка постарше, лет, наверное, пяти. Сидят, на Шкета глаза таращат. Правее в углу под иконой большая деревянная кровать и табуретка рядом. И больше ничего в избе, никакой мебели. Неужто все шестеро на одной кровати спят?
– Молочка… Молочка не желаете ли? – забормотала женщина, пряча глаза от Шкета. – У нас-то коровы нет, так я к соседям сбегаю. Вы посидите тут, отдохните с дороги, – и не успел Шкет опомниться, выпорхнула за дверь.
Стоя у косяка и привалившись к нему, Шкет смотрел на мальцов, а они на него. Одинаковые все с виду – курносые, глазастые, конопатые, волосы как солома ржаная. Сидят, молчат. Вдруг старшая девочка захлопала в ладоши и сказала:
– А у нас нынче оладышки будут! Вот!
«С молоком – это неплохо», – подумал Шкет, а вслух спросил:
– Кто же вам принесет оладышки, дневальный что ли? – не умел он разговаривать с маленькими, не приходилось встречаться с ними.
– Маманя к дяде Боре побегла, – сказала девочка. – Он на лошадку сядет да на ОЛП[35]35
Отдельный лагерный пункт.
[Закрыть] поскачет, солдатики придут и тебя заберут, а нам мучки дадут – вот столько! И еще соли…
У Шкета на миг похолодело внутри, и ноги сделались ватными. Но уже в следующую секунду он совладал с собой, метнулся от косяка, распахнув дверь так, что она ударилась об стену. Впотьмах нащупал другую и вывалился прямо на улицу. Должно быть, раньше тут был хлев, но за ненадобностью его сожгли в печке, чтобы мальцы от холода не околели.
Вскочив на ноги, Шкет под заливистый лай собачонок бросился в тайгу. Ничего себе попил молочка! Ах ты, сука позорная! Ну, погоди! Однако ругался он больше по привычке: знал, что никогда сюда больше не заглянет, только бы сейчас ноги унести. Да и не от хорошей жизни бабы на такое дело идут, у каждой либо ребят куча, либо сама с голоду пухнет. Тайга – не город, на работу не устроишься, а начальство лагерное пользуется. За каждого беглого подарки дает – кому велосипед, кому приемник, а этим, по бедности ихней, мучки мешочек на оладышки…
Продолжая материться, топал Шкет через тайгу дальше на восток. Другие, неопытные, к железке ладили – там их и ловили. А он наоборот в глубь тайги рванул: поди догадайся!
Часа через два, когда было уже совсем темно, унюхал он запах дыма, а затем и навоза. Жилье! На этот раз был осторожнее. Раза два обошел заимку, прежде чем приблизиться. Дивился, не слыша собачьего лая. В той деревне его сявки сразу одолели, одна другой заливистей, а тут – ни одной. Тишина.
Стараясь не слишком хрустеть первоснегом, подошел он к высокому крыльцу с гладкими, чисто вымытыми ступеньками и опять огляделся. Ни лая собачьего, ни голоса человечьего, только близко вздыхает корова.
Поднялся на крыльцо, взял веничек, аккуратно бахилы от снега обмахнул, в дверь постучал. Еще раз подивился: нет собак и все тут! Ненавидел он их и боялся, потому как ничего хорошего от них в жизни не видел. Да и знал-то одну породу – немецкую овчарку… Только вспомнил про них, как возле крыльца как из-под земли появились два огромных зверя. На овчарок похожи, но больше ростом, уши имеют короткие и не лают. Почему не лают? И вдруг понял: не овчарки это – волки! Два больших волка стоят и смотрят. Слыхал раньше про таких. Таежники иногда берут из логова волчат и воспитывают. Нет выносливее их, смышленее, а охотники такие, что и ружье таежнику ни к чему с ними: натаскают и птицы, и зверя. Не слыхал раньше только, как они насчет беглых себя ведут – вон клыки какие!
Шкет прижался к стене, но рядом оказалась открытая дверь, и в темноте кто-то стоял.
– Хозяин! – взвыл Шкет не хуже волка, – впусти странника, не дай сгинуть!
– Входи, «странник», – произнес женский голос, – а волков не бойся, человека они не тронут.
«Как же не тронут! Тебя, может, и не тронут, а из чужого запросто кишки выпустят!» – думал Шкет, ощупью пробираясь между ларями, мешками, корзинами, ориентируясь на запах женского пота – его-то он чуял хорошо, – пока не уперся в косяк еще одной двери.
– Входи, – сказала женщина и пропустила его вперед.
«Сейчас убежит подлюка, донесет!» – подумал Шкет, но она никуда не убежала, а вошла следом за ним. Была она высока ростом, худа так, что мослы выпирали, с длинными худыми руками и сутулой спиной. В избе пахло кислой капустой, какими-то травами, печеным хлебом, мокрыми половицами. Шкет вдруг ощутил сильную слабость, с трудом дотащился до скамьи и не сел, а упал на нее и тут же потерял сознание.
Очнулся он, наверное, часа через полтора-два. В избе под потолком горела керосиновая лампа, за тяжелым столом с толстыми ножками сидел широкоплечий бородатый мужик, руки его, как корни дерева, спокойно лежали на столе. Заметив, что гость пришел в себя, он слегка повернул голову и сказал густым басом:
– Собери, Мария, повечерять гостю.
Та самая женщина, одетая теперь в домотканое серое платье с глубоким вырезом, неслышно отделилась от печки, возле которой до этого стояла, и ушла за перегородку. Через минуту появилась снова и поставила перед Шкетом деревянную миску, положила ложку и горбушку хлеба. Шкет ощутил запах мясных щей, и у него снова закружилась голова. Преодолевая слабость, стал торопливо хлебать из миски, прикусывая хлебом. Он почти не сомневался, что видит чудесный сон и хотел одного, чтобы сон этот как можно дольше не кончался. Он быстро выхлебал щи, а сон и в самом деле на этом не кончился. Облизав ложку, Шкет аккуратно положил ее на стол и, с трудом припомнив, выдавил из себя трудное слово:
– Спасибо… – а подумав, добавил: – хозяин.
– На здоровье, – ответили ему.
– Что за хутор? – спросил он, помолчав. – Или, может, деревня такая маленькая? Или поселок? А далеко ли отсюда до Ворошиловского?
– Заимка это, – ответил мужик. – А до Ворошиловского верст двадцать будет.
«Неужто я столько пробежал?» – с радостью подумал Шкет. Ворошиловским назывался поселок при третьем ОЛПе, из которого он бежал.
– Ну и как же тебя звать-величать? – спросил мужик, а помолчав, добавил: – Или, может, у вас, как у собак, клички?
«Расколол! – ахнул Шкет. – Расколол, еще ни о чем не расспрашивая. А я-то хотел прикинуться геологом… Не иначе, бывший надзиратель».
– Владимир я. Владимир Ильич Петров.
– Ишь ты, – удивился мужик, – фамилию вспомнил! А статья у тебя какая?
«Точно надзиратель! Может, и сейчас еще служит».
– У меня-то? Так указник я… Был то есть. Вот срок отбыл… «Сейчас справку об освобождении потребует!» Но мужик ничего не потребовал. Усмехнувшись в усы, сказал:
– Ладно, переспишь у меня ночку, а там поглядим, что с тобой делать.
Он поднялся – огромный, кряжистый, кудлатый, с сильной проседью в волосах и бороде, головой, почти касающейся потолка.
– Сколько же лет тебе? Пятнадцать? Или, может, все семнадцать?
– Я… взрослый уже… – зачем-то произнес Шкет.
– Взрослый? А ты на себя в зеркало глянь!
Шкет привстал, повернулся и глянул в висящее на стене засиженное мухами старинное, в раме тяжелой зеркало. Оттуда на него и в самом деле смотрел не взрослый человек, а подросток с длинной тощей шеей, торчащими в стороны большими прозрачными ушами, словно крыльями летучей мыши. Глаза тоже стали другими – огромными, испуганными, как у той женщины в деревне, которая его заложила…
И еще он увидел за своей спиной ту самую женщину в сером платье. Она смотрела на него с жалостью, по-старушечьи подперев щеку ладонью. «Видно, я в самом деле смахиваю на доходягу-малолетку, – подумал Шкет. – Ну и хрен с ними: малолетка, так малолетка…»
– Насмотрелся? Ступай за мной! – мужик шагнул через порог.
Пробираясь в темноте, Шкет снова ощутил уже знакомый запах трав, но сейчас к нему примешивался еще один – запах копченой свинины! Его Шкет слышал только раз в жизни, когда блатные, похитив на кухне свиные ножки, обжигали их на костре…
– Входи! – произнес хозяин, отворяя еще одну дверь. Он легонько подтолкнул Шкета в спину и захлопнул за ним железный засов. – В углу тулуп возьми, накройся и спи, утром разбужу, – и уже кому-то другому: – Лежать, Джек! Стеречь!
Почувствовав холод, Шкет нашарил в углу тулуп, завернулся в него, согрелся и хотел уснуть, но беспокойные мысли прогнали сон. Кто хозяин заимки? Лагерный надзиратель или ссыльный? Общение с культурными зэками научило его многому. Бородач говорил не по-чалдонски – этот говор Шкет знал. А вот вел себя по-надзирательски: впихнул в чулан и запер на засов. От мыслей таких, а может, от тулупа стало ему жарко. Из веников соорудил себе подобие тюфяка, улегся с удобством и накрылся тулупом. От съеденного мяса в животе приятно грело, но от обильной еды поднялась икота. При первых ее звуках лежавший за дверью волк поднялся и стал принюхиваться.
– Вот тебе, падло! – сказал Шкет, как если бы имел дело с человеком. – Ты, небось, каждый день мясо жрешь.
Вспомнив о жирных щах, он зажмурился и почесал живот. За всю лагерную жизнь не мог припомнить случая, чтобы зараз перепало столько. Хотя случалось воровать прямо из лагерного котла… Неужто можно жить, чтобы каждый день так есть?
Понемногу посторонние звуки стали для него понятными: вот шумно вздыхает корова, мочится в навозную жижу и снова вздыхает, вот заблеяла овца, застучала копытцами в досчатую загородку, трижды протяжно зафыркала лошадь, скребла копытом по деревянному настилу. Время от времени хрюкали и дрались потревоженные во сне свиньи. Однако ж хозяйство у бородача! Полежав без сна довольно долго, он поднялся и стал по привычке ощупывать стены и потолок. В том, что завтра его отправят обратно на ОЛП, он был уверен. Но возвращаться туда не входило в его планы. Тот кореш, что помог ему бежать, дал адресочек в Абакане, где, по его словам, можно залечь на дно до весны…
Ощупывание стен ни к чему не привело, кроме того, что мохнатый сторож за дверью стал проявлять беспокойство: метался, царапал дверь и даже подвывал. И опять Шкет подумал, что этот все-таки лучше, чем овчарка. Она бы подняла лай, и тогда бы Шкета непременно побили. К тому же волк для него – родная душа в отличие от зверюги-овчарки. В том, что на Мохнача охранники натравили овчарку, он не сомневался.
Проснулся он от грохота железного засова и в полусне подумал, что находится в камере Красноярской пересыльной тюрьмы – там так же гремели засовы. Через секунду-другую вспомнил все и нехотя поднялся. В глаза ударил свет лампы.
– Выходи! – приказал невидимый в темноте бородач. – Сходи по нужде в хлев и иди в избу, Мария тебя покормит.
Шкет сходил в хлев, помочился на копошившихся под помостом уток и прошел в избу. Неотступно следовавший за ним волк остался за дверью.
– Доброго здоровья, хозяйка! – сказал, глядя в спину суетившейся у печки женщине.
– И тебе доброго здоровья, – ответила женщина, выпрямляясь.
У нее в руках Шкет увидел вчерашнюю миску, из которой торчала ложка. На этот раз его потчевали гречневой кашей с мясными гренками. Шкет съел кашу, вылизал миску, а хлеб спрятал за пазуху.
– Спасибо, хозяюшка, – произнес вторично чужое для него слово.
Вместо ответа женщина взяла миску и вновь наполнила ее кашей, выставив на стол еще и кружку молока. Шкет с еще большей быстротой съел и выпил все и уставился на хозяйку – вдруг да еще чего даст? Но она, хоть и смотрела на него с жалостью, ничего больше не дала, возможно, потому что в избу вошел бородач, одетый в нагольный полушубок и шапку-малахай.
– Дай-ко и мне чего-нибудь, – сказал, садясь на лавку и снимая малахай.
Ел он то же самое, что и Шкет. А женщина так же стояла возле печки. Поев, он сказал буднично спокойно, словно задолго до этого все обсудил с гостем и получил его согласие:
– Для начала вычистишь хлев – вилы в углу, трехрогие. Потом наколешь дров – топор даст Мария. Когда закончишь, скажешь – поедем за сеном.
Сказав это встал, нахлобучил малахай и шагнул через порог.
– А если сбегу? – вдогонку крикнул Шкет и ужаснулся сказанному: сейчас снова запрут в чулан!
Но хозяин даже не удостоил его ответом. За него ответила женщина:
– Иди и делай, что он велит.
– А если я не хочу?! – вскричал Шкет.
Так с ним еще не разговаривали.
– А может, я обратно в лагерь хочу? Я – чеснок! Мне работать не положено! По закону…
– Закон тут для всех один, – сказала женщина. – Зовут его Филимоном, Филимон Евстигнеевич, а кличут Январем. Он тут хозяин, и мы должны его закон исполнять.
– Я на ОЛП хочу! – закричал что есть силы Шкет. – Отправьте меня на ОЛП! Не имеете права, я – беглый. На хрена мне ваш хлев! Чистите его сами!
– Это уж как он решит, – тихо сказала женщина. – А только сам подумай, что лучше – жить здесь, покудова не найдут, и сытно есть или в кандее загибаться на голодном пайке. Еще неизвестно, доведут ли тебя до твоего лагеря. Может, забьют дорогой, как того беглого…
– Какого беглого? – спросил, едва шевеля губами Шкет.
Что, если эта баба видела, как потрошили Мохнача, как овчарки рвали его еще живую плоть?
– Какого беглого, когда? – спросил вторично и опять не получил ответа.
Вместо этого женщина повернулась к нему спиной и ушла за занавеску, что висела на веревочке возле печки. Судя по всему, она там и жила.
Обессилев от собственного крика, Шкет сел на лавку и задумался. Так ли уж нужно ему теперь держаться за придуманные кем-то воровские «законы»? Скольких товарищей погубили они своей железной нелепостью, сколько крови пролилось в зонах при разборках воров и сук. А сколько людей ушло из воровской жизни, наплевав на «законы»! Слышал Шкет – живут теперь как люди; работают, кто освободился, семьи завели, детишек… Почему такие, как он, должны всю жизнь кантоваться на нарах?
Еще в лагере такие мысли все чаще приходили к нему, и виной тому – дружба с политическими. Умеют они разбередить душу, вывернуть ее наизнанку, а потом слепить, но уже иначе, так что сам себя не узнаешь.
Он посидел еще немного, потом встал и побрел в хлев. Никогда прежде ему не случалось убирать за коровами. Однако не доводилось и пить молока, которое ему очень понравилось.
Он нашел вилы и стал прилаживаться к ним. Даже раза два ткнул остриями в навозную кучу, но через минуту бросил это занятие и задумался. В лагере, если какой-нибудь начальник пытался заставить его работать, он с легким сердцем шел в БУР и кантовался там до конца отпущенного срока. Затем выходил и забирался на свое место в бараке; грелся возле печки, если дело было зимой, или загорал на солнышке у барака, если стояло лето.
В картотеке нарядилы такие, как он, числились постоянными отказниками, и опытные начальники к ним не приставали. Здесь, на безымянном хуторе, его, похоже, никто принуждать не собирается, однако и куска хлеба не дадут просто так.
Он снова взялся за вилы, с трудом поддел тонкий пласт навоза и стал его выносить из хлева, но ручка вил повернулась в его руках, и пласт шлепнулся посередине прохода.
– Левой у железки крепче бери, а правой дави на бедро, – услыхал он за спиной.
В ярком свете дня казавшееся старым лицо женщины помолодело, к тому же она больше не куталась в черный платок, а откинула его на спину и разбросала волосы по плечам. Взгляд ее был смелым, а губы улыбались.
– Слабый ты. На мужика не похож. На подростка смахиваешь. А поди, уж за тридцать.
Он не сказал, что она ошиблась больше чем на десять лет. Стоял, смотрел в раскрытые ворота. Где-то там за таежной грядой его родной ОЛП, а в нем знакомые нары и теплая печь рядом, и кореша сидят поджав ноги и самозабвенно режутся в стос[36]36
Карточная игра.
[Закрыть].
Интересно, вспоминают ли о нем? Наверное, вспоминают – на стене, на побеленной печке, на голых нарах – всюду его стихи. Но, скорей всего, вспоминают не как о живом. А он, вот он – живой и здоровый, ковыряет навоз в хлеву у куркуля и ждет сытного не лагерного обеда.
Он опять попытался поднять пласт навоза, и тот снова упал. Так бы продолжалось, наверное, долго, если бы женщина не подошла и не отобрала вилы.
– Придурок лагерный! – только и сказала и принялась сноровисто кидать пласт за пластом в растворенные настежь ворота.
Коровье стойло очищалось на глазах. Чтобы не мешать, Шкет отошел в сторонку, присел на корточки. Она отбросила вилы, села на охапку свежего сена и жестом приказала ему сесть рядом. Достав кисет, умело свернула цигарку, закурила. Шкет сглотнул слюну – он не курил с того часа, когда рванул из лагеря. Главное, чего нельзя делать беглецу, – это курить, пока не оторвался от погони. Собаки не просто идут по следу – след можно и табачной пылью посыпать и вдоль речки пройтись – они еще нюхают воздух. У лагерников, в отличие от вольняшек, особый запах. Новый человек, и тот его слышит. Правда, с близкого расстояния. Собака же чует его за километр, а тут еще цигарку какой-нибудь придурок засмолит…
Но Шкет не курил еще и потому, что потерял кисет в тайге. Единственный карман, и тот дырявым оказался.
– Почему ты меня никак не зовешь? – вдруг спросила женщина. – Знаешь ведь, что Марией зовут. Чудно.
– Чего тут чудного? – выдохнул он, с жадностью глядя на кончик ее цигарки, огонек которой все приближался и приближался к перелому: еще минута – и просить покурить будет поздно.
– А то чудно, – она всем телом повернулась к нему, – что только здесь меня моим настоящим именем звать стали. А прежде я была Машка, как корова у Филимона. В тринадцать лет под мужиков начала ложиться. В детдоме росла, родителей не помню.
– Что? Вас в детдоме не кормили? – спросил ошарашенный ее неожиданным признанием Шкет.
Он всегда считал, что бабы становятся проститутками с голодухи.
– Кормили. Как не кормить? Только кроме кормежки у нас ничего больше не было. Одежда вся казенная, одинаковая. А нам хотелось и платье получше, и ленту какую в волоса…
– И ты слиняла, – догадался Шкет.
Она кивнула:
– Не одна, а с подружкой. Она все своим отчимом хвасталась. Говорила, будто добряк он, ласковый, примет, и накормит, и на работу устроит.
– Ну и как, принял?
Она странно на него взглянула и еще непонятней ответила:
– Еще как принял! Падчерицу, похоже, не тронул, а ко мне в первую же ночь влез – мы на сеновале спали. Я девчонкой была, детдомовкой. Много ли во мне силы… Короче, стала я его любовницей.
– А подружка? Она куда глядела?
– А ей что? Отчим из рейса продукты привозил, она сыта была, чего еще? Одел он нас… – она помолчала немного. – Да и привыкла я к нему, первый мужчина все-таки…
Дрожащими пальцами она свернула вторую цигарку. Не глядя, бросила кисет Шкету. Он с наслаждением закурил и растянулся на мягком сене. Ему нравилось, что она рассказывает откровенно, значит, доверяет, и что теперь он не один на этом хуторе бродяга и неудачник.
– Дальше!
– Что дальше? Посадили его за воровство. Ворованным он нас кормил. Пятерку дали с конфискацией. И остались мы с подружкой на улице – дом тоже конфисковали, а мы не прописанные… Пошли куда глаза глядят. Еще хорошо, что не привлекли за соучастие.
– Не привлекли бы. Вы несовершеннолетние. Обязаны были обратно в детдом отправить.
– Да, – она кивнула, – только не на таких напали. Рванули оттуда. На вокзалах ошивались. С одного прогонят, мы на другой. Стали в поездах кататься. Проводники до молоденьких охочие. У себя в купе прятали и друг другу передавали.
– Кормили?
– Нешто за так мы с ними… Как-то в Новосибирске вышла я на вокзале – проводник велел вина купить. Стою у ларька, а впереди мужик глаз с меня не сводит. Купила я бутылку, бегу обратно, а он уж у вагона. «Как вас звать, девушка?» – и все такое. Я – в вагон, а он не пускает. «Пойдемте со мной, не пожалеете, я командировочный с Дальнего Востока в Москву еду, а через неделю обратно – работа такая. А во Владивостоке у меня однокомнатная и не женат еще… Вы, – говорит, – мне так понравились, что я теперь ни на одну девушку и смотреть не могу. Короче, выходите за меня замуж».
– И ты согласилась?
– А что мне было терять? Забрала свои вещички, помахала проводнику ручкой и отбыла в Москву.
– Замуж-то вышла?
– Замуж не вышла, а года полтора жила с ним. Потом он меня сильно бить начал…
Разнежившись в сене, уже наполовину дремавший Шкет ожил:
– Ни хрена себе! Это за что же?
– А… приревновал к одному капитану. Глупый!
– Понятно, – Шкет солидно вздохнул. – Надо понимать, ты и от этого сбежала. Как в сказке: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел…» И куда же ты от него покатилась? Небось, на причал? Владивосток – место для вашей сестры подходящее, кругом морячки.
– Что ты понимаешь! – она вдруг рассердилась. – Мне не морячки были нужны, а муж нормальный! Оттого и к Филимону притулилась.
Стою как-то на станции в Сосновке, куда идти – не знаю. А тут он. За продуктами со своей заимки приехал. Разговорились. Чувствую, от одиночества мается. Ну, я прикинулась тихоней, да еще хорошей хозяйкой.
– Так ты ему не жена в натуре-то?
– Жена не жена – какая разница? Живет он со мной. Баба ему нужна. Настоящую то ли ухайдакал, то ли сама померла от работы его окаянной. Три коровы у него, четыре свиньи, овцы, птица разная…
– И! – зашелся криком Шкет. – Да кто ж ему такое позволил? Это ж вроде помещик получается!
Она помолчала, счищая клочком сена приставший к валенку навоз.
– Сыновей у него двое. В охране служат. Им можно чего другим нельзя. Да он и сам не прост, – она внимательно поглядела Шкету в глаза. Решала: говорить – не говорить… – Убивец он!
– Как?! – Шкет похолодел. – Людей что ли убивает?
– Раньше промышлял. Говорил, одних тунгусов да эвенков курочил, русских не трогал. Да кто его знает на самом деле? Не любят они его. И он их не жалует. «Зверьками» зовет. Сам-то из Питера родом. Думаешь, почему у него фамилия такая – Январь? Не фамилия это – кличка партийная. Революционер он бывший, бомбы для большевиков делал и бросал в кого велели. Да попался как-то. Судили. Расстрелять хотели, а потом заменили пожизненной высылкой в эти края. А ему здесь и понравилось – вольготно. Режь, убивай кого хошь… Жену-чалдонку сосватал, от нее обоих парней нажил, да померла она – я тебе говорила… – она поднялась, отряхнула юбку. Под ней Шкет увидел штаны, совсем как у зэчек в лагере.
– Чего ж после революции обратно в Питер не уехал? Небось, большим человеком сделали бы.
– Говорит, поругался со своими. «Не революционеры, – говорит, – это все не марксисты – шпана одна. Мелкота». Да кто их разберет. У них ведь тоже как в волчьей стае – у кого зубы крепче, тот и вожак, один властвует, остальных загрызает. Еще говорил: не могут большевики, чтобы рядом еще какая-то партия была – изничтожают. А он, Филимон, с этим не согласный.
Она уже поднялась по лесенке на мост, когда во дворе послышался скрип полозьев и раздался басовитый окрик Филимона:
– Тпру, шалая! Угомону на тебя нет!
Шкет схватил вилы и принялся усердно тыкать ими в то место, где недавно лежал навоз…
* * *
Обедали все вместе, за одним столом. Подавала Мария, но и она успевала поесть и щей, и каши, и молока выпить. Филимон, довольный работой Шкета в хлеву, благодушно поглаживал бороду и толковал о своей поездке. Как понял Шкет, километрах в трех от заимки на реке у хозяина стояли вентеря, а в тайге в разных местах – десятка два капканов. В капканы пока никто не попал – снегу мало, а река щедро одарила Филимона рыбой.
– К ужину пожарь пару-тройку хариусов, – приказал он, вставая. – А я пойду сосну часок, – и ушел, тяжело ступая.
– А хозяин-то кривоногий! – со злорадством про себя воскликнул Шкет и потянулся за занавеску, где Мария уже начала разделывать рыбу.
Наблюдая за ней, он думал, что неплохо было бы как-нибудь заменить хозяина, если не в душе, то в ее постели… Ему даже показалось, что Мария не будет против этого, поскольку в ее словах о бородаче не заметил Шкет ни сочувствия, ни любви, а лишь одно осуждение. К тому же Шкет был о себе довольно высокого мнения: молод и телом, и душой, чист перед бабами – ни одной не обидел. Да и рожей от природы наделен смазливой.
Думая так, он все подвигался и подвигался к Марии сзади, ерзая вдоль лавки, на которой сидел, как вдруг послышался какой-то шум. В избу вбежал Филимон в одной исподней рубахе и без сапог, поискав и найдя Шкета, схватил его за ошорок, проволок по полу и, открыв ногой какую-то крохотную дверцу, втолкнул его туда, шепнув свирепо:
– Пикнешь – убью!
В первую секунду Шкет решил, что его наказали за то, что слишком близко подлез к Марии. Но уже в следующую он понял все. Над его головой загрохотали солдатские сапоги, и зычный голос старшины Цепнюка произнес:
– Хорошенько ищите, олухи!
Хлопали двери, стучали по полу каблуки, трещали отдираемые в сарае доски. Громко материли друг друга Цепнюк и Филимон.
«А Январь-то не из робких!» – с уважением подумал Шкет. Он уже понял, что хозяин его так просто не выдаст. Если б захотел, давно бы сам отвел на ОЛП. А его задача сейчас – затаиться и не дышать.
Собак с надзирателями в избе не было, их яростный лай он слышал где-то за отворотом двора. Не любят Филимоновы звери этих тварей, не выносят. Сидят, небось, тоже запертые где-то и воздух нюхают…
Вскоре понял он, что не по его следу пришли вохровцы – след давно потерян, – а гонятся за другим. Или за другими – по обрывкам слов из ругани Цепнюка было ясно, что бежал не один и что Цепнюк со вчерашнего дня навел «шорох» уже на двух заимках и в двух деревнях – и пока никакого толку.
– Стало быть, у меня надеялся найти их? – уже более миролюбиво спросил Филимон.
Что ответил ему Цепнюк, Шкет не разобрал, но ясно слышал, как зазвенели в горке веселым звоном стаканы.
Часа через два старшина с помощником уехали – Шкет слышал ржанье лошадей и крики вперемешку с собачьим лаем. Проводив гостей, Филимон сначала выпустил на свободу запертых в сарае волков, потом приказал Шкету убираться в свой чулан.
Следующие сутки прошли для Шкета в спокойствии. Делал что приказывали, ел что подавали, а что не подавали – добывал сам из кладовых погреба и чуланов. На них или вовсе не имелось замков, или были такие, которые только ленивый не откроет. За эти сутки Шкет пробовал и окорока, и колбасы, и красную рыбу, и икоркой баловался до того, что стало его рвать оттого, что желудок его, привычный к лагерной скудной пище, не мог переварить такую прорву копченого мяса и рыбы. На куриные яйца он теперь уже не смотрел, хотя они, как нарочно, попадались и на сеновале, и в чулане, и в хлеву в коровьих кормушках. Дурные были куры у Января – это Шкет понял еще в первый день пребывания здесь.
На следующие сутки ему слегка пришлось поволноваться. С девятого ОЛПа приехал навестить отца старший сын Петр, а с пятого – младший Иван. Как сговорились. Фамилию оба носили не отцовскую, а по матери – Устюжанины. Не хотел Филимон, чтобы хоть этакая малость напоминала о жизни его прошлой, разудалой.
Прятаться от них Шкет не стал. Во-первых, команды такой не было. Во-вторых, на отцовской заимке от сыновей не спрячешься.
Первым его увидел Петр. Опытным глазом определил: хоть и беглый, но безвредный – и пошел в дом. Иван немного задержался, стал расспрашивать. По молодости и неопытности не мог сам определить. Думал сначала – освобожденный фраер из политических, пока Шкет его не просветил.
За обедом Петр не удержался – выговорил отцу:
– Не дело, папаня, закон нарушаешь и себе на задницу приключения ищешь. Один раз я тебя выручил, второй – не получится. Беглый – не освобожденный, его ищут.
– У меня не найдут, – ухмыльнулся Филимон.
– Ты всех с Цепнюком не ровняй, – сказал Петр. – У него нюх притупился, слишком много пьет. Здесь тоже, небось, угощался.
Некоторое время в комнате было тихо, только ложки стучали о края чашек. Потом Иван сказал:
– Донести могут.
За отца ответил Петр:
– Донести некому, на заимке никто не бывает. Не любят чалдоны папаню.
– Это ты зря! – обиделся Филимон. – Не заходят – это правда, – а почему? Потому что знают – пустой болтовни не люблю.
Опять дружно стучали ложками – у Марии для таких гостей одного первого нашлось две перемены. Сидя за перегородкой, Шкет доедал остатки из чашек, которые приносила со стола Мария.
Утром, садясь на лошадь, Петр сказал:
– Понимаю, папаня, что не из жалости ты его пригрел, но не положено. Эксплуатация, называется, чужого труда. Когда-никогда этот пацан проговорится…
– Ему еще надо дожить до этого самого когда-никогда, – хмуро произнес Филимон.
Смешливый Иван крикнул, глядя на застывшего в воротах хлева беглеца:
– А вы его самого спросите: доволен он жизнью такой или нет! Эй, доходяга, хочешь в лагерь? Цепляйся за стремя!
Будь это в первый день пребывания здесь, Шкет, может быть, так бы и поступил: ухватился за стремя и… Однако, прожив здесь неделю, уже привык к сытным харчам, да и от Марии уходить не хотелось, и он отрицательно мотнул головой.
– Надумаешь, дай знать, – крикнул Иван. – Папаня наш умеет жилы тянуть из работничка.
Филимон своей нагайкой, с которой почти не расставался, вытянул по крупу лошадь Ивана. Она от испуга поднялась на дыбы, фыркнула и рванула с места карьером.
– Прикуси язык, сорока! – напутствовал Ивана отец. – Может, я из этого овна человека хочу сделать.
– Если он тебя раньше не зарежет, – закончил Петр и поскакал вслед за братом.
* * *
Шла вторая неделя вольной жизни молодого чеснока Шкета, когда разразилась над ним гроза. Над ним и над теми, кто дал ему кров и пищу. Однажды рано утром полез он на сеновал, чтобы сбросить коровам сена в кормушки. Минут за десять до этого Мария напоила их слегка подсоленной теплой водой. Поднимаясь по лесенке, он заметил, что ворота в хлев приоткрыты, а поперечина, которой их запирают, валяется на земле. «Должно быть навоз решила побросать, – подумал он о Марии. – И то правильно: не все мне…» – и почувствовал на своем горле холодную сталь.
– Пикнешь – замочу, – пообещал кто-то свистящим шепотом.
Опытный в таких делах Шкет согласно кивнул, и человек отпустил его. В тусклом свете фонаря, висевшего в хлеву, Шкет увидел немолодое лицо, рассеченное от лба до подбородка глубоким шрамом. «Урка с девятки! Патрет!» – ужаснулся он. Об этом мокрушнике он только слышал – видать не приходилось. О его мокрых делах на воле среди блатных ходили легенды. О неустрашимости и жестокости рассказывали сказки. Дважды его хоронили, а он – вот он, живой и невредимый. Уж не его ли искал Цепнюк с людьми? Если так, то этот бандит уже с неделю гуляет по тайге…








