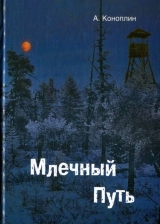
Текст книги "Млечный путь (сборник)"
Автор книги: Александр Коноплин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Когда-то он сказал мне, что мы не должны разлучаться, что бы с нами ни случилось…
И тогда я пошел его искать. Фронт, где он, конечно, находился, представлялся мне чем-то вроде виденных не раз маневров. Стоит только подойти к первому встречному командиру и спросить: «Скажите, где тут находится 56-й кавалерийский полк?» Или еще проще: «Скажите, где сейчас майор Карцев? Его тут все знают…»
Из Минска в тыл уходили эшелоны беженцев. Я посматривал на ребят, высовывавшихся из окон, с сожалением и чувством превосходства. Лично мне нужны были другие эшелоны…
Утром двадцать третьего мне удалось сесть в эшелон, шедший на Запад. В дороге на нас налетели самолеты. Одна бомба попала в паровоз, другая – в железнодорожный мост впереди. Остановившийся поезд начали обстреливать из орудий. Я выскочил из-под скамейки и вместе с бойцами принялся стаскивать с платформ орудия и пулеметы. Здесь-то меня и поймал командир с такими же, как у моего отца, «шпалами» в петлицах.
– А ты что здесь делаешь? – начал он, сделав свирепое лицо, но закончить не успел.
Невдалеке разорвался снаряд, и мы оба упали лицом в песок. Потом он потащил меня куда-то в лес, где на подводы грузили раненых, и сдал меня одному из них. Одна рука у него была забинтована почти до плеча, зато другой крепко ухватился за мою рубашку. Так я познакомился с Иваном Стецко, человеком, не терявшимся ни при каких обстоятельствах. Идя рядом с телегой, в которой стонали раненые, он не переставал балагурить, называя войну «маневрами в мировом масштабе», а немцев – нашим «учебным материалом». Когда ему нужно было закурить, он командовал мне:
– А ну, хлопец, сверни мени цыгарку. Та не таку. Це ж мирного времени. Тэпэр – усе удвое. Ось, такую сверни! – и показывал забинтованный палец.
Ему было приказано сдать меня в милицию на ближайшей станции. Однако на станции никакой милиции не оказалось. На путях стоял пассажирский поезд, и огромная толпа военных и штатских осаждала его со всех сторон. Кричали женщины, плакали дети, остервенело ругались мужчины, интендант в новенькой отглаженной гимнастерке стрелял в воздух из револьвера.
Поглядев на тех, что лезли в окна вагонов, Стецко сказал:
– Сдаецца мени, хлопцы, що эти мужички дуже хотят воевать. А ну, подмогнэм патриотычному порыву!
Раненые, кто мог бежать, помчались за ним к паровозу. Пожилой машинист, стоя на верху своей лесенки, отбивался ногами от цеплявшихся за поручни людей. Его помощник сгонял их с другой стороны. Стецко взобрался сначала на тендер, оттолкнул помощника и что-то сказал машинисту. Тот кивнул и исчез в будке. Стецко занял его место на лесенке. При этом он говорил следующее: «Що вы, хлопцы, сказылись, чи шо? Поезд до хронту идее, а воны чепляются! А ну, геть видселя!»
В самом деле, поезд сначала медленно, потом все быстрей двигался в обратную сторону – к фронту. Там, за последними строениями уже рвались снаряды.
На секунду весь перрон замер. Кажется, замолчали даже младенцы. А потом поднялся переполох. Из окон вагонов, с крыш и тамбуров начали прыгать мужчины. Женщины, обремененные детишками и вещами, только истошно вопили, но прыгать не решались. Все кричали:
– Пошел! К немцам пошел! Спасайтесь!
Интендант висел на подножке и стрелял, стараясь попасть в машиниста…
Я стоял на платформе и, разинув рот, смотрел на все происходящее, когда чьи-то сильные руки подхватили меня под мышки и втащили в тамбур. Крепко взяв меня за плечи, Стецко прокричал на прощание:
– Бачишь, цуценя, що творится? Тэпэр будэшь ихаты аж до самой Сибири, а колы узнаю що втик, всим хлопцам який у комполка Карцева дурний хлопэц!
Он спрыгнул. Поезд, отойдя с километр, замедлил ход, остановился и вдруг пошел обратно к станции и при этом все ускорял и ускорял ход. Я видел, как заметались на перроне люди, как кинулись навстречу поезду. Но между ними и поездом встала редкая, но прочная цепочка красноармейцев. Проезжая мимо станции я видел, как Иван Стецко выстраивает мужчин в одну ровную шеренгу. На левом фланге стоял коренастый интендант, но уже без револьвера…
До Москвы меня сопровождали раненые. Но потом я все-таки «втик». Желание попасть на фронт стало еще сильнее. Моя фантазия рисовала картины боя, который Стецко ведет со своими новобранцами. Я дал себе слово, что больше никому уже не удастся уговорить меня ехать в тыл. В те годы мне еще казалось, что в жизни многое зависит от моего желания.
В детский дом я попал через два дня. Сопровождавший меня милиционер погрозил на прощание пальцем и сказал:
– Сиди, парень, и не рыпайся! У нас и без вас дел хватает. Так что… не рыпайся.
Он ушел, уверенный, что убедил меня, а я тут же начал готовиться к побегу. Моими товарищами стали татарин Гусман Кадыров и мой земляк из Белоруссии Антон Пищик по прозвищу Заяц. Отец Кадырова погиб на границе в первые часы войны, и Гусман должен был за него отомстить, а Пищик шел воевать за родную Белорусь.
Кормили в детдоме плохо. Еще хуже шли наши заготовки провизии. Если сначала мы откладывали каждый день по две пайки, то через месяц стали откладывать по одной, так как начали чувствовать сильную слабость.
Побег был назначен на конец сентября, но не состоялся. Кто-то украл наш мешок с сухарями.
Весь октябрь мы снова сушили сухари, выменивая хлеб даже на порции супа.
Первым не выдержал Заяц. Нет, он не струсил и не удрал. Он просто попал в больницу с дистрофией.
…Почему-то мне хотелось, чтобы нас было непременно трое. Вместо Антона мы взяли первого, кто согласился бежать с нами – Валерия Горского по прозвищу Жук.
В отличие от нас, у Валерия не было никакой цели. Он был старше нас лет на шесть-семь и еще до войны успел побывать не только в детских домах, но и в детской колонии. Отовсюду он бежал. В Уфимском детском доме оказался по собственному желанию – «не хотел связываться с милицией в военное время».
Зима сорок первого года началась рано. Задолго до октябрьских праздников в Уфе выпал снег. Зимнюю одежду нам выдать не успели. Накануне праздника мы бежали из детдома, захватив только то, что принадлежало лично нам. В тот же день я обнаружил, что Валерий просто обокрал наш детский дом. В его туго набитом мешке оказались новые одеяла, ботинки, даже будильник, который обычно стоял на столике дежурного.
Сначала мы с Гусманом хотели его прогнать, но прогнать его было некуда, поезд шел, а мы сидели на платформе. Потом мы договорились оставить его одного и сойти на первой станции. Но ведь никто не знал, сколько времени нам придется ждать следующего… И мы продолжали сидеть рядом с вором и даже делиться с ним своими сухарями. Дело в том, что ледяной ветер пронизывал нас до костей, а у Жука были одеяла… В конце концов мы помирились.
Сухари исчезали с катастрофической быстротой. Через два дня от наших запасов не осталось ни крошки. В Куйбышеве от нас сбежал Валерка. Одеяла он прихватил с собой.
Между тем мороз день ото дня становился все безжалостней. Гусман кое-как дотащился со мной до Сызрани. Ботинки его к тому времени совсем развалились. Я отдал ему свои, но и это не спасло его от простуды. В Сызрани мы трое суток безуспешно пытались сесть в какой-нибудь эшелон, идущий на фронт. Нас сбрасывали с подножек, прогоняли с крыш вагонов.
Гусман слабел на глазах. Скулы его обострились, глаза ввалились, руки и ноги покрылись чириями. Каждый раз мне все труднее становилось поднимать его с вокзальной скамьи, где мы обычно ночевали. Я понимал, что у него давно уже пропала охота ехать дальше, и не бросает он меня только потому, что вообще не понимает, как можно бросить товарища. Молча, сцепив зубы, плелся он за мной через железнодорожные пути, перелезал через составы, нехотя убегал от станционной милиции. Потом он вовсе перестал прятаться, а сидел или лежал на полу в зале ожидания среди галдящей орды беженцев, чемоданов, мешков и корзин. Лежа рядом с ним, я слышал, как он дрожит и плачет во сне. Однажды он не смог подняться к очередному поезду. Какая-то сердобольная старушка указала на него санитарам. Я успел смыться и издали наблюдал, как Гусмана положили на носилки и унесли. Впрочем, у меня хватило ума через ту же старушку сообщить санитарам его имя, фамилию и номер нашего детского дома в Уфе.
Я долго плакал, спрятавшись за печку в углу вокзала. Плакал и ночью, лежа под скамейкой в вагоне долгожданного «фронтового» поезда. Однако вместо фронта он повез меня совсем в другую сторону. Таких, как я, в вагоне оказалось человек десять. В отличие от меня, они знали куда едут. Поезд шел на север.
В Йошкар-Оле я вышел. Маленькое неимоверно грязное здание вокзала битком набито людьми. В ожидании поезда сидели подолгу. Многие успели обжиться. В конце концов здесь тепло, светло, квартирных никто не спрашивал, а кипяток выдавался бесплатно.
Если в Сызрани нам иногда удавалось поесть, то здесь никто ничего не давал. Конечно, проще всего было обратиться к администрации вокзала. В дежурной комнате милиции меня бы непременно накормили, а может, даже и одели…
Я знал, где находится эта комната и видел через окно ребят, жадно поедающих что-то из алюминиевых мисок, но знал и то, что после такого угощения всех отправят под охраной к месту жительства, а у меня были совсем иные планы. Мне казалось, что еще одно небольшое усилие – и я буду на фронте.
Я не стал обращаться в милицию, не стал просить. Я просто украл. Впервые жизни. Моим первым «клиентом» оказался пожилой и очень толстый мариец, сидевший на шести огромных мешках. Три женщины, должно быть, родственницы, слушались каждого его слова, движения руки, даже взгляда. Особенно мне понравилась одна – молодая, почти девочка, черноглазая и смуглая с длинными черными косами и тонкими изогнутыми бровями. Если старик поглядывал на меня подозрительно, то она смотрела весело и дружелюбно. Наверное, если бы я попросил у нее поесть, она бы не отказала, но именно у нее я и не хотел просить…
Между тем, от голода у меня начала кружиться голова. Выбрав момент, когда старик слез на минуту со своих мешков, а все три женщины были чем-то заняты, я подобрался к мешкам и вспорол один из них. В ладони посыпалась маленькая вяленая рыбешка, наподобие плотвичек. В ту же секунду раздался испуганный крик черноволосой. Вместо того, чтобы бежать, я недоуменно оглянулся на нее. Я не знал, что делать дальше с такой добычей.
– Беги! – сказала мне девушка. – Беги, глупый!
Но было поздно. В следующую секунду кто-то ударил меня сверху по голове. Я попытался вскочить, но еще более сильный удар сбил меня с ног. Потом меня долго и старательно били. Попеременно я видел то разъяренное лицо старика, то двух женщин, то еще каких-то мужчин и парней. А черноволосая плакала и кричала:
– Не трогайте! Не трогайте его! Он не виноват! Это я ему разрешила!
Когда появилась милиция, я даже обрадовался. Вот сейчас извинюсь за распоротый мешок и дам слово не трогать чужого, и тогда все встанет на свои места: старик успокоится, а я постараюсь завтра же уехать отсюда…
Я не знал еще, что это и был тот самый перекресток, от которого моя жизнь повернет совсем в другую сторону.
Нет, мне не встретилось человека, который бы все понял. В милиции люди были очень деловые и опытные: таких, как я, им встречались сотни. Они быстренько оформили протокол, бегло допросили свидетелей – старика и двух женщин – и сказали, что передают «дело Станислава Карцева в районный суд города Йошкар-Олы». После этого меня вывели из дежурной комнаты и присоединили к большой группе людей разного возраста, стоявших невдалеке под конвоем милиционеров. Выходя на улицу, я снова увидел девушку-марийку.
– Ничего не бойся, – сказала она. – Я приду на суд. Ничего не бойся!
Я не боялся, но на суд она не пришла. Зато были старик и две женщины. Наверное, девушку оставили стеречь мешки… Старик сказал, что кроме рыбы я украл у него килограммовый кусок сала и сто рублей денег. Обе женщины подтвердили это. Суд закончился быстро. Конечно, тогда была война, и нянчиться со мной было некогда. Кроме того и лейтенант милиции Бобров, который составлял протокол, и женщина-судья, очень толстая и, наверное, очень добрая, удивительно похожая на молочницу тетю Катю, которая в Минске каждое утро приносила нам с отцом молоко, – искренне хотели мне добра и верили в то, что в детской колонии я «стану человеком».
Я действительно стал «человеком», но в несколько ином значении этого слова. Дело в том, что «человек» на языке преступного мира означает «вор».
Единственный, кто не поверил в мое будущее перевоспитание, это милиционер, доставивший меня в колонию. Всю дорогу он вздыхал, кряхтел, недовольно качал головой и откровенно ругал «молокососа-следователя» и «дуру бабу-судью».
Мне стало жаль его, такого старого, доброго и, по-видимому, больного. Я постарался его утешить:
– Зато профессию приобрету. Токарем или слесарем стану. Освобожусь – на завод пойду, буду деньги зарабатывать.
Он посмотрел на меня с сожалением:
– Профессию ты, конечно, приобретешь. Да только не токаря. И не слесаря. Это уж точно. Эх, сгубили мальчонку!
Нешто не разглядели, с кем имеют дело? А еще образованные! Юристы! Конечно, ежели разбираться, по закону – воровство налицо. Да ведь вор – вору рознь. Одного повесить мало, а другому только скажи… Ну вот ты, скажи мне, будешь ты еще воровать али нет?
– Честное слово, дяденька… – у меня перехватило дыхание. – Никогда в жизни!
Я не лгал. Я действительно не хотел больше воровать. Но он был всего лишь добрым человеком. И ничего не мог изменить в моей судьбе. Впрочем, добрые всегда слабы. В этом я убеждался много раз. Судьба иногда посылала мне на помощь добрых. В лучшем случае, они могли посочувствовать, в худшем – страдали по моей вине.
Я не хотел быть таким, потому что хотел быть сильным. Я стал бояться любой слабости.
Страх – тоже слабость. Чтобы побороть страх перед болью, я выжег на своей руке каленым железом букву «С», начальную букву моего имени…
Железнодорожная милиция сняла меня с поезда в Ярославле. Поскольку ложь была для меня противна, ярославские милиционеры за десять минут узнали всю мою историю. Не знаю почему, но меня не стали отправлять обратно в Йошкар-Олу, а поместили в местную колонию под городом. Она находилась в старинном заброшенном монастыре у впадения в Волгу маленькой речки Толги.
Жизнь в этой колонии оказалась довольно сносной. Тяжелой работой нас не утруждали и к тому же учили грамоте. В колонии были мастерские по производству несложных бытовых деталей. Я начал понемногу присматриваться к работе слесарей и даже раз или два поработал самостоятельно.
Но тут моя жизнь снова сделала крутой поворот. Однажды с новым этапом в колонию прибыл Жук. За то время, что мы не виделись, он как будто окреп и даже подрос. На верхней губе виднелся уже не пух, а настоящие, хотя и маленькие, усики. Успевший отрасти за время дороги рыжий ежик волос на голове стоял торчком. На темном от грязи лице пламенели веснушки и светлыми полосками выделялись брови. Голубые, как у ребенка, глаза с крошечной черной точкой-зрачком – посредине смотрели настороженно…
Но я забыл о его предательстве.
Мы поздоровались. Он тут же познакомил меня со своими товарищами по этапу и сказал, что теперь в колонии будет новый порядок.
Действительно, с первого дня в нашем монастыре начали твориться странные вещи: у ребят стали пропадать обувь, одежда, содержимое посылок и даже хлебные пайки. По ночам во многих спальнях шла карточная игра. Ни с того ни с сего кому-нибудь устраивали «темную». Однажды до полусмерти избили моего товарища Славика Тарасова, старосту одной из спален.
Случилось это ночью. Когда я пришел в спальню, Славика там уже не было – его унесли в санчасть. На кроватях сидели перепуганные мальчишки. Никто ничего толком рассказать не мог. Все проснулись одновременно, когда начался крик, и увидели, как четверо парней избивают Тарасова.
– Почему же вы не вступились? – спросил я. – Ведь вас здесь почти сорок человек!
Все опустили головы, только один парнишка сказал:
– Может, это по закону?
Я опешил:
– Как это по закону? По какому закону?
– Известно по какому… По воровскому.
К тому времени я уже был достаточно наслышан об пресловутых «законах» преступного мира, но, несмотря на это, ответил как можно тверже:
– Таких законов нет! В Советской стране есть только один закон! И только ему мы должны подчиняться!
Парни посмотрели на меня с испугом. Их связи со шпаной исчислялись большим «стажем». То, что они находились сейчас в колонии, а не в тюрьме, объяснялось только их несовершеннолетием. Советские законы, которые они нарушали, относились к ним все-таки гуманно. Лично мне вся эта компания напоминала кучу крыс. Тощие, жилистые, до невозможности грязные, они имели привычку скопом набрасываться на слабого, терзать беззащитного. Встретив сопротивление, разбегались кто куда. Чувство товарищества у них было развито весьма слабо, о благородстве и снисходительности не имели понятия. Я смотрел на них с омерзением. Люди, бросившие товарища в беде, теряют право рассчитывать на мою помощь. Если завтра изобьют одного из них, я и пальцем не пошевельну. Но за Славика рассчитаюсь, чего бы это ни стоило!
Хлопнув дверью, я пошел к себе в шестую секцию, но в темном коридоре кто-то робко тронул меня за руку;
– Славика били четверо из нового этапа. С ними Рыжий. Он ими командовал.
Я нащупал под телогрейкой его худенькие плечи;
– За что били?
– Они проигрывают в карты наши пайки. И вообще все. Славик сначала предупреждал, а потом сказал, что завтра пойдет и заявит воспитателю…
Конечно, это было его ошибкой. Любое заявление здесь считается доносом. Славе нужно было сколотить группу, собрать вокруг себя ребят понадежнее. Ведь есть же и среди тех, кого я сейчас видел, смелые ребята.
Проходя мимо первой секции, где жили Валерка и его приятели, я остановился. Мальчишка сказал, что среди тех, кто избивал Тарасова, был Рыжий… Так в колонии окрестили Жука. Зайти, потолковать сейчас? Или сначала поговорить с ребятами?
Не в моих привычках было медлить о задуманном. Я толкнул ногой дверь и вошел.
Спальня первой секции представляла собой странное зрелище. Вдоль спальни в два ряда стояли лишенные матрацев и одеял кровати. На них сидели, лежали и играли в карты три десятка полуголых и совершенно голых ребят. Кое-кто спал, свернувшись калачиком, подложив под голову кулак…
В дальнем углу комнаты на одной из кроватей высилась гора матрацев, одеял и подушек. На самом верху, почти под потолком, мирно спал Валерка-Жук.
Обычно такая обстановка бывает, когда санинструктору придет на ум морить клопов. Но почему все раздеты?
Мимо меня, стуча зубами от холода, прошмыгнул мальчишка. Он возвращался из уборной. Я схватил его за руку.
– Почему вы все раздетые?
Он глянул на меня как на юродивого.
– Так проигрались же! – и юркнул в угол поближе к печке.
Так вот оно что! Обычно в детских колониях этого не бывает, но ведь ребята, находившиеся здесь, совсем недавно были связаны с тем миром, где эти «законы» имеют силу.
Мне было плевать на воровские законы.
Я нажал плечом на пирамиду из матрацев и опрокинул ее. Валерка хрястнулся о голые доски чьей-то кровати, проломил их и оказался на полу. Кто спал – те проснулись, кто играл– бросили карты и с любопытством уставились на меня.
– Эй вы! Забирайте свои постели! – крикнул я.
Никто не двинулся с места.
– Ну, что же вы?!
Как я был зол на них в эту минуту!
– Идиоты! В следующий раз он выиграет у вас вашу душу!
И снова никто из пацанов не шевельнулся.
Любой преступник, совершая преступление, пытается его как-то оправдать, прежде всего, в своих собственных глазах. Отсюда – пресловутые «законы» воровского мира, которые на безграмотных, забитых подростков действуют магически. Чем глупее, неразвитее личность, тем охотнее она подчиняется этим диким «законам».
Между тем появились откуда-то Валеркины приятели и начали обходить меня с боков и сзади. Сам Валерка, выбравшись, наконец, из-под груды барахла, лихорадочно шарил по полу – искал нож. Все терпеливо ждали. Но вот нож найден. Пряча его за спину, Валерка приближается ко мне. Его приятели придерживают меня за локти…
И тогда я вспомнил Ульяновск. И я сказал ему;
– За Ульяновск ты мне должен больше.
Он смутился. Возможно, он решил, что Гусман по его вине умер…
– Мы с тобой не играли, – сказал он, пряча глаза.
– В карты – да. Не играли, – сказал я, чувствуя, как слабеет хватка на моих локтях. – Но мы вместе шли в побег. Ты ел наши сухари, спал вместе с нами, а потом бросил нас без еды, без одежды. А ведь мы тебе верили!
– Я вас пасти не нанимался! – крикнул он.
В то же время руки, державшие меня, разжались. Это был хороший признак. Оставалось только закрепить мою крохотную победу. Как это сделать? Нужно обязательно сделать что-то благородное. Атос и д'Артаньян бросили бы перчатку. Нет, сначала они бы дали пощечину! Да, драка потом. Сначала пощечина.
Я сделал шаг вперед и, сказав: «Ты – подлец и предатель!», влепил Валерке оплеуху.
Все, что произошло в следующую минуту, я воспринимал словно во сне. Кто-то из голых кинулся на Валерку, но получив удар в лицо, отлетел. Потом к нему бросилось уже человек двадцать. Валерка легко разбросал их, но при этом случайно задел кого-то из своих приятелей. И получил первый серьезный удар в челюсть, направленный умелой и сильной рукой. Второй удар, еще более сильный, но уже с другой стороны, свалил его с ног. И тогда снова, как стая чижей на ястреба, на него накинулись пацаны. Валерка больше не сопротивлялся и лишь старательно прикрывал лицо от царапков. Он знал, что пацаны сильно не ударят. Ведь он сам обирал и объедал их до самого последнего дня. Скоро голые оставили его и занялись дележом своего имущества. Когда в спальню вошел вызванный кем-то надзиратель, все мирно лежали на своих матрацах.
С той ночи мой авторитет в колонии значительно вырос. Для товарищей я стал чем-то вроде судьи в спорах о том, кто прав и кто виноват. А для начальства и воспитателей – помощник, человек, на которого можно положиться. Я, не шутя, гордился своей новой должностью «звеньевого» и даже повязкой на рукаве. И еще тем, что меня приглашают присутствовать на некоторых совещаниях в кабинете начальника колонии… Срок моего пребывания подходил к концу. О чем я мечтал тогда? Конечно, о дальнейшей учебе. Наяву и во сне мне мерещились длинные коридоры солидного учебного заведения.
Аудитории, заполненные более счастливыми моими сверстниками. Как я им завидовал! С каким нетерпением ждал минуты, когда получу, наконец, разрешение отправляться восвояси!
Возможно, все так бы и получилось. Возможно, я не только окончил бы какое-нибудь учебное заведение, но и стал выдающимся в своей области специалистом. А может быть, просто, окончив соответствующие курсы, вернулся бы в Толжскую колонию воспитателем…
Все это могло случиться, если бы в ночь на шестое мая – за пятнадцать дней до моего освобождения – в колонии не ограбили продуктовый склад.
Об этом мы узнали только седьмого утром, да и то потому, что на Толгу прибыла из города милиция. На чердаке одного из общежитий обнаружили мешок с мукой. В подвале нашли полмешка сухарей, в котельной, заваленный углем, лежал ящик с комбижиром. Ни сахара, ни мяса, ни масла обнаружить не удалось.
Само по себе ограбление не вызвало большой сенсации. Сразу после отъезда милиции интерес к нему стал затухать. Через два дня о нем говорили разве что в столовой, трогая ложкой немасленую кашу…
Однажды после ужина в спальню пришел Слава Тарасов и протянул мне сверток.
– Это тебе просили передать из первой секции. Там у них кто-то посылку получил, сидят теперь всей спальней гужуются.
– Кто передал? – спросил я, развертывая бумагу.
Слава пожал плечами.
– Кто-то из пацанов, а кто – я и не разобрал, темно было, да и в первую секцию я зашел случайно.
Развернув наконец бумагу, я несказанно удивился, увидев колбасу, вареное мясо, сахар. Слава был удивлен еще больше моего. С минуту мы молчали. Потом он сказал:
– Что-то мне не нравится этот подарок. Не из тех ли он «посылок», которые еще не нашла милиция?
– Слава, – сказал я, – сейчас же отнеси этот сверток обратно! Если не найдешь того пацана, спроси, кто получил посылку и чем мы обязаны ему таким подарком?
Слава все понял, сорвался с места, но… было уже поздно: в спальню гурьбой входили воспитатели, надзиратели и два милиционера. Не знаю почему, но я машинально сунул сверток под матрац…
Дальше события надвигались медленно, но неотвратимо, как грозовая туча. Всем приказали построиться в коридоре. В спальне остались надзиратели и милиция. Полчаса показались вечностью. Наконец, обыск кончился. Все вышли из спальни.
Последним шел надзиратель по прозвищу Тыква. В вытянутых руках он нес жестяной тазик, а в нем все то, что не значится в списке разрешенного – несколько колод самодельных игральных карт, перочинные ножики, веревочки для игры в «трынку», опасные бритвы, лезвия безопасных и множество всякой другой мелочи. Под мышкой у него торчал мой злополучный сверток.
С тех пор прошло немало лет, но я не могу забыть лицо моего следователя, занимавшегося «делом об ограблении продуктового склада в п/я № 25544». Лейтенант Купкин оказался очень веселым человеком. Вызвав меня на очередной допрос, он обычно радостно улыбался и говорил, потирая руки:
– Ну, Станислав, начнем работать! Итак, скажи мне, когда у тебя впервые созрел план ограбления склада?
И напрасно я в сотый раз рассказывал ему правду. Посмеиваясь, он выслушивал, потом подходил, обнимал за плечи и говорил:
– Темнишь, Стасик! Ни к чему это. Ведь ты же самостоятельный парень!
В тот вечер украденные продукты нашли не у одного меня. Всего «по делу об ограблении» проходило девять человек. Лично мне лейтенант Купкин отвел довольно второстепенную роль – наводчика… Главный свидетель обвинения Горский доказал, что слышал, как вечером накануне ограбления, я говорил его товарищу по койке, с какого часа у склада будет дежурить старик Оводов – всем известный пьяница и глупец… В свою очередь его товарищ, которому все равно было нечего терять, так как его вина в организации налета была доказана, подтвердил, что я действительно являлся членом его шайки и выполнял несложные поручения.
Что касается меня, то я сказал, будто нашел пакет у себя под матрацем и не имею понятия, откуда он взялся. Этому, понятно, никто не верил. Кроме того надзиратель Тыква заявил, будто он видел, как я во время осмотра прятал какой-то сверток под матрац, на котором сидел.
Лейтенант Купкин оказался совсем неглупым человеком. Он ошибся только во мне. Все остальные были действительно замешаны в ограблении. Кроме того он сумел доказать виновность Горского, и вскоре Валерка из свидетеля превратился в обвиняемого.
Суд проходил в каком-то железнодорожном клубе. Судья, на этот раз мужчина, был одет в зеленую гимнастерку, солдатские галифе и сапоги. На двух заседательницах были совершенно одинаковые ситцевые платья с цветами и красные косынки. Судья все делал левой рукой. Рукав правой был засунут за поясной ремень. Как мне показалось, пальцы здоровой руки двигались за двоих: если не нужно было перелистывать бумаги, они отбивали такт на столе, на спинке стула, на коленке, играли карандашом, разминали очередную папиросу…
Когда говорил адвокат, сухонькая старушка в черном, – пальцы плавно и ритмично отбивали такт. Когда начинал выступать прокурор, – пальцы судьи начинали метаться. Они сломали карандаш, нечаянно опрокинули чернильницу, смяли и испортили множество папирос.
Когда стали зачитывать приговор и все встали, я увидел, наконец, руки двух заседательниц: красные, огрубевшие от работы; они замерли, вытянувшись по швам ситцевых с яркими цветочками платьев…
Потом произошло что-то, наверное, очень смешное. Я попросил повторить то место, которое касалось лично меня. Мне показалось, что я ослышался… И все засмеялись. Сначала начали смеяться в зале, потом загоготали мои товарищи на скамье подсудимых, потом криво усмехнулся прокурор… Увидев это, прыснули в кулаки заседательницы.
Не смеялись двое – женщина-адвокат и безрукий судья. Они оба внимательно смотрели на меня. И тогда я сказал еще раз:
– Повторите, пожалуйста, то место приговора, где говорится обо мне. Мне кажется, вы ошиблись…
Однако во второй раз судья прочитал то же самое, что и в первый. Меня приговаривали к трем годам лишения свободы.
Случилось так, что, выходя в одну и ту же дверь одновременно, осужденные и судьи на секунду оказались совсем рядом. Прежде чем что-то сообразить, я почувствовал на своем плече нервные пальцы судьи, и совсем рядом увидел его глаза.
– Что же это ты, брат? – спросил он, тиская мою шею большим и указательным пальцами. – Нельзя ведь так-то! Закон! Его уважать надо!
Он немного помолчал и добавил;
– Отец вот у тебя… Воюет! Что ты ему скажешь, когда встретишь?
Слезы брызнули из моих глаз. Я бросился в сторону от судьи, налетел на конвоира, отскочил от него и спрятался в толпе своих товарищей.
Через минуту нас посадили в машину и увезли.
Ошибка этого суда, которую я воспринял как преднамеренно допущенную несправедливость, сыграла решающую роль в моей дальнейшей судьбе.
После были другие суды. Много судов. Почти все они выносили справедливые приговоры, а иногда даже гораздо более мягкие, чем я того заслуживал. Ведь с каждым годом я становился все более опасным преступником. Но ошибку этого первого в моей жизни серьезного суда я не смог ни забыть, ни простить.
Конечно, я бежал из-под стражи при первой возможности. Ведь к нам, несовершеннолетним, закон был по-прежнему не так строг, как к взрослым преступникам. И мы пользовались этим.
Из всех осужденных за ограбление склада только мы с Валерием оказались в одном месте. В новой колонии никто не знал нашей истории. Не знали и о предательстве Горского. Он упросил меня никому об этом не рассказывать. Понимая, что полностью зависит теперь от меня, Валерий всячески заискивал передо мной, ни на минуту, впрочем, не выпуская меня из своего поля зрения. Правда, я это понял много позже, а пока только изумлялся его странной настойчивости и желанию во что бы то ни стало заслужить у меня прощение… Иногда его домогания вызывали во мне отвращение. Так обычно выпрашивают любовь потаскухи, но не дружбу товарища. Однажды я не выдержал и спросил его напрямик:
– Какая тебе польза в моем прощении? И почему ты так его добиваешься? Можно подумать, что тебя не сегодня-завтра приговорят к повешению.
Он смотрел на меня преданными собачьими глазами, в самой глубине которых я ясно видел ложь.
– Судить могут всякого, кто нарушил воровской закон, – ответил он. – Да только я плевал на всех. Все они – сволочи, кретины и подонки. Мы с тобой – люди. И свои поступки мы будем судить сами. Ты – мои, а я – твои. Согласен? Кстати, ты меня уже осудил. Правильно осудил, и я теперь прошу у тебя прощения… Ну как, прощаешь или нет?








