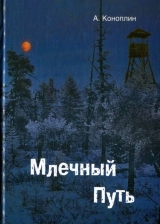
Текст книги "Млечный путь (сборник)"
Автор книги: Александр Коноплин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
– Ты кто? Чалдон или русский? А может, сука? – острие его страшного ножа снова коснулась горла зэка.
– Чеснок… С третьего ОЛПа… – с трудом выдавил несчастный. – Век свободы не видать![37]37
Божба.
[Закрыть]
– Кликуха? – свирепо потребовал мокрушник, явно жалея, что не может прирезать этого свидетеля.
– Шкет, С малолетки еще…
– Есть такой, – послышался сзади другой голос. – Кого из блатных знаешь?[38]38
Необходимый ритуал узнавания.
[Закрыть]
– Бык, Пахан Фома, Мохнач… был, – начал перечислять Шкет.
– Ладно. Сюда как попал?
– Вчера, – соврал Шкет, – поздно вечером. А может, ночью.
– Шуровал небось тут?
– Не успел. Едва на сеновал забрался, в сено зарылся, кимарнул, а тут вы…
Патрет оставил Шкета, сказал второму, невидимому:
– Позырь, Лох, в заначках бациллой[39]39
Сало.
[Закрыть] пахнет.
Заскрипела дверь кладовой, вспыхнула и погасла спичка.
– Есть, Патрет, давай сюда! – радостный и звонкий голос из чулана. – Тут целый гастроном!
Забыв о Шкете, Патрет бросился в кладовую. Темнота то и дело озарялась загоревшейся спичкой, и в эти секунды Шкет видел, что воры срывают с крючьев окорока и колбасы и суют в мешки, которые взяли тут же. Второго налетчика он узнал не столько по кликухе, сколько по голосу. Это был молодой вор по кличке Лох, с которым Шкету пришлось некоторое время сидеть в БУРе, пока его не отправили на девятку.
– Коты![40]40
Валенки, чаще укороченные.
[Закрыть] Коты ищи! – громким шепотом приказывал Патрет.
Что-то падало с полок на пол, гремели, разбиваясь крынки – возможно, со сметаной или топленым маслом, – матерились громилы.
– Нету, – сказал Лох.
– Ищи гроб![41]41
Сундук.
[Закрыть]– крикнул Патрет. – У чалдонов они в гробах.
Оба громилы кинулись в избу. Через распахнутую дверь Шкет видел, как они вытряхивали из сундука добро Филимона, а может, и Марии! Сбрасывали с себя лагерное и облачались во все меховое – этого добра у хозяина было много – от душегреек и штанов на меху до полушубков. Глядя на этот грабеж, Шкет – странное дело! – радовался тому, что не участвовал в нем. Хотя еще час назад, проходя мимо кладовой, из которой сладко пахло копчеными окороками, думал с завистью: «Чертов куркуль! Такого и покурочить не жалко!» И вот, поди ж ты, стало жалко. В воровском мире он принадлежал к щипачам[42]42
Карманник.
[Закрыть], уважал свою профессию, требующую постоянного совершенствования и мастерства. Мокрушники же, громилы, медвежатники[43]43
Специалист по вскрыванию (ограблению) сейфов.
[Закрыть] и прочие вызывали в нем неприязнь и… презрение.
Занятые своим делом воры не сразу вспомнили о нем.
– А ты чего стоишь? – спросил Патрет. – Может, тут остаться надумал? – он обменялся с напарником многозначительным взглядом, в котором Шкет прочитал приговор себе: такие свидетелей не оставляют. Он молча взял один из набитых доверху мешков и побрел к выходу. Но уходить ему не хотелось. И дело не в жратве. Сегодня ночью он понял, что Мария для него не безразлична. Сидит, наверное, бедолага, от страха забилась в какую-нибудь щель и плачет.
Однако он плохо знал эту женщину. Едва воры, нагруженные чужим добром, приблизились к наружной двери, как она сама собой открылась, и на пороге возникла Мария с вилами в руках.
– Стойте, ироды! А ну бросайте мешки! Ишь, чего захотели! Хозяин! Бери ружье. Выпускай собак!
– Баба! – нисколько не боясь ни ее вида, ни слова «хозяин», заорал Патрет.
Похоже, он знал, что Филимона нет дома, и что собак у него никогда не было. Не знал он только про Марию.
– Жена? – легко завладев вилами, он далеко отбросил их в сторону и потянул женщину к себе одной рукой.
В другой все еще держал мешок. – А мы от твоего Филимона. Велел кой-чего привезти – покупателя нашел. Он в Сосновке у Михеева. Тебе привет. Велел передать – завтра приедет… – говоря это, он все сильнее прижимал женщину к себе.
А поскольку мешок ему мешал, он бросил его и, не успел Шкет глазом моргнуть, повалил Марию на пол. Шкет растерялся: у Филимона в Сосновке действительно был приятель Михеев – бывший политзэк, а теперь продавец в магазине, куда возил Филимон иногда на продажу и окорока, и колбасы, и пушнину. Но так думал он, пока Патрет не повалил Марию на пол и стал срывать с нее одежду. Тогда Шкет понял, что все сказанное – вранье, что эти двое – те, за кого он их принял с самого начала – мокрушники и грабители, и бросился на помощь женщине. Патрет успел разорвать на ней платье. Но большего не добился. Мария сопротивлялась отчаянно. Шкет даже не подозревал, что бабы способны на такое: она раскровенила бандиту лицо, поцарапала глаз. Патрет уже лежал на ней, когда Шкет изо всей силы толкнул его ногой в бок. От неожиданности тот свалился на пол и запутался в своих штанах.
– А ты молоток! – сказал Лох, дружески хлопнув Шкета по плечу. – Нашел время, козел! Линять надо!
– Лох! Мочи падлу! – взвыл Патрет, пытаясь встать на ноги.
Воспользовавшись моментом, Мария откатилась в сторону, упала с помоста на кучу соломы и мгновенно исчезла. Шкет знал, где она может спрятаться, но промолчал. Сейчас угроза нависла над ним.
– Ты чего, Патрет? – Лох был молод и желал быть справедливым. – Своего мочить?
– Вертухаям он свой! – зарычал Патрет, всей тушей опрокидываясь на Шкета и пытаясь схватить его за горло. – Где бикса?[44]44
Блядь.
[Закрыть] Ты с ней заодно, падло!
Шкет чувствовал, что еще секунда – и его задушат железные пальцы громилы. Помощь пришла неожиданно – не даром же вместе в кандее клопов кормили! Лох, понимая, что напарник потерял голову, встал над ними обоими и, захватив подбородок Патрета, стал загибать его голову назад к спине. Это помогло – бандит выпустил Шкета, огляделся.
– Где она? Где бикса?
– Смылась, – ответил Лох. – Линять надо, сам знаешь…
Но Патрет поднялся со Шкета не сразу. Еще с минуту бил кулаками в окровавленное его лицо, а поднявшись, стал пинать ногами уже потерявшего сознание зэка.
Когда и как они ушли, Шкет не слышал и не видел. Очнулся от холодной воды, которой его поливала Мария. Она же помогла ему подняться и отвела к себе в каморку – сам он, наверное бы, не добрался. Лежа на ее мягком, как перина, тюфяке, спросил, как спрашивают о докторе, которого ждут:
– Филимон скоро вернется?
– Обещался в самом деле завтра. Как они узнали? Не иначе побывали у Михеева в Сосновке. Господи, а вдруг с ними обоими чего сотворили?
– Уходить мне надо, – с трудом выговорил Шкет. – Подумает, я их навел.
– Куда ты пойдешь такой-то? – она по-матерински ласково провела шершавой от мозолей ладонью по его щеке, уже начавшей опухать и потому болезненной. – Надо же как он тебя… А ты, видать, еще и не брился ни разу? Маленький ты мой! Спасибо тебе! Кабы не ты, надругался бы он… Экий боров, право! Вернется Филимон, все ему расскажу.
– А не поверит?
– Как же не поверит-то? У тебя… да и у меня – все видать. Что мы – сами себя метелили?
Их обоих лихорадило не столько от холода, сколько от всего пережитого. Не раздумывая, Мария забралась к нему под одеяло, прижалась молодым горячим телом к его избитому, но вовсе не безучастному к ее ласкам.
– Ты и вправду совсем молодой. Чего ж зубов нет? Али цинга съела? Миленький ты мой! – она обняла его и еще крепче прижала к себе. А он, сцепив зубы от боли, терпел ее объятия и старался не закричать. Она стала ощупывать его раны и сказала, что их надо смазать «филимоновой мазью». Затем принялась стаскивать с него штаны, рубашку, а он снова терпел и послушно поворачивался по ее команде. «Мазь филимонова» имела знакомый запах – чем-то похожим мазал его рану когда-то лепило Финоген. Намазав где надо, Мария умело забинтовала раны и снова легла рядом – молодая, горячая, ждущая. Шкет полежал немного, потом робко протянул руку и коснулся обнаженного тела Марии, стал ощупывать его и гладить неумело и робко. Она легко поддавалась его ласкам, хотела их и поощряла его, когда он боязливо отдергивал пальцы от запретного… Пахло ее потом, снегом и цветами. За свои неполные девятнадцать лет ему ни разу не приходилось не то что лежать рядом с женщиной, но даже просто стоять близко от нее. Даже в малолетке воспитателями были мужчины. Лет с четырнадцати ему начали сниться сны, дотоле невиданные: то ласкал он какую-то царевну несказанной красоты, то Марину Ладынину обнимал, совсем как взрослый, и не смущался даже, а тут наяву, рядом с живой женщиной, то и дело обмирал сердцем.
Вспомнились трехлетней давности строки, накарябанные огрызком карандаша на стене барака:
Ты идешь, неслышно ступая,
Златокудрая и нагая,
Не моя, не твоя и не наша —
Вертухайская дочь Наташа.
Когда томление плоти становилось невыносимо, он залезал на крышу барака, с которой был виден весь поселок, и подолгу смотрел на женщин и девушек-вольняшек в легких платьях, передвигавшихся туда-сюда по поселку. Одна златокудрая лет семнадцати в ситцевом коротком платье и синих тапочках на босу ногу особенно ему приглянулась. Может, оттого, что жила в ближайшем к зоне домике. Чья она дочь – вертухая или просто вольняшки, приехавшего в Сибирь на заработки, он так и не узнал. В стихах же почему-то увидел ее обнаженной и дал ей отца-вертухая.
Лежа сейчас рядом с притихшей Марией, он вновь вспомнил придуманную Наташу и вдруг смело и жадно потянулся к настоящей, живой и горячей, всем своим истосковавшимся по женской ласке телом.
Опомнились они, когда за окном забрезжил рассвет. Мария вскочила первая, белея в полутьме ягодицами, собирала разбросанные одежды – свои и чужие.
– Господи! Да вставай же ты скорее! Вот-вот Филимон нагрянет.
Но он не приехал ни в этот день, ни в следующий. И все эти дни Шкет не покидал каморки Марии. Получалось, что не только она ему, но и он ей открывал новый, неведомый мир.
– Дивно мне, – говорила женщина, – вроде и не жила до тебя ни с кем. Не ласкали мужики – насиловали, и вдруг ты… – и снова набрасывалась на него, как дикая рысь на кролика, – целовала истово, неудержно. Потом недолго отдыхала. Отдыхая, переворачивалась на спину, смотрела в потолок. – И зачем бежал, если не знал, что такое свобода?
– Все бежали…
– Их тоже ловили?
Он не ответил. Вспомнил разбитый череп Мохнача, кровавую его плоть, вернее, то, что от нее осталось.
– Мне пока везло. Только вот… – он перевернулся на живот, дал ей полюбоваться штапом на спине. – Да еще зубы выбили.
– Бедненький мой! – она опять в который раз потянусь к нему, целовала где попало его тело и его заставляла целовать те места ее, на которые он при свете боялся даже взглянуть.
Прошло двое суток. Мычали в хлеву недоенные коровы, крушил дощатую перегородку голодный кабан, блеяли овцы. Разбежавшиеся во время налета куры забирались по ступенькам к двери, возмущенно квохтали…
Филимон нагрянул неожиданно, среди бела дня. Загрохотал сапожищами по ступенькам, хлопнул дверью, проходя в избу. Как открывал отвод, как въехал во двор – не слышали.
Захватив в охапку свои шмотки, Шкет скатился с Марииной кровати, проскользнул неслышно в свой чулан, затаился под тулупом.
Через полчаса дверь чулана отворилась, и Мария сказала наугад в темноту:
– Иди. Зовет тебя, – а когда он проходил мимо, шепнула: – Не говори ничего. Что надо, я сама рассказала.
– А будет спрашивать?
– Гляди в пол!
Хозяин сидел у края стола, опираясь кулаками в широко расставленные колени, плетка лежала рядом на лавке.
– Выйди, Мария, – сказал, будто бык промычал.
– Не уйду, – ответила она тихо.
– Выйди, сука! – он потянулся за плетью.
– Сказала, не уйду! – повторила она и даже ступила на шаг вперед, чтобы ему было сподручней хлестать.
– Ладно, стой, – неожиданно сдался он и взглянул на Шкета.
– Как же ты, ничтожный червь, допустил такое? – голос Филимона звучал на самых низких нотах.
Так в лагерном хоре пели только двое – бывший дьячок Иван Апелисов и бывший оперный певец Даниил Харитонов…
– Али это твоя благодарность мне за хлеб-соль, за приют и ласку? – последние три слова он произнес нотой выше, отчего Шкет понял, что все дальнейшее будет звучать в верхней октаве. – Знаешь, червь, что за такое бывает? – почти тенором крикнул Филимон. – По суду за такое к стенке ставят, а без суда – отводят в тайгу и… – он выразительно щелкнул пальцами. Как выстрелил.
Шкет вздохнул и пожал плечами. Права Мария: лучше ничего не отвечать.
– А может, они тебя в долю взяли? – продолжал Филимон.
Но посмотрев внимательно на зэка, махнул рукой и поднял глаза на Марию:
– Все унесли?
– Все, – тихо ответила она.
– И из сундука?
– И оттудова.
Он помолчал, думая:
– Чего ж овец не тронули? Свиньи целы, хоть и разбежались, овцы, коровы – сколько было, столько и есть?
– Им твоих окороков да колбас хватило. Едва унесли.
Он с силой комкал в пальцах рукоятку нагайки, будто хотел раздавить.
– А этого червя за что били?
– Я ж рассказывала…
– Слыхал. «Героя» давать впору за его подвиги.
Посидев еще немного, тяжело поднялся:
– Ладно, чего теперь… Заимку не спалили – и то ладно, скот цел. У Михеева еще не то натворили, сам чудом жив остался. А вы одевайтесь, во дворе работы много. Я в тайге кабана завалил пудиков на восемь, коптить будем, – кривоногий, широкоплечий, похожий на быка пошел к двери, но Мария остановила.
– Филимон, я сказать тебе хочу…
Он обернулся, с усмешкой посмотрел на нее, похлопывая нагайкой по сапогу.
– Говори. Денег будешь просить? Нет у меня нынче денег, сама знаешь, все украли.
– Не надо мне денег, – сказала она, и Шкет подивился твердости в ее голосе. Казалось, она здесь настоящая хозяйка, а не он. – Помнишь, тогда в Сосновке на станции, когда ты… В общем, замуж звал…
– Ну, помню. Так в чем дело?
– Обещался, если выйду за тебя, не принуждать меня против воли…
– Да разве ж я принуждал? Ты сама… Сама все решила. Захотела не по закону жить, а так, вольной птицей.
– В клетку ты посадил свою птицу. А я хочу летать.
– Чего-о?
– Летать хочу, Филимон. А чтобы понятней было – улететь от тебя. Отпусти меня со своей заимки, очень тебя прошу! Сам знаешь, ничего у тебя прежде не просила…
Он молчал, опустив лохматую голову, и шея его на глазах наливалась кровью. Мария, не видя этого, продолжала:
– Век буду за тебя Бога молить. Пригрел ты меня, обул, одел, сытно кормил – все так, не соврал. Недаром говорил – слово твое твердое.
Он все молчал, набычась. Она поняла по-своему.
– Ну, хочешь, я на колени стану? – она и в самом деле упала перед ним на колени. – Отпусти, не бери грех на душу!
– Понимаю, голубка, – сказал он со странной улыбкой, – улететь наладилась. Как понимаю, не одна, с голубем сизым.
И вдруг заорал на всю избу.
– Сука! От меня бежать? – плеть его взвилась, но пока не опускалась на спину Марии, висела в воздухе. – Хорошо хоть сама призналась, а то я тут сижу и думаю: когда совесть у нее проснется? Еще когда уезжал, понял: снюхаетесь, твари! Еще подумал: пускай порезвится, дело молодое, надоело со стариком… А ты вон что надумала! – плеть наконец опустилась на спину Марии.
Она вздрогнула, склонилась еще ниже. Филимон еще раза три ударил ее наотмашь – на светлой ночной рубашке показалась кровь.
– А ты чего стоишь, герой? Отбивай ее у меня. Покажи, как это делается!
– Вы не имеете права! – закричал, не помня себя, Шкет и вскрикнул от боли – нагайка Филимона полоснула его через плечо.
Схватившись за обожженное место, он ощутил под пальцами кровь.
– Вы не имеете права! Она вам не зэчка, у нее паспорт есть! – он еще что-то кричал, а плеть методично взвивалась и падала, снова взвивалась и снова падала, пока старик не загнал Шкета в угол, где плеть его не доставала.
Оставив парня, Филимон повернулся и пошел к неподвижно стоявшей Марии. Подойдя, он без лишних слов упал перед ней на колени, запричитал глухо и страстно:
– Не уходи-и-и! Не бросай меня, девочка моя-a! Что хошь для тебя сделаю, только не бросай! Помру я без тебя.
Мария оттолкнула его протянутые руки и ушла в свою каморку.
Вышла оттуда уже одетая в короткий белый полушубок, подаренный когда-то Филимоном, сапожках с медными бляхами, которые очень любила, с лисьей шапкой на голове и небольшой котомкой в руках. Не обращая внимания на сидевшего на полу Филимона, подошла к Шкету, спросила:
– Идти можешь? – и, не дождавшись ответа, скомандовала: – Ступай за мной!
Филимон ползком добрался до двери, загородил ее своей тушей.
– Одумайся, Мария, не то поздно будет! Ты меня знаешь! Я тебя так просто не отпущу!
Она обошла его, вывела за руку Шкета. Волки, всегда крутившиеся возле крыльца, пошли за ней. Через минуту по ступенькам загрохотал сапогами Филимон. В его руках было не ружье, а винтовка, какие имеет охрана. Шкет зажмурился… Мария шла, не оглядываясь, и беглец едва поспевал за ней. Сзади, не нагоняя, но и не отставая, тяжело топал Филимон. Его хриплое дыхание оседало на бороде и усах белым инеем. Волки, радуясь свободе, первому снегу и молодости, носились взапуски, грызлись, свирепо рыча, катались по снегу.
Вся компания миновала обширную луговину, на которой Филимон косил траву, и вступила в тайгу. Метрах в ста от заимки проходила дорога в соседнее село Стынь, а через него на Сосновку, что стояла на железной дороге Москва – Владивосток. Шкет решил, что Мария наладилась туда, но через Стынь до Сосновки идти не меньше двух часов, гораздо короче путь напрямик, через увалы. Прожив на заимке всего две недели, Шкет уже все здесь знал, не раз, когда Филимон был в отлучке, пробегал через тайгу те самые пятнадцать километров и, забравшись на лиственницу, что росла на самом краю сопки, смотрел на дымки далеких поездов. Волки, обычно сопровождавшие его в таких походах, ждали внизу.
Поспевая за Марией, Шкет затылком чувствовал нацеленный на него острый взгляд Филимона. «Он что, нас в тайге хочет шлепнуть? Тогда самое место в распадке у ручья…»
Но и распадок, и ручей остались позади, а Мария все шла, не сбавляя шага. Вокруг нее, то опережая, то отставая, непрерывно крутились волки. Одного из них звали Джеком, другого – Ромкой. Джек был сильнее, но добрее брата и частенько уступал ему мозговую косточку, брошенную Марией.
«Однако солнышко будет!» – почему-то на местном диалекте подумал Шкет. Именно так выражался таежный охотник Назар Долбасов из якутов, живший на своей заимке километрах в тридцати от Филимона.
И вдруг он понял: Мария идет к нему! Кроме Долбасова у нее сейчас нет никого в мире, к кому она могла бы обратиться за помощью, Долбасов и Филимон не дружили. Просто охотник иногда привозил Январю шкурки соболей, лис, куниц, россомах, чтобы тот продал их на базаре в Канске или в Красноярске, куда ездил довольно часто. Сам Долбасов предпочитал надолго не оставлять свою заимку – кроме трех лаек у него имелась корова и две свиньи, за которыми надо было следить. Заимка же Филимона была для него чем-то вроде фактории. Здесь он мог запастись порохом и дробью, сбыть пушнину, а главное, запастись водкой, до которой был большой охотник. Он знал, что Филимон его обкрадывает, но не пытался высказывать ему это в глаза. А когда Мария, возмущенная подлостью Филимона, сказала ему об этом, он ласково погладил ее по волосам:
– Назарка сама знает. Филимон хитрый человек, чукчи зовут его «люча». Но у Филимона сыновья большими начальниками стали. Их все знают, а Назарку в тайге один медведь знает, да и тот не боится.
Шкету показалось, что Долбасов в чем-то виноват перед родной советской властью. Поразмыслив, он пришел к выводу, что вина его в том, что не сдает он свою пушнину, как положено, государству за грабительские проценты, а предпочитает иметь дело с Филимоном. Этот хоть и ворует, да платит за шкурки куда дороже, чем власть.
Когда на заимке у Филимона появилась Мария, Назар посчитал ее на первых порах – и совершенно справедливо – простой работницей и предложил ей перейти жить к нему, на его заимку, но не в качестве работницы, а жены. Потом, когда статус ее изменился, предлагать такое перестал и лишь наблюдал со стороны и сокрушенно качал маленькой круглой головой: чужая однако… На его глазах Мария из девочки-замарашки превратилась в сытую, довольную жизнью красивую женщину, умелую, работящую и независимую.
Потом стал он замечать в ней наступившую перемену – она вдруг стала быстро худеть. Назар видел прежде незаметные лопатки на ее спине, мослы вместо округлых плеч, сутулость, которой тоже прежде не было. Жалея ее и не понимая, что происходит, он стал привозить ей целебные травы и настойки из них – корни женьшеня, медвежий жир – и рассказывал, от каких болезней в их роду вылечился тот-то и тот-то, пытаясь выведать ее недуг. Ревнивый и грубый Филимон гнал его прочь, а корешки и травы выбрасывал. На якутов, эвенков, чукчей и прочих коренных жителей тайги он всегда смотрел свысока, называя их «зверушками», совсем как это делали надзиратели – они тоже считали себя принадлежащими к высшей расе.
Мария шла к Назару – теперь в этом не было сомнений. Догадался об этом и Филимон. В одном месте он сильно срезал путь – ломанул напрямик через сопку, в то время как остальные обходили ее тропой. Солнце, поднявшееся часа два назад невысоко над тайгой, очень скоро двинулось в обратный путь, к земле.
Когда до нее оставалась самая малость, Филимон вдруг ускорил шаг и, обогнав беглецов, встал у них на дороге. Верно, второпях он не надел своего полушубка и был в одной меховой душегрейке.
– Ну, хватит, – произнес он хрипло, когда беглецы подошли поближе. – Ты, Мария, поворачивай назад, а ты… – на Шкета он даже не посмотрел, – оставайся здесь, если хочешь.
«Где оставаться? С кем?» – Шкет затравленно огляделся. Привыкнув к постоянной людской толчее, он неуютно чувствовал себя даже на заимке. Здесь же, в тайге, среди покрытых инеем лиственниц просто испугался и по-детски прижался к Марии. Еще там, в ее каморке, лежа под одеялом и прижимаясь к ней всем телом, он ощущал ее больше как мать, нежели женщину. Насытившись, засыпал, уткнувшись носом в ее подмышку…
Вероятно те же чувства испытывала и она, потому что положила свою руку на его темя.
– Отойди от нее, тварь! – глухо произнес Филимон и передернул затвор, дослав патрон.
Испуганный Шкет хотел отпрянуть, повинуясь команде, но женщина еще крепче прижала его к себе.
– Если надумал убивать его, пореши и меня, нам друг без друга не житье.
Филимон отступил на шаг, поднял винтовку, но вместо того, чтобы выстрелить, закричал во все горло:
– Джек! Ромка! Куси их! Куси!
Шкет зажмурился – он всегда закрывал глаза, когда страх леденил душу. Но произошло чудо, оба волка подбежали к Марии и улеглись у ее ног.
– Фас! – заорал Филимон, потрясая винтовкой. – Фас! Куси!
Волки недоуменно поглядывали то на него, то на ту, которая их кормила и которую они считали своей.
– Ах вы…
Филимон выстрелил сначала в Джека, затем в Ромку. Из головы волка на лицо Шкета брызнул фонтан крови. Ромка, который дернулся после выстрела в брата и которому пуля угодила в живот, взвыл от боли и пополз на брюхе по снегу. Филимон снова выстрелил. Джек был уже мертв, но Ромка не хотел умирать – он пополз к ногам Марии, подвывая и причитая по-своему, жалуясь на несправедливость. Мария бросилась к нему – он был ее любимцем – обхватила его голову руками и своим телом загородила его от Филимона.
– Что ж ты делаешь, ирод? За всю их службу…
Но Филимон, как видно, озверел – он выстрелил в четвертый раз. Волк дернулся, вытянулся в струнку и застонал уже не по-волчьи, а по-человечьи. Казалось, он пытается и никак не может выговорить какие-то слова… Потом началась агония. Мария еще обнимала его, когда тело волка, обмякнув, стало выскальзывать из ее окровавленных пальцев.
Опустив Ромку, она выпрямилась и пошла на Филимона. Она ничего не говорила, не угрожала, но он стал пятиться и пятился, пока не уперся спиной в ствол лиственницы.
– Душегуб! – крикнула Мария и обеими руками потянулась к его горлу.
Он толкнул ее в грудь, отчего она упала на спину, и бросился к неподвижно стоявшему юноше-беглецу. Теперь он бил не нагайкой, а прикладом винтовки. А когда Шкет упал, стал пинать его сапогами, стараясь попасть в правое подреберье, в спину, где были почки, и в голову. От страшной боли Шкет потерял сознание.
Когда он пришел в себя, над тайгой стыла морозная ночь. Холодные маленькие звезды с трудом продирались сквозь частую сетку ветвей. Чтобы видеть их – почему-то сейчас это ему было особенно важно, – он попытался стереть кровь с лица, но только размазал ее еще больше – руки его тоже были в крови. Он догадался погрузить ладони в снег, потер их одна об другую, зачерпнул пригоршню и протер глаза. Звезды засветились ярче.
– Ну, вот и ладно, – сказал он. – Проститься я с вами хотел.
И увидел Марию. Она сидела на краю обрыва, поджав ноги. Ее волосы были распущены по плечам, как тогда, когда они в первый раз остались наедине в ее каморке за печкой. Голое плечо ее угловато торчало из разорванного платья, ноги почему-то были босыми, и ни на ней, ни возле не видно было ее белого короткого полушубка.
– Маша! – еще не вполне доверяя своему сознанию, звал Шкет.
Она прислушалась, встрепенулась и босая метнулась к нему по снегу.
– Господи… Живой?! Да как же… Как же так? Я же видела… О, Божечка милостивый, помоги нам!
Она схватила его голову обеими руками – совсем как давеча волка – и прижала к наполовину обнаженной груди.
– Как же это? Он же тебя убил!
– Мы, воры, живучие, – с трудом произнес Шкет и попытался улыбнуться, но это не получилось: распухшие губы не двигались. Мария делала попытки прикоснуться к его телу. Наверное, чтобы ощупать его, но каждый раз в страхе отдергивала руки. Он же силился вспомнить, что с ними обоими произошло? И почему его тело перестало ему подчиняться, а каждое малейшее движение причиняет нестерпимую боль?
Вспомнил все, когда увидел мертвых волков. Пасти их были открыты, и кровь темными сгустками леденела на снегу.
– Где он?
– Ушел, – сказала она. – Ты ведь был… мертвый, он испугался…
– Он… бил… тебя? – по слогам произнес Шкет.
Она низко наклонила голову, чтобы он не видел ее лица. Он, с трудом ворочая языком, облизал пересохшие губы и попытался снова поддеть пригоршню снега, но на этот раз не смог. Мария сама набрала пригоршню холодного, колкого, пахнущего почему-то не зимой, а весной снега, осторожно приложила к его губам. Он с жадностью вылизал снег и, припав губами к ее ладони, по-собачьи лизал их, думая, что целует.
– Хочешь, я тебе свои стихи почитаю?
Ей показалось, что она ослышалась. Но он вдруг начал что-то тихо и складно произносить, прерываясь лишь для того, чтобы отхаркнуть очередной сгусток крови.
Ты лети в голубое небо.
Тебя примет чистая высь,
Только где бы потом я ни был,
Ты, пожалуйста, мне приснись.
«Господи, – подумала она, – откуда у этого мальчика такой талант?» И тут же вспомнила, что в лагере, еще в малолетке, он закончил не то семь, не то восемь классов.
А он не знал, слышит она или нет – произносил одними губами, но говорить громче не мог, не хватало воздуха:
В подвенечном воздушном платье
С золотою звездой во лбу.
Не забуду твои объятья
В самом черном страшном аду.
Слушая, она незаметно и осторожно отдирала его окровавленные одежды, но очень скоро поняла, что трогать его нельзя.
Начался обильный снегопад – вторично за ночь. Мария еще некоторое время пальцами счищала снег с лица своего друга. Затем, поняв, что он умер, села возле него и замерла. Очень скоро ею стал овладевать сон – она поняла, что замерзает, но шевелиться не было сил. Уже засыпая, услышала собачий лай, а немного погодя – скрип лыж по снегу. Сначала к ней подбежали две лайки – она видела загнутые колечком хвосты, затем скрип снега приблизился и оборвался у ее уха. Разлепив вторично веки, она увидела широкие концы самодельных лыж, обитых снизу шкурой росомахи. Такие лыжи имелись только у одного человека в округе – охотника Назара Долбасова. Но странное дело: лыжи остались на месте, а скрип продолжался. Приоткрыв глаза в третий раз, она увидела склонившееся над ней скуластое лицо, обрамленное редкими седыми волосами.
– Однако живая, – произнес человек и стал снимать с себя меховую парку[45]45
Верхняя одежда жителя севера, чаще из оленьей шкуры мехом наружу, без разреза спереди. Одевается через голову.
[Закрыть], а потом – еще дольше – надевать ее на Марию, при всяком движении причиняя ей сильную боль. Далее она почувствовала, что ей раздвигают губы горлышком бутылки, и сама сделала большой глоток. Спирт ожег ей гортань и язык. Она на секунду задохнулась, но сон прошел. Она помогла Назару перекатить ее на лыжи и привязать к ним ремнями.
Потом все трое – Назар и обе его лайки – впряглись в постромки, и снег снова заскрипел возле уха Марии. И скрипел долго, пока она окончательно не заснула.
Снег шел остаток ночи и все утро и похоронил следы человека и его лыж и отпечатки лап собак. Но еще долго не мог скрыть от глаз тайги тело не то низкорослого щуплого мужчины, не то подростка и двух мертвых волков, почему-то брошенных охотником под старой лиственницей…









