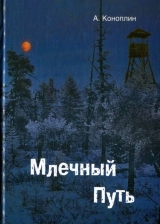
Текст книги "Млечный путь (сборник)"
Автор книги: Александр Коноплин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
3
Настя погибла в один из дождливых дней в начале декабря. Маленькая, худенькая, словно подросток, лежала на той самой лавке, на которой спала раньше. Впервые Воронцова видела ее без платка. Белокурые жиденькие волосы откинуты назад, светлые глаза чуть приоткрыты и смотрят на мир серьезно и задумчиво. Одна нога в ботинке, другая – разутая, в одном чулке с прорванной пяткой.
Размазывая слезы по лицу, Миша говорил:
– Подошли мы к тому месту, где раньше брали, а там пусто. Кто-то до нас поспел. Маманька и говорит: «Ты посиди тут, а я пойду посмотрю другое место». И не пришла…
Солдаты, принесшие Настю, стояли тут же. Галкин часто и сипло кашлял, сморкался в рукав, вытирал глаза заскорузлыми пальцами. Другой, совсем еще молодой парнишка, хмурился, на людей смотрел исподлобья. Оба дымили махоркой и шумно вздыхали. Галкин несколько раз принимался рассказывать одно и то же. При этом он неловко шевелил правой рукой.
– Идем мы с Саватеевым за этой картошкой, будь она неладна, глядим, у бурта ровно кто-то сидит. Думали, немец. Залегли. Лежим, это, ждем. Стрелять – не стреляли. Потому как шум подымать нам никак нельзя. Немец зараз начнет бить из орудий либо из минометов. Ждем мы, и вдруг чудится мне, будто человек стонет… Этак тоненько, вроде бы как пугливо. Саватеев было пополз, а я его придержал. Говорю, можа, это немец приманывает. Он это любит – приманывать! Сколь наших ребят зазря погибло через это. Застонет в кустах, ну, известно, у кого сердце выдержит? Пойдут на стон, а он с автоматом… Словом, не пустил я его. Ан, выходит, зря. После-то и сам полез, а Настенка-то уж кровью истекла. Такое вот, стало быть, дело.
Покашляв, Галкин продолжал:
– Взяла, видать, первую картошку, а в мешок положить не успела. Так с ней и сидит, к груди прижимает. Большая такая картошка, белая…
После смерти Насти жизнь в доме Грошевых как-то притаилась, замерла. Неожиданно все сразу почувствовали, что в доме не хватает кого-то очень хорошего и нужного.
Галкин с удивлением заметил, что ходит в аккуратно заштопанной гимнастерке, легкораненые, приходившие в санчасть на перевязку, признались, что они своими латанными гимнастерками обязаны беженке. Воронцова вспомнила, как долгими ночами сидели они вместе с Настей за печкой и беженка говорила ей своим ровным певучим голосом:
– Кончится война, приедешь к нам в Руссу, я тебя в городскую больницу устрою. Будешь работать и учиться, а потом, глядишь, и в институт поступишь, настоящим доктором станешь. А то фельдшером – ни то ни се… Так жизнь-то и наладится.
– Думаешь, скоро кончится? – спросила Воронцова.
– А как же?! Вот опомнятся наши маненько, поднакопят силушки и тронутся.
– Ох, не случилось бы, что немцы раньше в Москве будут.
Настя ответила уверенно:
– Не будет этого. Не отдадут им наши Москвы. Все до единого полягут, а не отдадут! Москва – это все равно что сердце наше. Вынь его из груди – и нет нас!
Маленькая ростом, она стала сейчас большой и сильной.
– Какая ты… – сказала Лидия Федоровна, откровенно любуясь ею. Настя покраснела, крепко зажмурила глаза.
– Эх, Лиданька, только б до победы дожить! Ничего бы не пожалела, только бы ее приблизить хоть на денечек!
Такой она и запомнилась Воронцовой.
Грошевы Савушкиных не обижали, но питались по-прежнему отдельно от них. Раза два приходил Саватеев, приносил хлеб, сахар, селедку. Посидев молча, уходил, аккуратно притворяя за собой дверь. Галкин приходил чаще. Сидел у порога, курил вонючую махорку, хмуро смотрел на детей. Иногда неумело гладил кого-нибудь по голове, шепча себе под нос:
– Ах ты, беда какая!
Однажды принес завернутые в тряпку сапоги.
– Перешил вот свои. Может, подойдут мальчонке. А коли не подойдут, пускай на хлеб сменяет. Много не дадут, а буханки две просить надо. Головки почти что новые. И двух годов не носил.
Поставив сапоги у порога, свернул тряпочку, высморкался в нее, убрал в карман и вышел.
Миша по-прежнему ходил за картошкой каждый вечер. Похоже было, что он задался целью завершить начатое матерью. В новых сапогах он казался намного старше. На лбу у него так же, как у матери, залегли складки, правда, пока еще чуть заметные. Иногда с ним вместе ходила Фрося. Вдвоем приносили килограммов десять-двенадцать. И теперь уже Миша говорил, собрав вокруг себя малышей:
– Засыпем до краев, тогда вовсе ходить не будем. Тогда нам зима не страшна.
Воронцова ходила к командиру роты, рассказала про Савушкиных. Капитан только развел руками:
– Сама видишь, весь батальон который день без горячего. Все дороги перерезаны. В тылу хозяйничают фрицы, а у нас сил нет им по шапке дать. Вся оборона на нашем участке на одном честном слове держится. Узнают немцы, что нас здесь – с гулькин нос – двинут! Как пить дать двинут в наступление!
Сам он отдал все, что у него было: килограмм сухарей и пять кусков сахару.
– Бери, все равно без толку лежит. Я и раньше-то сладкое не уважал.
Как-то Галкин появился возбужденный, сияющий. Убедившись, что Грошевых нет дома, скомандовал:
– Мишка, Фроська, забирайте мешки и айда за мной! Будут и у вас нонче оладышки!
Он привел их далеко за деревню, где начинался лес. Несколько больших куч хвороста и сухих листьев прятались в сосняке. Галкин разбросал одну из них, кинжалом разрыл тонкий слой земли. В яме, прикрытые соломой, лежали мешки с мукой.
– Берите, не стесняйтесь. В случае чего скажете: в батальоне выдали как семье фронтовика… Ну, чего вы?
Миша и Фрося не шелохнулись.
– Очумели с радости? Ну-ко дайте мешок-от!
Насыпать муку одной рукой было неудобно. Галкин сперва черпал пригоршней, потом приспособил пилотку. Работая, солдат не забывал поучать несмышленышей, учил их жить на белом свете. А когда, окончив работу, оглянулся, возле него никого не было. Далеко, у самой деревни, виднелись две детские фигурки, одна маленькая, другая немного побольше. Они шли, взявшись за руки, и скоро скрылись за крайней избой.
– Мать честная! – выругался Галкин. – Чего ради старался? Вас ради! Жалко ведь: пропадете! Кабы не это, рази бы я…
Дойдя до грошевской избы, он решительно взялся за ручку, но передумал, не вошел. Стоял, насупясь, ковырял ногтем сучок на косяке двери. Потом поправил ремень, выколотил пилотку о столбик, надел ее и пошел к себе во взвод.
Миша отправился за картошкой на рассвете. Стоя на посту, Галкин видел, как он вышел из дома, спустился по тропинке вниз к ручью, напился и, затянув потуже ремень, не оглядываясь, пошел в сторону нейтралки.
Только поздно вечером, улучив момент, Галкину удалось заскочить в избу Грошевых. Младшие Савушкины были одни. Фрося, подражая голосу матери, рассказывала:
– В некотором царстве, в некотором государстве жили-были король с королевой… – она посмотрела на темные окна, на старого солдата, молчаливо стоявшего у порога и добавила: – И еще у них был старший братик Миша… Галкин вышел тихо, как Саватеев, притворив дверь.
Через полчаса полк был поднят в наступление.
КЛАРА
Повесть
Призрак воли
Готовиться к побегу начали в феврале. По мнению Валерия Боева, за два месяца – февраль-март – можно запасти достаточно сухарей.
– По сухарику в день, – говорит он, – на большее не потянем. Ломоть отрезать не тоньше мизинца и не поперек пайки, а вдоль!
Сушить сухари в бараке – дело сложное, от печки не отойдешь – сопрут, спрятать невозможно – сухарь пахуч. Голодный зэк может настучать, а надзор тут же усечет: готовят побег. Приходится соваться то в КВЧ – там у Боева культоргом однополчанин – бывший политрук Сачков, то к дневальному каптерки Сергееву, он сам иногда на своей печке то хлебец, то картошечку поджаривает.
Хранить готовый запас еще сложнее. В бараке нельзя, доверить Федьке-сапожнику рискованно, должность у него блатная, ее за особые заслуги дают, а какие на зоне особые заслуги, кроме стукачества? Остается дневальный барака. Но он за так чужое добро хранить не будет, надо делиться.
Наш дневальный Сохатый – бывший честняк[14]14
Вор в законе.
[Закрыть], но не из теперешних, а еще доежовских, закон знает и ко мне относится с уважением: никто на ОЛПе не сможет написать прошение так, чтобы самого зэка слеза прошибла! И еще он любит слушать романы. Старому вору невдомек, что все эти «Кровь на коже», «Сашка-потрошитель», «Монашка-убийца» специально для таких, как он, сочиняю я сам, внаглую, заботясь только, чтобы чего на напутать. О том, что Лев Толстой и Пушкин не писали подобной галиматьи, им не приходит в голову, а если этот недоумок профессор Свирский сунется со своими «открытиями», Сохатый его за яйца повесит, для него романы – дело святое, это единственный уход от действительности, погружение в мир грез, почище ширяева[15]15
Любой наркотик, не обязательно тот, который нужно растворять.
[Закрыть]. Ширяево не каждому по карману, за него надо платить башлы немерянные, да и отключка чревата бедой: привыкнешь быстро, а отвыкнуть уже не сможешь.
Пришлось остановиться на Сохатом.
Одно из условий выжить на зоне – не думать о плохом. Бывший полковой разведчик лейтенант Боев о плохом не думает. Нас собирает, только чтобы уточнить детали побега.
– Главное, дойти до «железки», – внушает он.
До нее, то есть Транссибирской магистрали Москва– Владивосток, больше семидесяти верст по тайге. По словам повторника[16]16
Повторник – человек, отсидевший срок до войны и получивший новый, чаще уже по политической статье, но за ту же вину.
[Закрыть] Томилы, тайга здесь сильно заболочена, много незамерзающих болот – Томила в тридцатые годы строил здесь дорогу – потом ее забросили – и все знал. Он бы и сейчас пошел с Боевым, да прихватила старого лагерника пеллагра[17]17
Последняя стадия физического истощения, дистрофия неизлечимая.
[Закрыть], теперь ему не воля, а деревянный бушлат светит.
Лейтенант назначил время побега на первые дни апреля: лютых морозов уже нет, даже солнышко показывается, а болотам еще таять и таять…
– От погони оторваться – плевое дело. Если с умом…
– А с умом – это как? – интересуется бывший доцент Киевского университета, кандидат философских наук Прокопий Полищук.
В отличие от нас, он – настоящая контра. Если я, к примеру, похвалил американский студебеккер и сдуру ругнул нашу советскую «полуторку», за что получил червонец, то Полищук на собрании при всем честном народе сказал, что товарищ Ленин был неправ, искореняя религию. Что-де православная вера всегда спасала народ во дни бедствий и, даст бог, опять спасет, если начнется война с немцами… Сказал так за четыре года до нее, когда с немцами была дружба, и его посадили.
– С умом – это врассыпную, – говорит Боев, – погоня кинется за одним – на всех у ВОХРы людей не хватит – и тут уж кому повезет…
В нашей группе четверо. Кроме меня, Боева и Полищука есть еще Котик Вавилов. Он тоже бывший фронтовик, но в войну служил писарем при штабе, в атаки не ходил, ранен не был, боевых наград не имеет, зато сохранил здоровье и завидную моложавость. Он считает себя заместителем Боева, хотя никто его в этой должности не утверждал.
– Все продумано, – говорит Боев, и мы понимаем, что ничего не продумано, да и что можно предусмотреть, сидя в зоне?
Семьдесят километров или верст, как их называют в Сибири, по зимней тайге, где снег выше колена, где нет ни дорог, ни человеческого жилья, с запасом сухарей на три дня – не просто авантюра, а самоубийство, но нам очень хочется хотя бы немного побыть на свободе.
– Сухари лучше поберечь. Главная еда – запасы белок, бурундуков и прочих… – Валера замолкает.
Он не знает других животных в тайге, делающих запасы на зиму.
– Мне один человек рассказывал, – продолжает он, – сибиряк-охотник, он ходил в тайгу с одним сухарем и двумя небольшими мешочками, в одном – табак и спички, в другом – соль. Мясо добывал силками и капканами. Чего поймает, шкурку сдерет, на вертел тушку насадит и через полчаса – жаркое: заяц или белка.
– Он что, и белку ел? – интересуется Котик.
– С голодухи и крыс едят, – мрачно вставляет доцент, и мы замолкаем: крыс из нас, кажется, еще никто не ел…
В Валере мало лагерного и много от прежней жизни, особенно фронтовой. В лагере он недавно, оголодать, как Полищук, не успел, жена регулярно шлет посылки, которыми он делится с нами, только сало и чеснок бережет для побега. Он по-детски доверчив и по-фронтовому верит в дружбу. Мы, зэки со стажем, все это давно забыли.
Самый старый из нас Прокопий Полищук – ему уже за сорок – сказал как-то:
– Валера – мальчишка. Втянул нас в авантюру.
– Чего ж ты лез?
Он поежился, нахохлил бушлат и стал похож на старого петуха.
– Хрен его знает, чего. Вы с Котиком рванули, ну и я, старый осел… Наверное, тоже свободы захотел: хоть день без конвоя.
И уже в бараке, укладываясь спать, признался:
– Боюсь одного: как бы по моему следу не пустили старшину Гребнева с его собакой, тогда – хана.
Он накрылся с головой одеялом – типичная привычка зэка, – но еще долго вздыхал и кашлял.
О старшине Гребневе я услышал сразу по приходе на этот ОЛП. Говорили, бывший фронтовик, орденов и медалей – полный «иконостас», ростом высок, физически силен, по тайге носится как лось. Одни говорили, что задержаний у него 235, другие, что много больше, но все дудели в одно: не приводит он беглецов! Кончает в тайге! Потом по его следу посылают лошадь, возница-зак цепляет убитого за ноги к саням и волокает в лагерь. У вахты бедолагу кладут у самых ворот, чтобы зэки, выходя утром на работу, видели и понимали, что и с ними будет то же, если побегут.
О собаке Гребнева тоже слышал – какой же собаковод без собаки, – а вот кличку такую встретил впервые. Его собаку звали Кларой. Мне она представлялась громадной псиной – вроде тех, что сопровождают нас каждое утро на работу и обратно. Как же эти твари нас ненавидят! Захлебываясь лаем, прямо кидаются на каждого. Запах наш что ли не нравится, или черные бушлаты приводят в бешенство?
Подъем в шесть утра всегда неожиданен. Кажется, только-только задремал… Проснувшись, расталкиваю Полищука.
– Ну ты здоров спать, доцент! – но тут бросается в глаза его багровое лицо. – Похоже, тебе в санчасть надо, авось, лепила даст кантовку. У тебя жар.
– Хрен даст, – отвечает Полищук, – у меня стабильно: тридцать семь и два, до нормы не дотягивает.
Он тяжело поднимается, кашляет и не спешит вставать с нар. Я приношу ему сухие портянки от печки и валенки.
Он этого не замечает. Ему раз в месяц приходит посылка от старушки-матери – сухари и немного сала или бутылка масла. Однако то, что ему присылают, а мне нет, ставит его на ступеньку выше, и нет ничего удивительного, с его тачки зрения, что я подаю ему теплые портянки, а не он мне…
– Вторая бригада, на завтрак! – орет Сохатый.
Орать что есть мочи ему нравится, после этого народ устремляется к выходу и создается впечатление причастности Сохатого к маленькой частице большого начальства.
– Сохатый – сука[18]18
Сука или отошедший – вор, нарушивший воровской закон. После этого он переходит в другую «масть» – ссучившихся. По тем же «законам» каждый вор в законе обязан при встрече убить «отошедшего», иначе убьют его самого. Поэтому в тюремных камерах, а также на этапах и в ГУЛАГе суки и воры в законе сидят в разных вагонах.
[Закрыть].
Когда-то давно на девятом ОЛПе во время жестокой резни между блатными Сохатый дрогнул и бросился в запретку под защиту стрелка. И хотя в дальнейшем за всю двадцатилетнюю лагерную жизнь он ни разу не преступил воровского закона, урки ему того поступка не простили.
После крика Сохатого шум в бараке усиливается, с верхних нар прыгает заспавшаяся молодежь, эти за столы сядут первыми и пайку выберут какую надо – серединку с поджаристой корочкой, и из-за стола встанут последними: не любит молодежь выхода на работу.
Мы с Полищуком приходим с опозданием. Сегодня он мне особенно не нравится: щеки обвисли, кожа белая с желтизной, взгляд тусклый. У дверей столовой нас ждет Валера. Бригада уже «отстрелялась» и теперь топчется в дверях, у кого есть махорка – закуривают, остальные ловят дым ноздрями.
– Сегодня в двенадцать у Трухлявого, – тихо говорит Валера.
Он как будто не замечает согнувшегося в кашле доцента. Валера молод, крепок телом, тренирован, владеет приемами рукопашного боя и недолюбливает хлюпиков. Сегодня он явно сдобрил баланду топленым маслом из посылки и положил на хлеб кусочек сала…
– Нате вот, – он сует нам по луковице, – схаваете в обед.
Я свою кладу в карман, Полищук впивается в нее зубами. На нежной белизне сибирского «фрукта» остается кровь с его десен.
Мы идем к столу, где наши бригадники долизывают миски – каждый свою.
– Еще бы минута, и слопали бы ваш завтрак! – шутит четвертый член нашей группы Котик Вавилов. – Ну как, доцент, сегодня наточишь мой топор?
– Не мое дело – точить топоры, – глухо отвечает Полищук.
– А мой хлеб жрать – твое?! – вскрикивает Котик.
Есть повод покуражиться. Топоры точат в мастерской возле зоны, в оцепление инструмент привозят кучей, но каждый берет свой топор: плохим много не наработаешь. В мастерской же точат небрежно, а иногда и вовсе пропускают.
– Падло! – орет Котик, и все молчат: Вавилов прав…
Свою кликуху он получил при смехотворных обстоятельствах. Когда этап с Лубянки привезли на Москву-Товарную к вагон-заку, Вавилов в толпе зевак увидел свою кралю и помахал ей рукой. Она его тоже заметила и крикнула:
– Держись, Котик! Я тебя люблю!
Рабочий день начался как обычно, задолго до рассвета. Следом за бригадами привезли инструмент, бригадиры развели своих по делянкам. Работяги лениво подергали пилы и сели покурить. В этот час никто никого не подгоняет, не шлепает по загривку тяжелой рукавицей – в этот час все подобное бессмысленно.
С трудом доработав до обеда, мы пошли навестить Трухлявого. С ним Валера завел дружбу недавно, но здорово преуспел: у старого конвоира на фронте погиб сын такого же возраста, других детей Бог не дал. Старуха померла сразу после войны, и Трухлявый доживает век. Скорее по инерции: служит в ВОХРе, дома нянчит внуков – детей племянницы, неизвестно от кого прижитых. У него ревматизм, подагра и, кажется, туберкулез. В ВОХРе он служит последнюю зиму, весной уйдет на пенсию сажать картошку и, если ноги не подведут, рыбачить. Нижняя Тунгуска, по его словам, сильно богата рыбой. Ловятся и щуки, и налимы, и язи, попадаются хариусы и даже стерляди. Одну такую чудо-рыбу он как-то принес в оцепление для Валеры.
Мы понимали, что за поведением нашего вожака кроется хитрость, он хочет устроить побег во время дежурства Трухлявого. Участок тайги, где ведутся разработки, называется оцеплением. Еще до прихода бригад стрелки обегают вокруг этого участка на лыжах. Переход лыжни считается побегом, охрана стреляет без предупреждения. Однако внутри оцепления валежник сухой давно сожгли, и теперь для костров, где обогревается ВОХРа, ходят за оцепление, иногда довольно далеко. Заготовители сушняка идут в сопровождении охранника, чтобы перейти лыжню, надо получить разрешение начальника конвоя. Можно, конечно, жечь сырые сучья – их скапливаются горы, – но сырое дерево сильно дымит, стрелки матерятся – густой дым ест глаза, застилает от них наблюдаемый участок. Случалось, зэки использовали эту дымовую завесу для побега.
Между советским лагерником и серым волком много общего. Оба наблюдательны, осторожны, терпеливы, неслышны. У обоих один смертельный враг, оба отличаются жестокостью, и оба всегда голодны. У них нет чувства товарищества, преданности дружбе и даже любви к самке.
Год назад у нас на ОЛПе зэк зарезал молодую врачиху, имевшую глупость влюбиться в красивого умного парня, получившего срок, по его словам, за чужие грехи. Романтика, присущая молодежи, и неопытность, а тем более врожденная интеллигентность и гуманность, естественная для двадцатитрехлетней москвички, непонятна уголовнику. Любовь их была короткой и безоглядной. Они встречались ночью в медсанчасти – зэк подделал ключ от двери. Потерявшая голову от любви девушка не задумывалась о последствиях. Скорей всего, он уверил ее, что срок его скоро кончится и тогда они вместе уедут далеко-далеко… Будь на ее месте другая, более практичная и трезвая, она бы наверняка поинтересовалась в первом отделе о заключенном из второго барака…
Между волком и зэком есть только одно различие: волк убивает исключительно для еды. Зэк зарезал свою единственную любовь, проиграв ее в карты. Окровавленный белый берет ее еще долго валялся в подсыхающей кровавой луже.
* * *
Время, назначенное Боевым, стремительно приближалось. Вместе с тем нарастала тревога. Подставлять Трухлявого – и без того несчастного старика – нам с доцентом не хотелось. Котик с Валерой смотрели на это иначе.
– Его не расстреляют, – убеждал Боев, – даже не посадят. Просто выгонят из ВОХРы, а он и так собирался уходить.
Убеждая нас, Валера при этом отводит взгляд в сторону.
Другое дело Котик. В последнее время мы стали его опасаться. Он подружился с урками, проводил в их бараке вечера, как я понял, накапливая недостаточный лагерный опыт и совершенствуясь в фене[19]19
Блатной жаргон.
[Закрыть]. Уркам он показывал карточные фокусы и вскоре стал для них своим. На нас с доцентом смотрел свысока – теперь у него имелись покровители.
Когда мы подошли, старик сидел спиной к ветру и дремал. На нем были серые валенки выше колен, ватные штаны и старенький полушубок с заплатками возле карманов. Воротник поднят – охранник боится простуды. Дослуживая последние месяцы, он не очень внимательно следит за нами, за его спиной можно пробежать незамеченным. Вот только контрольную лыжню без него не перейдешь…
Вечером к нам в барак пришел Боев. Долго молча курил, а уходя, сказал тихо:
– Думаю, мужики, на той неделе и полетим. В среду или в пятницу. Если пурги не будет, – и ушел.
Среда и пятница – дни, когда дежурит Трухлявый. Значит, несмотря на наши просьбы, Боев делает ставку на него.
– Тебе не жалко старика? – спрашиваю я.
Доцент жмется, молчит, затем нехотя произносит:
– Мы с ним по разные стороны колючки. Сейчас он стар, немощен. А что делал в сорок лет? Те, кто знал его в те годы, давно за зоной, в овраге. Подумай, какие времена были.
– Хочешь сказать, стрелял нашего брата? Выслуживался?
Доцент пожимает плечами и молчит. Ему не повезло: попал в концлагерь задолго до войны. Теперь доходил, и было непонятно, зачем Боев включил его в нашу группу. Неужели из-за лагерного опыта? Но таких на ОЛПе пруд пруди. И вдруг понял: Полищук и Трухлявый знают друг друга очень давно. Возможно, еще с довоенных времен. Недаром старик водил нас за сушняком не иначе, как в компании с доцентом. Он знает Полищука как порядочного человека и верит ему, а через него – нам. Что если лейтенант догадался об их симпатии? Почему тогда доцент вешает мне лапшу на уши?
Просветлело не сразу. Полищук, как старый зэк, не доверяет никому, а старика ему просто жаль. Чем ближе становился день побега, тем муторней было на душе. Побегов на ОЛПе случалось много, но только двоим удалось уйти с концами. Всех остальных ловили и после короткого суда направляли на штрафной ОЛП, уже с большим сроком.
Только дожить до суда удавалось не всем. Большинство оставалось лежать в тайге с дыркой в голове, чтобы потом мирно лечь у лагерных ворот…
Боев приходил в наш барак каждый вечер и начинал разговор о родных – он опасался, что в последний момент мы дрогнем.
С доцентом все было в порядке: жена отказалась давно, детей нет, старуха-мать едва ли доживет до его освобождения. «Врагу народа» Прокопию Полищуку аккуратно добавляют срок, и теперь у него отсиженных накопилось более четырнадцати лет. Оставались я и Котик Вавилов. Но у меня впереди семь лет лагерей, дома еще не старая мать. Переживет, если что… Хуже с Котиком. У него кроме жены и малолетнего сына есть еще любовница, которая тоже ждет и шлет письма, от которых Котик впадает в оцепенение. В такие минуты его лучше не трогать, может, не глядя, треснуть кулаком по чему попало.
В предпоследнюю ночь перед побегом не спали не мы одни. Каким-то образом соседи по нарам прознали о нашем замысле и теперь решали вслух – рванем ли мы через забор прямо из зоны, минуя запретку, или из оцепления в тайге… Интерес прямой; если нам удастся, почему бы и другим не попробовать?
Кое-кто пытался втереться в доверие, один даже предлагал большую ценность – пачку чая.
– Если силы иссякнут, засыпь в котелок, повари минут пять, охлади и пей. Побежишь, как лось.
Вообще ни одна подготовка к побегу для зоны не осталась тайной. Нет на свете существа приметливее зэка, но доверять рискованно, а иногда и смертельно – продадут с потрохами. Вместо воли окажешься в БУРе[20]20
БУР – барак усиленного режима, по сути дела, карцер.
[Закрыть], и надзиратели, развлекаясь, будут ломать тебе ребра и отбивать сапогами почки.








