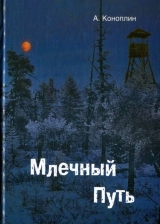
Текст книги "Млечный путь (сборник)"
Автор книги: Александр Коноплин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
– Постой, – прервала Тина, – ведь Каппель воевал за белых?
– Да, он присягал царю и выполнил свой долг до конца.
– Значит, наш враг, – Тина легла на спину, задумалась.
– Нас с тобой тогда еще на свете не было, – напомнил Прохор, – а наши мамы были маленькими девочками.
– Все равно враги. Он и его офицеры сражались за царя, значит, враги.
– Не так все просто, – Прохор встал, закурил и долго ходил по землянке, пытаясь успокоиться. Получилось то, чего он никак не ожидал: его умница Тина восстала против истории! Терять женщину из-за расхождения в политике было глупо, и он решился:
– Понимаешь, то, что нам с тобой объясняли в школе, не совсем то, что было на самом деле.
– Что значит не совсем?! – Тина почти кричала: родной человек на глазах превращался во врага! – Что значит не совсем?!
Прохор сел рядом – она даже не подвинулась.
– Наше с тобой время началось после того, как Россия превратилась в совсем другое государство – советское. Такого на Земле еще не бывало. В нем все, чем жила Россия сотни лет, пошло под нож: рушились церкви, преследовались верующие, сама религия оказалась под запретом. Люди, тот самый наш народ, все те, кто молился в церквах, крестил детей, теперь разрушали эти церкви, жгли иконы, даже убивали священников! Более того, как выяснилось, большевикам оказалось, не нужны интеллигентные, образованные люди. Даже Ленин – сам выходец из культурной семьи – публично назвал ученых, учителей, писателей – гнилой интеллигенцией. Когда иностранцы спрашивали, как страна будет жить без ученых, конструкторов, врачей, Ленин отвечал, что советская власть вырастит и воспитает кого ей надо в нужном количестве. При этом, сказал он, среди них не будет потомков дворян, царских чиновников и прочей буржуазии. Она вся будет уничтожена. Кстати, твой отец ведь тоже интеллигент. Ты сама рассказывала, сколько в доме было книг и как отец любил делиться своими знаниями со всеми желающими. Кажется; ты даже говорила, что он видел в этом свое назначение в жизни… Но он жил в деревне. А что было бы с ним, если бы он переехал в город? Книжник! Просветитель! Террор, который тогда гулял по стране, был направлен и против таких, как он, народных просветителей. Просвещать народ можно было только по написанному Марксом, Лениным, а он ведь просвещал по-своему, от себя, от своей души!
– Да, – сказала Тина после долгого раздумья, – незадолго до войны арестовали и вскоре расстреляли двух моих дядьев, родных братьев отца, именно за это. Они ходили по деревням и агитировали против колхозов – так нам потом говорили. Хотя отец сказал, что власти врут; его братья агитировали не против колхозов, а против случайных людей в этих колхозах, присланных из города неизвестно зачем, ничего не понимавших в сельском хозяйстве людей, когда в деревнях своих специалистов было хоть отбавляй. Никто лучше крестьянина не знает, что и когда нужно сеять и убирать. А эти пришельцы навязывали крестьянам какие-то, часто совсем глупые, инструкции. Братья отца не были дундуками, один был агрономом, другой ветеринаром, они тоже много читали и много знали… Детишек и то не пожалели: остались мал мала меньше, так их всех, оптом, в детский дом для детей репрессированных…
Оба долго молчали, потом Прохор сказал:
– Вот ты возмутилась, что мой дед служил белому генералу. Да, служил. Такому, как Владимир Каппель, и я бы не прочь послужить. Умнейший человек, благородный воспитанный. Все, что с нами произошло, начиная с семнадцатого года, он предвидел и потому боролся против большевиков, не щадя жизни.
– Но он воевал за белых! – крикнула Тина, она все еще не могла смириться с услышанным, – А значит, предатель.
– У тебя в голове каша. Он никого не предавал. Наоборот, служил своему Отечеству, а это Долг. У всех его соратников Долг был превыше всего. Так же, впрочем, как и в нашей семье, но об этом я уже говорил. Может быть, когда-нибудь ты это поймешь.
– Но ты-то служишь власти, которую, как я поняла, не уважаешь. Почему же ты ей служишь? Не согласен с ней – иди к бендеровцам или перебеги к немцам, воюй против нас!
– Я служу не власти, а Отечеству, своей Родине. Сейчас она в опасности. К этому меня призывает мой Долг. Я не могу предать ни Родину, ни моих товарищей Тимоху Безродного, Егора Псалтырина, ни других. Наконец, просто не способен стать предателем. Пойми: я присягу давал! Помнишь, в «Капитанской дочке»: «Прощай, Петр, служи верно, кому присягнешь». Я присягнул стране, в которой родился и вырос, которую люблю. Правители приходят и уходят, а Родина остается…
Неожиданно Тина прервала его:
– У тебя есть еще водка? Дай!
За мутным окошечком вставала заря.
* * *
Как понял Ланцев, наступление на Решицу и Гомель отменяется или переносится. До сих пор, несмотря на плохую подготовку, на отсутствие резервов, на несогласованность командующих, людей в назначенное время перед красной датой гнали толпами, эшелонами, необученных, неподготовленных, прямо с колес швыряли в пекло лишь ради того, чтобы вовремя отчитаться перед верхами.
Так что все-таки произошло сейчас? Мучимый этими вопросами, Прохор иногда не замечал, что разговаривает сам с собой. Неужели Рокоссовский действительно поломал идиотский принцип и решился на отчаянный шаг? Кремлевские сидельцы ему этого не простят, и никакие успехи в грядущих боях не избавят его от кары, ибо идеология – превыше всего! Идеологи в Кремле продолжают верить, что одно упоминание об Октябрьской революции вселяет в сердца солдат энтузиазм, который эти старцы помнят еще по семнадцатому году, когда орды красных конников с обнаженными шашками неслись на вражеские пулеметы, выполняя священную для них миссию – умереть за революцию. Но нет больше тех конников, как нет и массы единых идей, а есть война, не в пример более кровавая и многотрудная, есть пот и кровь тысяч русских мужиков, движимых на огонь немецких батарей не лозунгами, а пулеметами заградотрядов, целящих между лопатками всякому, кто не согласен умирать бездарно, подобно быку на бойне. Когда-то, в начале его войны, и Ланцев был таким быком. После трехмесячного обучения его направили под Москву в саперный батальон. Прохору тогда было девятнадцать неполных лет, он, как все его сверстники, верил, что война будет недолгой, победоносной, что Красная армия всех сильней.
Тяжелые бои на смоленском направлении, видимые простым глазом ошибки командиров, огромные, необоснованные людские потери, неразбериха, бесхозяйственность и воровство отрезвили Прохора. Он первым среди сверстников усомнился в правильности всего происходящего. Дух сомнений укрепился в боях под Ельней. Лето 1942-го он встретил в должности командира стрелкового взвода, немного позже – и роты. Столь быстрое продвижение по службе не вскружило ему голову, а, наоборот, заставило с большей ответственностью относиться к своим обязанностям, работать мозгами, а не правой рукой, вынося ладонь под козырек, всякий раз выслушивая приказ полуграмотного командира. Его служба была замечена, боевые действия, их правильный выбор, а также особенная забота о подчиненных позволили командованию дивизии выдвинуть его на должность командира разведроты. Обычно зеленым лейтенантам такое не светило. Прохор был искренен в своих желаниях приблизить победу любой ценой.
Первым его понял Тимофей Безродный, тогда простой солдат, воспитанник детского дома. Второй была, как ни странно, Тина. Оказалось, ее тревожат те самые чувства, что свою службу снайпером она рассматривает как возможность сделать как можно больше для победы. После их недавнего ночного разговора прошло совсем немного времени, когда она сказала:
– Ты не думай, Прохор, что я такая уж темная. Вот ты мне про белых офицеров рассказывал, про их долг перед Родиной. Я и это очень даже понимаю. Что, думаешь, я таких в своей жизни не встречала? Директором школы в соседнем селе, где я тогда училась, был отличный человек по фамилии Малов. Анатолий Алексеевич Малов. От него я впервые услышала об офицерском долге. У меня тоже имеется долг. Перед своими. Думала: вырасту, устроюсь на хорошую работу, буду деньги зарабатывать и родителям отсылать, а маме на платье куплю такую шикарную материю, о которой она всю жизнь мечтала, а папе часы карманные с цепочкой. Не привелось. Зато другой долг у меня родился – знаешь, какой? Только ты, Проша, больше ни с кем о долге не заговаривай. Не те нынче времена. Ваш офицерский долг вместе с религией в расход списали, навечно. Ты от своих товарищей когда-нибудь слышал о доле? Во-от! А моего дядю за два слова посадили и расстреляли, а ты мне тогда целую лекцию закатил. Ни к чему это, народ ведь не дурак, все понимает и многое помнит. А вот за то, что я в тебе не ошиблась – благодарю. Не можешь ты предать нас с Тимохой и всю службу военную. Мы с Людой Павличенко однажды на одного замполита наткнулись. Врал он солдату, будто слышал, что после войны колхозов не будет. Те уши развесили, слушают. Известно, не всем они пришлись по душе, многие и пострадали. Это те, у кого голова на плечах умная и руки где надо привинчены. Им свое хозяйство во сне снится, а таких немало. Вот замполит на эту кнопочку и нажал… А тут мы. Людмила хотела его сразу в Особый отдел тащить, да я отговорила: там его шлепнут сразу, а тут, глядишь, и послужит еще, повоюет. Конечно, тому замполиту жопу надрать следовало, не до смерти, а так… Да, по-всякому командиры своих солдат в бой посылают. Иной уговорами – это плохо помогает, иной матерком, а то и пинком, третий россказнями о послевоенной жизни, будто водку будут всем защитникам Отечества выдавать бесплатно и награды на грудь всем будут вешать… А как иначе? Чтобы их поднять в атаку, какая сила нужна! На смерть ведь идут, не на свадьбу! Да, многие хотят без колхозов жить, только, я думаю, не выжить нам без них. У мужика по природе заложено одно: старается он как можно больше под себя загрести. А такое и раньше было – мне батя рассказывал, и ему наплевать, что сосед бедствует. А в колхозе все равны, завидовать некому. Зависть – это хуже ненависти, из-за зависти и убить, и обобрать могут. Опять же, мужик наш от природы вороватый. Ну, не пройдет мимо, если что плохо лежит! А насчет того, что обирают их как липку, – это точно. «Все для фронта, все для победы» – это понятно, это – сейчас. Но ведь и до войны обирали! Кабы не огород – клади зубы на полку. Вот ты видел наши книжечки, где трудодни отмечались? Вместо каждого трудодня там палочку чертили. Обещали на каждую палочку по столько-то килограммов зерна, мяса, того-сего… И ни шиша не давали. За «палочки» работали. И это тоже все – до войны. Почему так? Ведь обещали! У нас радио над столом висело. Из него мы узнавали, как хорошо живем, сколько у нас всего… Отец слушал спокойно, а мама не могла – выключала. Говорила, издевательство это. Так и жили: по радио одно, по жизни другое. Так что даже очень хорошо твоих белых генералов понимаю: очень им хотелось вернуть в страну прежний порядок. Конечно, больше для себя старались, но и нам бы, может, полегче было. По крайней мере, моих дядьев не за хрен собачий не расстреляли бы.
В другой раз она сказала:
– Ты думаешь, я не понимаю, что в живых людей стреляю? Не… я понимала, а вот Людка, напарница моя, не понимала, а ведь немцы тоже все разные. Один так нам сказал: «Не стреляйте, фрау, по нам, мы не фашисты, нас погнали на войну».
– Ты что, по-немецки понимаешь?
– Я – нет, а Людка понимала. Она пальнуть по нему не успела. Вышел он с поднятыми руками. А таких убивать нельзя, они в плен сдаются.
– Наши немцы, которых мы караулили, тоже вышли с поднятыми руками.
– Их тоже нельзя было стрелять. Кто сам сдался, тот уже пленный и под эгидой… забыла, как это называется…
Глава четвертая. Бойня
К Лоеву стягивались войска 2-го Белорусского фронта. Последними прибыли два кавалерийских корпуса и разместились вначале вдоль левого берега Днепра и Сожи от Лoeва до Радули, потом один из них в ночь на девятое ноября на плотах форсировал Днепр и занял позицию возле Ручаевки. За ним второй корпус, совершив тот же маневр, остановился севернее Лоева возле Переделок. По причине непролазных болот и усилившихся дождей оказать корпусам поддержку артиллерией не было возможности. Конники пользовались своей легкой артиллерией и минометами на конной тяге. Авиация не проводила даже разведку– над всем районом боев стояли низкие облака, временами проливавшими холодный дождь на головы людей. Как сказал Кислов во время второго свидания, основные силы всего Белорусского фронта двигались вдоль Сожи на Гомель, но у них ощущался острый недостаток в артиллерии, танках и другой тяжелой технике.
– Все отдано Центральному фронту, там решается судьба войны, а мы лишь фланговое прикрытие.
Наступление началось десятого ноября на рассвете. Оба кавкорпуса одновременно снялись с позиций и выступили в район Василевичей с целью занять Дубровичи, Макановичи, Защебье, также более мелкие населенные пункты и, выбив из них полицейские гарнизоны, занять железную дорогу Мозырь – Гомель. Однако, двигаясь вдоль железнодорожного полотна, разведчики обнаружили, что мост через Днепр взорван. Верные долгу продолжать рельсовую войну белорусские партизаны старательно выполняли приказ Верховного. Не доходя до Салтанова, оба корпуса разделились, один пошел на Речицу с севера от Глыбовска, другой с юга, от Левашей. Небольшой речицкий гарнизон, состоявший, в основном, из полицаев, разбежался при подходе конников. Далее путь кавалеристов лежал на Гомель, но при форсировании Днепра начались серьезные осложнения: возле Жмуровки немцы оставили мощный заслон из тяжелой артиллерии и танков. Вкопанные в землю, они в нужный момент кинулись к переправе. Подошедший с севера кавкорпус после жестокой кавалерийской атаки смял заслон у Жмуровки, но потерял две трети личного состава. В дальнейшем оба корпуса шли параллельно железной дороге и соединились с главными силами фронта для завершающего удара. Тридцатого ноября Гомель был взят.
В кавалерийском рейде разведрота Ланцева не участвовала, согласно приказу командования, она все время шла берегом Сожи, уничтожая разбросанные по равнине полицейские посты. Следом за разведротой двигался полк, а за ним и вся двести двадцатая Краснознаменная стрелковая дивизия, изрядно потрепанная в боях под Крюковкой, Городней и Черниговом.
Не имея для себя никаких новых распоряжений опергруппы, Тина все время шла вместе с Прохором, к ней привыкли, как привыкают к молодой и красивой медсестре, необходимой всем, а потому ничьей конкретно. Тина не была медичкой, но за время службы научилась многому из этой профессии и не раз оказывала помощь раненым. Все звали ее ласково Тиной или Кристиной, и только влюбленный в нее Тимоха называл ее Голубкой. У нее был незлобивый характер и умение ладить со всеми. Командир первого батальона капитан Хряк какое-то время надеялся на успех, но после рождения сына у медсестры забыл про Тину и весь отдался отцовским чувствам. Даже к солдатам его отношение изменилось, ведь многие по возрасту могли быть его сыновьями… По просьбе жены он почти бросил пить, стал к подчиненным обращаться вежливо и Ланцева, своего недавнего соперника, воспринимал скорее как приятеля.
Однако осведомители делали свое дело, о любовных связях комбата с подчиненной летели депеши в штаб дивизии. В конце концов, мадам Вострякову демобилизовали и отправили на родину в далекий Ковров, снабдив новорожденного богатым приданым, а Хряку влепили строгий выговор, но должности не лишили – предстояло наступление на Гомель, а такие воины, как Хряк, на дороге не валяются…
Проводив Вострякову, теперь уже жену, Хряк набросился на выпивку: по его словам, горело нутро, – но после дружеской беседы с Прохором Ланцевым стал пить умеренно, с оглядкой на будущее, которое ему наглядно нарисовал хитрый разведчик Ланцев. Однажды, на подходе к Рогачеву, он признался Прохору, что всегда его уважал, и только служба мешала ему в этом сознаться… В тот вечер они впервые выпили вместе и заснули в телеге на сене, прикрытые еще и брезентом от посторонних глаз – ординарец командира полка знал свое дело.
Разбудил обоих командиров внезапно начавшийся обстрел позиций роты. Первым немцев обнаружил Тимоха Безродный, кинулся искать своего командира, но тот уже шел навстречу, опухший от пьянки, с торчащими отовсюду соломинами. Но кроме Тимохи Ланцева искала и Тина: впервые ее Прохор отлучился из роты, не оставив следа.
Между тем, пулеметный огонь становился с каждой минутой все плотнее, появились первые раненые. Теперь немецкие крупнокалиберные били уже с трех сторон. Одна из светящихся трасс пролетела низко над головой Тины. Она машинально присела, а Ланцев поднял и, прижав к себе, сказал:
– Какая ты у меня… красивая!
Она не оттолкнула его, но потянула за рукав в ближайший окоп. Там он еще раз поцеловал ее и лишь после этого стал командовать ротой. Таким безбашенным Тина видела его впервые. Он вылез из окопа и стоял на бруствере, как какой-нибудь дервиш, показывая бойцам, что немцев не надо бояться… Через секунду она все поняла: его разведчики, застигнутые врасплох обстрелом, готовы были разбежаться или отступить куда-то, вглубь обороны, а ее Прохор не мог этого допустить.
Должно быть, увидев его на бруствере, разведчики пришли в себя, сгруппировались и заняли оборону по всем правилам. Теперь они ждали команд. И команды поступили. Прежде всего Ланцев подозвал к себе Псалтырина с пулеметом – с пригорка, где он стоял. Были хорошо видны вспышки выстрелов, трассы. Как понял Ланцев, немцы заняли давно подготовленные позиции и были хорошо обеспечены боеприпасами. В распоряжении Ланцева имелось два пулемета, из которых один был ручной, и с полсотни автоматов – рота была неполного состава. Еще, что показалось Ланцеву подозрительным, это слишком точная стрельба противника. Как правило, немцы стреляли хуже его разведчиков, сейчас он бы этого не сказал…
Эти сомнения Ланцева мало беспокоили Тину, сейчас она переживала только за жизнь Прохора, ей казалось, что у нее нет и никогда не было человека дороже его, и она была готова закрыть его своим телом, если бы от этого ему была польза. Сидя в окопе, она не спускала с него глаз и молилась Богу, чтобы он сохранил жизнь ее любимому. О себе она не думала, она с остротой вспоминала все последние минуты свидания с ним и была уверена, что это и было ее единственное в жизни счастье. Она боялась его потерять.
Неожиданно появившийся в окопе Тимоха Безродный возник из ниоткуда, Тина не поняла чего ему надо от нее и сопротивлялась, когда он потащил ее куда-то за рукав. А тащил он ее на место, которое сам для нее присмотрел, удобное для стрельбы снайпера.
– С того пригорка они – как на ладони! – кричал он. У него все лицо было измазано землей, копотью и еще чем-то липким.
Не сразу она поняла, что Тимохе пришлось драться врукопашную. Не раздумывая, она побежала за ним и легла в неглубокую ямку, словно нарочно вырытую для снайпера. Стараясь больше не думать о земных делах, она прежде всего попыталась трезво оценить найденное Тимохой «шикарное местечко». Для Тимохи оно могло сгодиться, для снайпера – нет. Оберегая винтовку от грязи, она скатилась с бугорка, легла в ближайшую ложбину. Обломав ближайшие кусты, расширила сектор обстрела, после чего глянула в окуляр на немцев. Ближе других – Тимоха в этом не ошибся – лежал пулеметчик с МГ. По тому, как он стрелял, она определила: опытный. Справа от него в зарослях вереска притаился его второй номер – Тина видела его стальную каску и две руки, направляющие ленту. «Старик» – так она назвала пулеметчика – бил явно в одну цель. Она повела головой направо и увидела Ланцева на бруствере окопа. Пулеметчик стрелял в ее Прохора! Бурунчики земли возникали в опасной близости от его ног, затем Ланцев исчез с бруствера, и Тина увидела блеск стекол его бинокля. Слава Богу, он не совсем сдурел! А пулеметчик продолжал бить в то место, где он только что стоял… Похоже, ему что-то мешало. Но что? Она привычно расставила локти, прижала приклад к правой щеке и выстрелила. Пулемет замолчал. У снайпера Кристины осечек не бывало…
Тина видела, как клюнул носом немец, как в испуге отвалил вправо его второй номер… Видела, как к убитому пулеметчику бросились со стороны – так всегда бывало у немцев, но никогда – у наших… Она знала, что сейчас начнется обстрел ее позиции, но решила пока не менять ее – отсюда действительно было хорошо видно неприятеля. Вторым и даже третьим выстрелом она могла уложить еще двоих, но тогда ей не уйти – немцы обычно сразу начинают обстрел из минометов. Однако она все-таки вспомнила наставления Павличенко. Прижав винтовку к груди, она откатилась в сторону, затем отползла назад и встала. Чтобы залечь в другом месте. И тут же у ее ног поднялись бурунчики – немцы стреляли из МГ. Однако недаром ее обучала сама Павличенко. Тина опрокинулась на спину, сделала вид, что убита, а затем, как могла, быстро поползла туда, куда убежал Тимоха. Там был его взвод, там работал пулемет Псалтырина, наконец, там был Прохор! Но немцы и тут настигли ее: совсем близко на ее пути стали взрываться бурунчики земли. Засекли! Она снова затаилась в неподвижности. Но звуки пулеметных очередей вдруг стали перемещаться вправо, и скоро она перестала различать звук пулемета Псалтырина. Она не видела больше перед собой немцев, и те два пулемета, которые нащупали ее вначале, больше не тревожили ее – их заменили взрывы мин в расположении роты. Она хотела еще раз переменить позицию – подобраться к немцам поближе, но странная лень – ей раньше незнакомая – не дала этого сделать. Вместо этого ей очень захотелось спать. «Симптом нервного перевозбуждения» – вспомнила она слова Людмилы Павличенко. Она знала, как с этим бороться, достала из кармашка маленький пузырек из-под какого-то лекарства – тоже по совету Людмилы – с малым количеством коньяка – не более ста граммов. Лежа, она запрокинула голову и прижала горлышко флакона к губам…
И увидела немцев. Четверо громил в серых мундирах стояли над ней полукругом, не шевелясь. В первую секунду ей даже показалось, что она бредит. Но в следующую – один из четверых сказал;
– Гутен таг, фрау! – нагнулся, чтобы лучше рассмотреть ее лицо. Она дернулась, чтобы достать из-за голенища нож, но другой громила схватил ее за руку.
– Дас ист штренк ферботен.
Второй говорил с акцентом, и если вначале она приняла их за бендеровцев, то теперь была уверена – это немцы! Их внезапный налет на роту разведки был выполнен профессионально – тут она не могла ошибиться, – так поступают разведчики, а их точная стрельба, которой мог позавидовать любой снайпер, только подтвердила ее догадку; на роту напали специалисты высокого класса. Когда-то она слышала о таких, но встречаться с ними не приходилось. Но почему на них обычные мундиры и нет эсесовских значков?
– Фрау говорит по-немецки?
Сказано почти чисто по-русски, с небольшим прибалтийским акцентом. Рядом с Сельцами было большое эстонское село, где люди говорили на двух языках: эстонском и русском…
Лежа, она исподлобья рассматривала всех четверых. Настоящие громилы. Решили поиграть? Если бы снайпером оказался мужчина, давно бы шлепнули. Неужели будут насиловать?
– Ауфштеен!
Теперь понятно, насиловать не будут, а поведут к начальству. Там – допросы, затем расстрел… Эти всего лишь унтеры. Три унтера и один фельдфебель, им самовольные действия не положены.
Однако куда подевалась спасительная таблетка? Та самая, маленькая, которой снабжают каждого снайпера, идущего на задание. Сначала она боялась, потом привыкла: для снайпера, попавшего в плен, это было спасение от мук и гарантия молчания…
Она не спеша поднялась. Повернулась к немцам лицом – тянула время, вспоминая. Куда могла подеваться ее спасительница, маленькая таблетка… Некоторые зашивали ее в воротник телогрейки или в уголок воротника шинели. Но немцы тоже не дураки: первое, что ощупают, это именно эти места, их легко захватить в рот, раздавить таблетку зубами и тогда… Тогда – спасение.
– … – сказал один по-немецки, но она поняла – слышала не раз в свой адрес от пленных. Но где же все-таки эта проклятая таблетка? Похоже, влипла красавица. Нож, и тот отобрали. Бороться с ними? Все четверо рослые парни спортивного телосложения с задубевшими от ветра лицами, скорей всего, такие же разведчики или, возможно, те самые отборные головорезы, которых – она слышала – отбирали отовсюду. Но откуда они взялись? По сведениям фронтовой разведки, до самых Терешковичей не должно быть никаких подобных подразделений, только полицейские посты и в больших населенных пунктах небольшие гарнизоны. Но что же для нее все-таки лучше? Немецкая разведка или оголтелая и базарная сволочь – полицаи?
Кто-то толкнул ее в спину, одновременно скомандовав «форвард!». Она пошла, впервые без оружия, впервые не знающая, как поступить. Бой продолжался, звуки автоматных очередей были совсем рядом, значит, ее родная рота подошла совсем близко. Неужели Ланцев пытается ее выручить? От этой мысли ей стало спокойней и даже как-будто прибавилось сил… А минометы работали без отдыха. Ни в роте, ни в полку у русских минометов не было, значит, засада готовилась заранее, а то, что о ней не узнала разведка, лишний раз подтверждало ее предположение насчет немецкого спецназа. То, что рота окружена, она почти не сомневалась. Как говорил капитан Хряк, «не первый год замужем, все знаем»… Но как же все-таки бездарно прошляпили! Расслабились! Перепились! Даже ее Ланцев – краса и гордость всей двести двадцатой Краснознаменной дивизии опростоволосился. Но о Ланцеве ей не хотелось думать плохо. Если он еще жив, то сражается, иного быть не может, а то, что рота не помогла ей – своему единственному снайперу, говорило о том, что судьба самой роты висела на волоске.
Куда же все-таки ее ведут? Спустившись с пригорка, они вошли в заросли обледеневших кустов ивняка. У самой кромки кустов она увидела убитого ею пулеметчика. Теперь он был близко, и она еще раз назвала его «стариком». Зачем такие идут на войну? Впрочем, это не ее дело, к тому же Псалтырин не намного моложе этого немца. И опять она думает не о том, а ей надо думать, как выбраться из этого дерьма. Бежать невозможно – в спину упираются стволы шмайссеров, впереди идет фельдфебель – этот не прозевает… Но что же делать? Пыток она не выдержит – с детства боялась боли, спасительной таблетки, которую Люда Павличенко называла «прощай мама», нет, единственная лимонка засунута глубоко в карман штанов и находится где-то возле колена. Возможно, для гранат надо было шить специальный, из прочной материи и неглубокий, чтобы можно было ее быстро достать… Ах, зачем об этом теперь вспоминать?
Пройдя в заросли ивняка, конвоиры развернулись и пошли вправо, звуки боя стали слышнее.
Конвоиры привели Тину в хорошо оборудованный блиндаж, глубоко запрятанный в землю и издали почти невидимый, похоже, разведчики, обследовавшие заросли ивняка, не пошли дальше, поленились. Кто же тогда был в поиске?
Полувзвод Алексея Ткачева или Тимки Безродного? Не хотелось, чтобы это был он, влюбленный в нее и небезразличный ей Тимка…
Втолкнув Тину в блиндаж, трое конвоиров удалились, а фельдфебель остался, он и доложил о поимке русского снайпера. В блиндаже было полутемно, на столе горели свечи, три офицера сидели за столом и молча смотрели на Тину. А она – на них. Потом они заговорили между собой, и она – в который уже раз – пожалела, что не занималась немецким языком всерьез.
Но с ней они заговорили по-русски. Первым задал вопрос красивый оберлейтенант с волнистыми светлыми волосами, с руками, унизанными кольцами совсем по-женски.
– В каком подразделении Вы служите?
Тина молчала. Подождав немного, белокурый снова задал вопрос:
– Сколько снайперов имеется в распоряжении двести двадцатой Краснознаменной стрелковой дивизии?
Тина молчала.
– Вы не хотите говорить с врагом? Мы это предвидели и можем доставить вам удовольствие: поговорить с бывшим однополчанином. Возможно, он убедит Вас, что молчать в вашем положении – глупо.
Он лишь слегка шевельнул рукой – и в блиндаж вошел еще один человек. Тина обернулась и едва не вскрикнула: позади нее стоял младший сержант Утюгов! Живой и здоровый второй номер пулеметчика Псалтырина, пропавший две недели назад.
– Утюг, ты? А говорили, тебя немцы подстрелили.
Как видно, Утюгов не ожидал увидеть именно ее и даже слегка растерялся.
– А они не всех стреляют. Ты-то, как к ним попала? Сдалась что ли?
– А хрен тебе, не дождешься, предатель!
– Ну, кто из нас предатель, это мы еще посмотрим, – Утюгов был спокоен, он даже слегка улыбался. Между тем немцам даже такая короткая беседа русских надоела, и Утюгова подозвали к столу. К Тине он вернулся минут через пять, лицо его не выражало ничего, чтобы она могла прочитать, похоже, ему было просто скучно…
Если бы можно было незаметно дотянуться до гранаты, Тина взорвала и себя, и его, и тех, кто сидел за столом, но граната провалилась еще глубже. Черт бы побрал эти швейные мастерские, не могли даже для фронтовиков пошить как следует!
– Скажи своим… хозяевам, – прошептала она, – что я им ничего не скажу, пусть не надеются, паскуды.
– О том, о чем ты думаешь, тебя никто спрашивать не будет, – спокойно сказал Утюгов, – наши тайны им давно известны. Им надо узнать другое, а об этом ты можешь рассказать, не стесняйся, это не предательство.
Он снова о чем-то заговорил с немцами, затем обернулся к Тине.
– Твоя служба никого не интересует. Таких, как ты, они расстреливают сразу. Сколько немцев постреляла – тоже не загадка: все написано в твоей снайперской книжечке. Но им и на это наплевать. Они хотят знать, помнишь ли ты бойню, которую твои друзья учинили над корпусом генерала Лейбница двадцать восьмого октября.
Она подумала.
– Допустим, помню, ну и что?
– Их интересует, куда девался старый и верный солдат вермахта и личный друг фюрера генерал-майор Лейбниц во время устроенной вами бойни. И куда ваши разведчики увезли майора Крауха – предателя и изменника нации. На эти вопросы, я думаю, тебе не трудно ответить.
Тина задумалась. Генерала Лейбница она видела раз, когда его везли на повозке с сеном, прикрытым его собственной шинелью, возможно, уже не живого. Что же касается его заместителя майора Крауха, то она не только виделась с ним, но и разговаривала – майор неплохо говорил по-русски. Происходило это сначала в расположении разведроты, потом в медсанбате – у майора имелось ранение.
– Потом, – сказала Тина, – его увезли в штаб дивизии, и я его больше не видела. Что же касается генерала, то говорили, во время незапланированной стрельбы по выходящим из леса он был убит. До этого я знала, что он был серьезно болен. Инсульт или что-то вроде.





