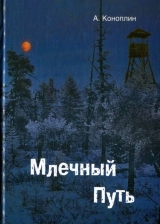
Текст книги "Млечный путь (сборник)"
Автор книги: Александр Коноплин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Теперь в его глазах бегали огоньки откровенной насмешки, Почему? Неужели я был настолько смешон в своей наивности, что даже такое ничтожество, как Жук, мог надо мной издеваться? Я хотел его ударить, но вместо этого повернулся и пошел прочь. И слышал, как он бросил мне вслед:
– Брезгуешь мной, белая косточка?! Смотри, не пожалей!
Я не знал, о чем он говорит. Может быть, о тех посылках, которые получает почти каждую неделю? Но ведь я никогда на них не претендовал! Жук не предлагал, а я не привык просить. К тому же Валерка водит дружбу и делится с теми, кто сам получает посылки. Я же мог поделиться только лагерной пайкой.
Да, последний суд подействовал на меня отрицательно. Он ожесточил, заставил отказаться от веры в справедливость. Постепенно я начал терять веру в людей. Не старался, как раньше, искать оправдания их поступкам. Волчий закон преступного мира – «умри ты сегодня, а я – завтра» – не казался мне больше чудовищным. В конце концов жизнь дается человеку только один раз, так стоит ли думать о других?
Вот почему я с радостью согласился на побег. К тому времени я уже знал многое. Например, то, что охрана, если и будет стрелять, то не по нам, а в воздух. Что в случае поимки нам просто прибавят к нашему старому сроку те полтора-два месяца, которые прошли со времени суда. Что «на воле» можно недурно устроиться; что весной бежать много лучше, чем зимой; что чем больше город, тем легче в нем прожить нашему брату; что карманный воришка, или как его называют в преступном мире – «щипач», живет ничуть не хуже «медвежатников», «краснушников» и других воров высокой квалификации. Обвинить «щипача» в воровстве можно, только поймав его на месте преступления. За «медвежатниками» от каждого взломанного сейфа тянутся тонкие, но прочные ниточки. Где-то они непременно сойдутся вместе, и тогда жизнь преступника кончается коротким и емким словом – «вышка». Карманник же в случае провала получает в общем-то не очень большой срок.
Итак, теоретически я оказался достаточно подготовлен для своей новой таинственной жизни, от которой даже слегка веяло романтикой. Что делать, ведь я был мальчишкой! Может быть, именно это веяние романтики и предопределило мое окончательное решение. Мне казалось, что своим побегом я бросаю вызов несправедливости и насилию. Единственное, что смущало меня, это жизнь за счет других. И Валерке с друзьями понадобилось много сил и времени, чтобы внушить мне предельно простую истину – от много немножко – не воровство, а дележка. И еще – богато одетые люди не носят в карманах «последних» денег… Дорогая мебель, ковры, картины покупаются теми, кому деньги некуда девать.
Каждый преступник непременно ищет и, конечно, находит оправдание любому своему преступлению. Для меня всего перечисленного выше оказалось достаточно, чтобы успокоить свою совесть. Гораздо труднее оказалось пересилить страх перед наказанием за побег.
Сейчас, когда с того дня прошло немало лет, я вспоминаю свои страхи с улыбкой. Конечно, были и стрельба, и собаки, и поиск. Потом все кончилось. Наши ноги оказались легче и выносливей ног, обутых в солдатские кирзовые сапоги…
Потом был товарный поезд, пробное воровство пирожков у зазевавшейся торговки на станции, первое ограбление трех пьяных с целью достать обувь.
И наконец, долгожданная Москва, пеший бросок ночью через весь город в Марьину Рощу, долгие, почти до утра, поиски какой-то загадочной «хаты». Но вот как будто все, что нужно, найдено. Мы стоим на темной лестнице старинного деревянного особняка. От страшной усталости гудит в голове, ноги подкашиваются, и глаза закрываются сами собой. На лестнице пахнет уборной, кошками и щами. Валерка чиркает спичкой, читает табличку на двери «Георгий Анисимович Гладков. Зубной техник. Прием больных с 9 до 16. Выходной день – воскресенье».
Он видит мой недоумевающий взгляд и коротко бросает:
– Дядя, – и когда погасла спичка, добавляет: – Троюродный.
Имя, отчество и фамилия мне неизвестны. Посылки Валерке в колонию присылала какая-то Матрена Константиновна Голубкина.
Но вот и Валеркин дядя. Его появление я воспринимал, кажется, уже сквозь сон. Впустив нас в прихожую, дядя долго ругал за что-то Валерку, потом о чем-то расспрашивал меня, потом заставил нас переодеться и только после этого впустил на кухню и дал поесть. И хотя была глухая ночь, а квартира его находилась на втором этаже, дядя все-таки завесил окно тряпкой…
На вид Георгию Анисимовичу можно было дать лет сорок-пятьдесят. Это был мужчина среднего роста, упитанный, несколько обрюзгший. Тяжелая нижняя челюсть, крепкая шея, а главное, перебитый нос делали его похожим на ушедшего с ринга боксера. Как я узнал впоследствии, Георгий Анисимович в самом деле в молодости занимался боксом и даже выигрывал первенства в соревнованиях.
На фронт он, видимо, не попал по причине близорукости: сквозь дымчатого цвета очки с толстыми стеклами виднелись типичные для близоруких рано потерявшие цвет выпуклые, как у рака, глаза. Этими глазами он долго и внимательно рассматривал меня, пока мы сидели на кухне, и потом, когда ехали в такси через всю Москву на какую-то дачу в Люберцах. Я настолько устал от бессонных ночей, волнений последнего месяца, небывалой физической нагрузки, что и отвечал ему в полусне. И засыпал при каждом удобном случае. Кажется, в конце концов, он понял и оставил меня в покое.
Вторую половину пути я мирно спал, прислонившись к его плечу, и даже не слышал, как Валерка с дядей втащили меня, сонного, в дом и уложили на кровать. Проснувшись где-то в середине следующего дня, я увидел маленькую с ободранными обоями комнатку, коричневый от копоти потолок с разводами дождевых потоков и две кровати, на одной из которых спал я, на другой сидел еще не проснувшийся окончательно Валерка. В дверях стояло странное существо женского пола. Огромная, тучная фигура на толстых тумбах вместо ног, всаженная прямо в плечи голова с тремя подбородками, коротким и широким носом с проваленной переносицей, низким и тяжелым лбом, из-под которого, как мыши из норы, смотрели маленькие сонные глазки. Все нелепое сооружение венчалось копной рыжих волос, спадающих в беспорядке на едва прикрытые ночной рубашкой плечи. Заметив, что все проснулись, женщина спросила басом:
– Гладков за вас платить будет или как?
– Там сговоримся, – ответил Валерка, натягивая башмак. – Ты бы лучше поштевкать дала, не видишь, дошли?!
Женщина, постояв с минуту, медленно, как тяжело груженная баржа, повернулась и вышла. Заметив мой недоумевающий взгляд, Валерка усмехнулся:
– Не пугайся. На рожу она, верно, страшилище, но душа у нее добрая. Никогда нашего брата в беде не оставит. Через это и сама страдала не раз. Пошли что ли! Жрать охота – сил нет!
– А как ее зовут? – спросил я.
– Зови просто Голубкой, – ответил он. – А вообще-то она Голубкина. Матрена Константиновна Голубкина.
Приют Голубки
Так началась моя новая жизнь, полная самых невероятных противоречий. Жизнь, совершенно непохожая на прежнюю.
Раньше я никогда не остерегался и в любое учреждение заходил смело. Я был таким, как все. Разве что помоложе многих. Теперь меня ни на минуту не оставляло ощущение какой-то смутной вины перед людьми. Я никому не мог посмотреть прямо в глаза, не мог просто пройти мимо милиции. Мне казалось, что за мной постоянно следят. Это чувство не только не прошло со временем, – наоборот, день ото дня приобретало все более осмысленную остроту. В нем становилось меньше животного страха и больше обыкновенной осторожности. Это чувство можно было заглушить только вином.
После первой жестокой пьянки мне показалось, что я умираю. Тогда же я дал себе слово – если останусь жив, не возьму больше в рот ни капли спиртного. Но наутро хмель прошел, не осталось следа и от добрых намерений. Через неделю пьянка повторилась, и я в ней участвовал, но держался, по выражению моих товарищей, молодцом. Характерно то, что я, в отличие от других, не испытывал постоянной тяги к вину. Кроме того, мой организм научился быстро справляться с большими дозами спиртного. В то время, как все пьянели, я оставался трезв. Только очень большое количество выпитого могло свалить меня с ног.
Изредка на нашу дачу приезжал Георгий Анисимович. Но не было случая, чтобы он когда-либо участвовал в нашей пьянке. Его визиты носили чисто деловой характер. Получалось как-то так, что чем больше мы на него «работали», тем больше бывали ему должны. После его ухода у нас обычно не оставалось денег даже на бутерброд. Вот тогда-то нас и выручала наша Голубка, скупщица краденого, пьяница, базарная торговка и… добрейшее существо на свете.
Своим ремеслом она занималась, как я скоро понял, не столько ради собственного обогащения, сколько из любви к самому процессу купли-продажи. Когда, случалось, долгое время к ней не поступало ворованного барахла, она сама шла на толкучку и на свои деньги покупала какую-то тряпку, возможно, тоже ворованную. День или два забавлялась ею как ребенок, потом продавала на той же толкучке и снова радовалась, даже если продать пришлось с убытком.
Сбережений у нее не было никаких. «Процент», который оставался от продажи ворованных вещей, неизменно переходил к нам же. Казалось, эта одинокая, обиженная судьбой женщина, находила утешение в том, что кормила и заботилась о тех, кого считала еще более обиженными и обездоленными. А может быть, просто на нас изливалось ее неистраченное чувство материнства. Однако, насколько Голубка любила «сыночков», настолько же сильно ненавидела «дочек». Об этом все знали и, по своему уважая Голубку, никогда не водили к себе проституток.
Впрочем, постоянных жильцов на даче, кроме нас с Валеркой, было четверо. Остальные прилетали и улетали. За то время, что я жил у Голубки, здесь побывало несколько десятков людей разного возраста. Были и такие, как мы, беглецы, и просто отбывшие срок наказания и еще не решившие, куда поехать искать счастья – на юг или на север.
Ребята, порвавшие навсегда с воровским миром, в этот дом не заходили. К слову сказать, их с каждым годом становилось больше. Наша Голубка, по-видимому, с ними имела какую-то связь, так как однажды я слышал, как старый вор по кличке Шустрый допрашивал Голубку на кухне. Шустрый бежал из какого-то северного лагеря. Бежал «не чисто», то есть привел за собой «хвост». Завалил одну за другой четыре конспиративные квартиры и с трудом сумел запутать следы. Да и то, по его собственным словам, которым давно уже никто не верил. К тому же Шустрый был известен и среди воров как «мокрушник». С такими дружат неохотно. Случись что, пойдешь подельником за «мокрое дело», а там и до «вышки» недалеко.
Узнав о его возвращении, Георгий Анисимович тут же хотел его прогнать, но Голубка на правах хозяйки разрешила остаться. Разговор на кухне касался какого-то вора по кличке Артист, который «предал воровской закон». Шустрому стало известно, что Голубка видела его и даже отдала ему деньги, вырученные за продажу какой-то вещи. Ни того, ни другого Голубка не отрицала. Да, видела, ну и что? Кто запретит ей разговаривать с людьми? На вопрос, почему отдала чужие деньги, ответила:
– Отдала потому, что ему есть нечего.
– Пускай ворует! – горячился Шустрый.
Голубка спокойно отвечала:
– Воровать он не будет – бросил, а помирать с голоду ему ни к чему. Глядишь, еще вырастет, человеком станет, детей народит…
– Тебе-то что до этого?! – орал Шустрый.
– А может, я к нему в няньки определюсь! – отвечала Голубка.
– Ты, сука, ему чужие отдала! – крикнул вор. – Тебе за это надо перо в бок!
После этого на кухне что-то загремело, покатилось, потом хлопнула дверь, и в комнату влетел Шустрый. Перекошенное от злости лицо его было залито помоями, за ухо зацепилось колечко картофельной кожицы, по пиджаку текли потоки. Схватив со стола нож, он кинулся обратно в кухню. Но тут уж мы были начеку. Через минуту связанный по рукам и ногам Шустрый изрыгал свои проклятия в подушку. А на кухне спокойная, как всегда, Голубка высказывала свое кредо:
– Чужие, говоришь, деньги отдала. Это какие же чужие? Твои что ли? А ты их заработал? Да тому, кто их заработал, уж не вернешь. Его, может, из-за этой подлой тряпки такая гадина, как ты, жизни лишила! Ишь ты – зачем отдала Артисту? Он воровской закон предал! Ах ты, сволочь проклятая! Да где ты видел этот свой закон? Нету у тебя никакого закона! Без закона живешь! Все вы, проклятые, без закона живете! Потому и охотятся на вас как на волков! Мало сами себе жизнь испохабили, так еще таких детей, как Стаська, в свою шайку втянули! Ну, погодите, отольются вам ихние слезы! Всем вам, а Боксеру вашему – втрое!
Она долго еще бушевала, а потом пошла на толчок, купила там на последние деньги водки, напилась и принялась долго и громко, во весь голос, плакать как по покойнику.
Мы с Валеркой развязали Шустрого. Такие типы, как он, опасны только в первую минуту, когда, искусственно возбудив себя, приходят в состояние близкое к невменяемости. Тогда они могут убить даже своего. Во все остальное время это жалкие трусы. Большинство их неврастеники, наркоманы и алкоголики, ни на что в жизни не способные, ничего не знающие и не желающие знать. Подонки, которых никто никогда не перевоспитает.
Как это ни странно, мы, подростки, став преступниками, с такими, как Шустрый, равнять себя не хотели. Нам все еще казалось, что мы лучше, чище, честнее… Как за соломинку хватались мы за малейшую возможность оправдать в глазах самих себя очередное преступление, хотя и не могли отказаться от него совсем.
Из тех, кто жил в доме Голубки, мне больше всего пришелся по душе Вася Кривчик. Мальчик лет тринадцати, тощенький, бледный, вечно грязный и вечно голодный. Вася плохо видел. В колонии за какой-то проступок ему полагалось наказание – карцер. Избежать его можно было только с помощью больницы. Вася засыпал в оба глаза пудру от химического карандаша и действительно попал в больницу. Но с тех пор уже никто не смог вернуть ему зрение. Отец Васи, как и мой, сражался с фашистами где-то на фронте. Вася не бежал из колонии, а освободился, отбыв положенный срок. Но на его родине – в Белоруссии – хозяйничали фашисты. Родственников в России у него не было. На работу он пойти не мог, а скорей всего, и не хотел. Поэтому каким-то образом узнав о «приюте Голубки», явился сюда.
Иногда он отправлялся на толкучку и кое-что приносил, уверяя всех, что украл. Но над ним смеялись, заявляя, будто видели его, собирающего милостыню… Прокормить себя Вася не в силах. Если бы не доброе сердце Голубки, и не наши подачки, неизвестно, пережил бы Кривчик зиму сорок третьего года или нет? До сих пор не могу понять, почему он никак не хотел идти в детдом. Ему бы там, конечно, было лучше.
К весне сорок третьего года от моих прежних моральных переживаний, как и от моих сомнений, остался едва заметный след. Мои товарищи освободились полностью от этого груза гораздо раньше. Такие слова, как совесть, стыд, честный труд, оставались далеко за пределами понимания. Если эти понятия не вошли в плоть и кровь в раннем детстве, в юношеском возрасте их привить неимоверно трудно.
Нет на земле существа более жестокого, чем подросток, не получивший воспитания. Элементарное сострадание ему незнакомо. Он с легкостью убивает человека, как в детстве убивал кошку и не испытывал при этом ничего, кроме любопытства. Кровь не отталкивает его. И если не все грабежи совершаются с убийством, то лишь потому, что за «мокрое дело» полагается более строгое наказание. Словом, как бы там ни было, я стал профессиональным преступником.
Убивал ли я? В сущности, это роли не играет. Бросить избитого и раздетого человека ночью, на морозе – это ли не убийство? Повторяю, высшее достоинство человека – сострадание – было нам не свойственно. На любую фигуру в дорогом пальто мы смотрели как на добычу. Позднее я где-то читал, будто для того, чтобы изжить зло, нужно уничтожить причины его порождающие. Первопричина воровства – голод – давно уничтожена, а зло – преступность – остается. Гусман Кадыров, у которого не было отца, не стал вором, хотя и голодал вместе со мной. А сын известного московского артиста, имевший собственную автомашину и кучу денег «на мелкие расходы», стал грабителем, насильником и убийцей. Когда я спросил его, зачем ему это нужно, он ответил, загадочно улыбаясь:
– Я хочу, чтобы обо мне услышали.
Мы сидели с ним в одной камере. Кажется, это было в Минске. Послевоенном Минске, еще не совсем оправившемся от войны. Городе, в котором каждый камень был полит кровью таких, как мой отец, отец Кадырова, Ивана Стецко… На улице стояла зима, а в камере было тепло и светло. Мы полулежали на ватных тюфяках, курили дорогие папиросы и лениво поглядывали на небольшой столик в углу, сплошь заваленный продуктами.
– Я хочу, чтобы обо мне услышали, – повторил он. – Чтобы писали газеты. А то проживешь век, и никто не узнает, что был на свете такой Андрей Гржимовский.
– Поступай в артисты, как твой отец, – сказал я. – Будешь знаменит, напишут и про тебя.
Он облил меня презрением:
– Отцу скоро 60. Добрых сорок из них он тянет, как вьючная скотина. Спектакли, концерты, гастроли, снова спектакли… В лучшие дни домой приходит что-то около часу ночи. Нет, такая жизнь не по мне!
– Что ж, тебе здесь лучше? – не унимался я.
Он усмехнулся.
– Долго не задержусь. У мамаши денежки есть, на адвокатов хватит. Да и здесь скучать не придется, – он небрежно кивнул головой в сторону столика с продуктами. – Говорят, в колонии даже кино показывают?
– Иногда по два раза в неделю.
Он вздохнул:
– Наверное, только фильмы старые.
Помнится, тогда у меня впервые возникло злобное чувство к товарищу по несчастью. Интересно, что бы запел этот маменькин сынок, если бы ему предстояла жизнь, полная лишений, и тяжелый физический труд? Преступный мир, как и всякий другой, имеет свои классовые различия. Между мной, ставшим вором по несчастью, и этим откормленным мерзавцем лежала пропасть.
В сорок первом, когда я бежал из-под стражи, у меня были совсем иные товарищи. Только тот, кто стоял над нами – наш шеф и наш мучитель – Боксер, был хуже нас. Помню, когда я вздумал отказаться от очередного поручения, он избил меня самым беспощадным образом.
– С тобой еще долго возились, – заметил тогда Жук. – Целый месяц поили и кормили, приодели как фраера. С другими он церемонится меньше. Чуть что – перо в бок и к ангелам.
– И это твой родной дядя? – не выдержал я.
Валерка посмотрел на меня внимательно:
– Ты или чокнутый или хитрая сволочь. Неужели ты еще ничего не понял?
– А что я должен понимать?
В то время мы были одни в комнате, но Валерка оглянулся прежде, чем ответить.
– Он такой же Георгий Анисимович, как я – китайский император. Он – вор. Только не такой, как мы. Авторитетный вор. Его не только в Москве знают. А для нас он глот и паскуда. Теперь ты от него разве что в могилу. Больше тебе деваться некуда.
Это был страшный для меня вечер. Жук поведал мне свою собственную историю. Впервые я взглянул на своего товарища иными глазами.
Своих родителей Валерка не помнил вовсе. Судя по документам, он попал в детский дом в младенческом возрасте прямо из родильного дома. Женщина, родившая его, ночью тайком сбежала, оставив записку: «Мальчика назовите Валерием. Меня не ищите». Стало ясно, что фамилия Горская, под которой она значилась в роддоме, вымышленная. Но выбирать не приходилось, и мальчику дали эту фамилию.
К Георгию Анисимовичу он попал, убежав из детского дома. Боксер сразу же взялся за его воспитание. Через три года из Валерки получился неплохой карманник. Впрочем, надо отдать должное Боксеру, учил он Валерку не только «профессиональному мастерству», но и обыкновенной грамоте. Кроме того, по словам самого Горского, привязался к нему как к сыну. До встречи со мной Валерка побывал уже в трех колониях и отовсюду бежал. Надо понимать, не без помощи «дяди». Почти весь Уголовный кодекс Валерка знал наизусть. У него была редкостная память.
В сети, расставленные Георгием Анисимовичем, попадали не только мальчишки. Однажды у нас на Лесной появился странный старикашка. Мы с Кривчиком сначала приняли его за сумасшедшего. На нем было неимоверно грязное пальто, теплые боты, с подвязанной веревочками подошвой, кружевное от дыр кашне и потерявшая всякую форму шляпа. Звали его Илларионом Дормидонтовичем Нестеренко. В прошлом он был профессором философии. Вездесущий Жук даже видел документ, согласно которому «преподаватель кафедры философии Н-ского политехнического института И. Д. Нестеренко уволен за систематическое пьянство и недостойное поведение». В налетах он, понятно, не участвовал, попрошайничеством тоже не занимался, а между тем, к нам, на Лесную, приходил всегда навеселе. Случалось, что здесь ему тоже перепадало, и тогда под гогот пьяных воров он читал либо лекции по философии, либо стихи.
Зачем он понадобился Боксеру, для нас оставалось тайной.
Впрочем, мое первое знакомство с профессором произошло несколько раньше, и не на Лесной, а в квартире самого Георгия Анисимовича. Однажды после удачного «дельца» он расчувствовался и пригласил нас с Валеркой к себе. Выпив подряд два стакана водки, Жук моментально уснул, а мы с хозяином долго сидели за столом вдвоем. Помнится, я машинально продолжал разглядывать его кабинет. Обыкновенный кабинет зубного техника. «Неужели этот бандит имеет в самом деле такую человечную профессию?» – подумал я и вздрогнул, услышав то же самое, сказанное им самим.
– Да, я зубной техник, – сказал он. – И неплохой, между прочим, специалист. Тебя это удивляет? Что делать, мой мальчик! Я просто немного опоздал родиться. Наш мир – мир профессиональных воров, постепенно вырождается. Кто не сумел приспособиться, тот погибает. С МУРом, мой дорогой, шутки плохи. А за то, что ваш притон до сих пор не накрыт, благодарите, прежде всего, меня. Я хочу, чтобы вы работали в Москве на меня, а не в Сибири «на усатого дядю».
Высказав столь откровенно свое кредо, он вновь наполнил стаканы и продолжал:
– Конечно, теперь уж нет тех урок, с которыми мы в свое время творили чудеса. «Иных уж нет, а те – далече…» Времена меняются! Сейчас порядочного вора нужно искать со свечкой. Шантрапа вместо воров. Хулиганы. Грабители. Нет, в наше время все было иначе. Если мне нужны были дамские часы, то я не снимал с клиентки заодно и шубу, потому что мне нужны были только часы. А если мне нужна была только шуба, то я брал шубу, но не трогал женской чести или девичьей невинности. А как работали! Ах, как работали! Лева Крамской… Ваня Пыж… Это ж артисты! А девочки! Ляля Черная… Зоя Питерская, Нина Грузинка… Сейчас я не вижу таких даже на экране. Куда все девалось? Выпьем, волчонок! Кстати, почему тебя зовут Волчонком? Не знаешь? Странно… Воры зря клички не дают. Волком они обычно называют того, кто отбился от стаи, промышляет в одиночку. Ты же не отбился?
Или собираешься отбиться? – его зрачки, как буравчики, сверлили мои глаза, стараясь прочитать в них что-то…
Но, кажется, не прочитали.
– Ты умнее других, – продолжал он. – Это ясно. Значит, рано или поздно уйдешь из воровского мира.
По-видимому, это было сказано случайно, в сильном опьянении, потому что уже в следующую секунду он забыл об этих словах и заговорил совсем о другом:
– Нет, тебе надо держаться за меня. Только за меня! Я один научу тебя жить. Ты будешь одет, как принц. Фи, что это на тебе! Это же почти лагерный клифт!
– Вы же у нас все отбираете, – сказал я. – Где уж тут носить коверкотовые костюмы!
Он прищурил один глаз и погрозил мне пальцем:
– Не свисти, малыш! Поройся в своей заначке. Ты наскребешь там не один десяток «косых».
– Нет у меня ничего! – возразил я. – Все, что было, отдал вам.
Он улыбнулся и покачал головой:
– Твой кореш Жук глупее тебя. А знаешь, сколько он носит только в одном пистоне? Полтора куска крупными купюрами!
– Не может быть! – сказал я, вспомнив, как горевал Жук недавно после очередного прихода Боксера.
Георгий Анисимович вздохнул и разлил остатки коньяка по стаканам.
– Все может, малыш. В этом мире все возможно! Конечно, мне обидно за Жука. Он же обязан мне своей жизнью! Я ж его, паскуду, вот этими руками выходил, когда он загибался! Я ж его, подлюку, за сына считал!
– Чем же он вам теперь не угодил?
– Чем? – он посмотрел на меня мутным взглядом. – Оставим этот разговор. Лучше скажи мне, малыш, почему ты не пьянеешь? Я давно об этом слышал, но еще не видел… Только ведь меня не проведешь. Я давно все понял – ты ешь масло!
На этот раз я рассмеялся. Он обиделся.
– Заткнись, малыш! И в следующий раз будь осторожнее. Как бы я не порвал тебе пасть!
Он уже изрядно захмелел, но о главном, зачем позвал, не заикнулся. Я решил ему помочь.
– Георгий Анисимович, но ведь вы меня пригласили сюда не за тем, чтобы рвать мне пасть?
Он долго думал, вспоминая.
– Да, верно… Слушай, Волчонок, ты мне нужен. Ты один мне нужен. Все остальные – подонки. Лаптежники. Утюги, – он бросил взгляд на мертвецки пьяного Валерку. – Вчетвером на одного фраера – это они могут. А чтобы чисто, технически – для этого у них маловато… – он постукал себя по затылку. – Сегодня сюда приходит один человек… Между прочим, он – профессор. Заметь: сам профессор и приятели его – тоже профессора, академики… И он к ним ходит. В гости. Понял? Он нам поможет… Чтобы чисто… Технически… Без этого… – он провел ладонью по своему горлу, – бр-р-р… Не люблю! Брезгую! А технически – это моя стихия. Понял?
– Ничего не понял, – признался я.
– Сейчас он придет и все поймешь. Только… Язык за зубами! Профессор ничего не знает. Ни-и-чего! Я сказал, что для моего племянника нужен репетитор… – он засмеялся тихим старческим смешком, так не вязавшимся с его атлетической фигурой.
Через минуту он уже спал, уронив голову на стол. Перетаскивая его на диван, я изумился плотности его мышц. Они казались отлитыми из крепкой резины. Ради любопытства я обшарил его карманы. Кроме мелочи и двух золотых колечек, в них не было ничего. Зато на ременном поясе у самого живота под нижней рубашкой был спрятан браунинг. Да, с этим человеком шутки плохи! Вернувшись к столу, я допил свой стакан и стал думать, что делать дальше. Прежде всего, чего еще от меня хочет Боксер?
Мои мысли были прерваны осторожным звонком в прихожей. Не зная порядков этого дома, я медлил, соображая, что лучше – разбудить хозяина, не открывать совсем или выскочить немедленно через окно и удрать. Потом я вспомнил, что квартира Георгия Анисимовича, скорей всего, вне подозрений.
Нашему брату вход сюда запрещен. Здесь не бывает ни попоек, ни драк. Следовательно, для соседей Гладков – обыкновенный зубной техник, кустарь-одиночка. К тому же звонить мог и клиент. Спрятав на всякий случай бутылки под стол, я отворил наружную дверь. Фигура в драповом пальто неопределенного цвета и фетровой шляпе прошмыгнула мимо меня, даже не поздоровавшись, обдав запахом старой, залежавшейся вещи. Когда я, заперев дверь, вернулся в комнату, фигура была уже там. В кресле сидел маленький юркий старичок с бородкой клинышком, в пенсне с цепочкой, задетой за ухо, с нервными тонкими пальцами и постоянной привычкой по-гусиному вытягивать шею. С мокрых бот, пальто и даже шляпы стекала вода. На улице, по-видимому, начался ливень.
Увидев меня на пороге, старичок вскинул голову и выставил вперед бородку. Потом снял пенсне, достал грязный носовой платок, протер стекла, водрузил пенсне на нос и снова уставился на меня. При этом он не говорил ни слова. Так продолжалось около минуты. Потом он поднял тонкий палец, прицелился им в меня и смешно проблеял:
– Ты – мой новый ученик! Не говори ни слова, я все понял! Маменькин сынок, сбежавший от родительской ласки, и решивший начать жить самостоятельно! Папаша – профессор, мамаша – жирная бездельница, глупая, как сапог, любящая до безумия своего сынка. Домработница – баба из деревни. Ворует у профессорши тряпки и продает на Тишинском рынке. Старшая сестра путается с военными и потому имеет собственные деньги. Братец не хочет отставать от нее… Все ясно! Снова – подонок! И такого я должен учить приличным манерам! Жора, Жора, кого ты мне даешь? Да проснись же, ferfluchtes Schwein! В прошлый раз ты подсунул мне законченного кретина, сейчас предлагаешь, чтобы я сделал подобие порядочного человека из этого мерзавца. Да Жорик же, проснись, наконец! Ах, черт тебя подери, я же подыхаю с голоду!
Он толкал неподвижную тушу Боксера, стучал сухонькими кулачками по мощным лопаткам, даже пробовал щипать его упругие ягодицы. Все было напрасно. Жора не просыпался.
Лицо старичка сделалось растерянным. Глаза из-под пенсне взглянули на меня с подозрением:
– Может быть, он уже умер? Это ты отравил его, да? Тогда я сию же минуту ухожу! Я ничего не знаю! Меня здесь не было! Слышишь ты, кретин? Но дай же мне хотя бы глоток чего-нибудь выпить! Дьявол вас всех побери!
Он заметался по комнате как сумасшедший. Задел кресло и опрокинул его. Раздался грохот. Мгновение! – и Боксер уже сидел на диване, весь напряженный, готовый к чему угодно. Постепенно взгляд его начал проясняться, одновременно с этим ослабевало напряжение мышц. Наконец он узнал профессора, скучно выругался и снова лег, отвернувшись к стене.
– Аудиенция закончена! – сказал профессор. – Что же мне, однако, делать? Эй ты, скотина, где у него водка? Впрочем, я, кажется, и сам знаю…
Он побежал к буфету, открыл его, откуда-то снизу достал бутылку водки. Трясущимися руками раскупорил ее и стоя, через горлышко отпил несколько глотков. Через минуту глаза его подобрели, губы заулыбались, руки перестали дрожать. Он сел в кресло, ладонью сгреб со стола остатки еды и принялся закусывать.
– Ну-с, молодой человек, – он помахал селедочным хвостом, – твой уважаемый патрон, вероятно, уже сказал тебе о моих условиях. Я в этом не сомневаюсь. Но поскольку у тебя на лбу написано, что ты – кретин, я повторю то же самое еще раз. Прежде всего, я требую от учащихся внимательности, внимательности и еще раз внимательности. Во-вторых, прилежания, в-третьих, безоговорочного послушания. Разумеется, из таких кретинов, как вы, никогда ничего путного не выйдет. Но это не мое дело. Я учу тебя, потому что мне платят. Должен сказать, что я не разделяю иллюзий уважаемого Георгия Анисимовича относительно тебя. Повторю: в лучшем случае из тебя выйдет официант. Ну что ж, официант, так официант. Хотя лично я такую профессию своему родственнику, пускай и очень дальнему, не посоветовал бы. Впрочем, это дело вкуса. Ему видней. Кстати, в то, что ты его родственник, я не очень верю.








