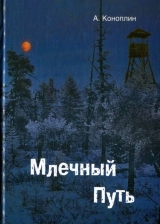
Текст книги "Млечный путь (сборник)"
Автор книги: Александр Коноплин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
Унаи, тогда еще молодой парень, вызвался помогать ему. Эвенки вообще не занимаются старательством, предпочитая охотиться, ловить рыбу и аргишить[4]4
Аргишить – заниматься оленеводством, кочевать.
[Закрыть]. Но цену золота они знают. Василию на первых порах нужны были деньги на покупку старательского оборудования, ружья и припасов к нему, продуктов, одежды. Унаи перед этим удачно белковал[5]5
Белковать – охотиться на белку.
[Закрыть] несколько лет подряд. Кроме того, имел в запасе несколько сотен шкурок соболей, горностаев, песцов и лисиц. Василий пообещал за все это расплатиться золотом, но обещания не выполнил. Более того, когда Унаи стал настаивать, он, воспользовавшись тем, что сделка совершалась без свидетелей, наотрез отказался признать свой долг. Кроме того, вне прииска никто не имел права платить или получать за товары золотом.
Глубоко затаил свою обиду Унаи. Не кричит, не ругается, не лезет к Ваське драться, умеет сдержать себя парень, но я знаю: Тишко недолго осталось ходить на этом свете.
– Подай в суд, – говорю я Унаи.
Он презрительно косит на меня черным глазом и спокойно отвечает:
– Свидетель нет – суд нет. Унаи будет суд делать, – и снова трогает рукоятку ножа.
– Но ведь тебя посадят в тюрьму, – говорю я.
Он отвечает так же, не меняя позы, не повышая голоса:
– Свидетель нет, закон – нет. Тайга закон будет.
От его спокойствия мне делается не по себе. В конце концов нет ничего отвратительнее, когда человека лишают жизни из-за денег. Это дикость. Есть множество способов уладить отношения. Ну, на худой конец прижать должника где-нибудь покрепче, но убивать…
Он молча слушает, посасывая трубку. Можно говорить сколько угодно, Унаи останется непоколебим. Только раз, прочищая палочкой мундштук, заметил:
– Унаи оставил Учами, колхоз, поехал за Васькой в Чарду… Зачем, думаешь? Скажи, Иргичи, сколько ты сам добыл улюки, чипкана, джеляки, чарта, хуляки?[6]6
Белка, соболь, горностай, песец, лисица.
[Закрыть] Может, ты вот с такой пальмой[7]7
Пальма – нож на длинной ручке.
[Закрыть] ходил один на амака?[8]8
Амака – медведь.
[Закрыть] Может, этот кумалан, – он потрогал коврик, на котором сидел, – из шкуры дикого оленя, которого ты убил? Молчи, не защищай лючу! Унаи хотел деньги. Он мало ел, мало спал, много охотился. Унаи хотел иметь жену и детей. Кто теперь из девушек переступит порог деревянного чума Унаи? Над ним все смеются! Если Унаи не убьет лючу, ему нечего делать в Чарду! В Туру поедет. Охота – нет. Родного чума нет. В большом чуме жить станет. В чужом чуме. Работать будет. Нет! Надо убить лючу!
Бронзовое лицо его покрылось потом, на лбу вздулись жилы, глаза блестели. В то же время на его одежду нельзя было смотреть без смеха. От жары он разделся, сбросив парку, унты и ошкур прямо у порога. Несколько ближе к печке валялись его бостоновые брюки и байковая клетчатая рубашка, одинаково лоснившиеся от жира. Сидел он передо мной в меховых штанах, поверх которых были одеты полотняные кальсоны, и в тонкой рубашке необычайно яркой расцветки. На руке у него были часы, на шее – крошечный кожаный мешочек с какой-то травкой – амулет, предохраняющий от оспы.
«Учеле» (прежде) и «тыкан» (теперь) уживалось в нем так же тесно, как чучело белого медвежонка с финиковой пальмой в кабинете зоологии средней школы в Учами, как дикие скалы с автострадой, как рев лося с шумом вертолета над тайгой, как зоотехнические курсы, которые окончил Иван, с жестокостью первобытного охотника; как Млечный Путь с огнями новой электростанции на Большом Пороге.
– А если, предположим, Василий уедет из Чарду? – спросил я.
Мгновение – и он уже стоял посреди землянки, сжимая в руке нож. Видимо, такая простая мысль не приходила ему в голову.
– Куда? Ты знаешь? В Туру? В Нидым?
– Может быть, дальше…
– В Учами? В Туруханск?
– Может, еще дальше.
– Куда дальше? Нет дальше!
– Почему ж? Дальше Туруханска есть много городов…
– Москва? Москва Ваське нельзя! Сам говорил!
– А вдруг… его кто-нибудь предупредит?
Он смотрит на меня непонимающе.
– Унаи говорил – Белый Иргичи[9]9
Иргичи – волк.
[Закрыть] слушал. Больше никто. Не уйдет Васька!
Белый Волк – это моя кличка. Мое прошлое, с которым я порвал навсегда. И хотя Унаи произносит его на своем языке, мне от этого не легче. Я ненавижу свою кличку, как ненавижу всю прошлую жизнь. Унаи не понимает, как можно ненавидеть имя. Для него Иргичи – тоже имя.
Подумав, он повторяет упрямо:
– Иргичи не скажет. Унаи верит Иргичи.
Он просто непоколебим. И тогда я бросаю на бочку последний козырь:
– Тебе не жалко Арачи? Ведь у них ребенок – Колька!
Долго-долго молчал Унаи. Потная обнаженная грудь его то вздымалась, то опускалась. Успокоившись, он сказал:
– Все говорят: Иргичи любит Арачи. Она поедет с тобой. Колька – тоже. Большой вырастет – будет тебе помогать рыбу ловить. Пока маленький – черканы таскать, плашки[10]10
Капканы.
[Закрыть] ставить. Плашка высоко нада. Кедр большой. Ты тоже большой, ветки ломать будешь. Колька маленький. Высоко полезет.
Поняв, наконец, о чем он говорит, я засмеялся:
– Ты полагаешь, что я в Москве буду ловить рыбу и ставить плашки?
– А что, так сидеть будешь? Работать не будешь?
– Работать, конечно, буду, но ловить рыбу… Да у нас ее просто и нет!
Его узкие глаза смотрели недоверчиво:
– Зачем обманываешь? Раньше не обманывал…
– Ну почему же я тебя обманываю? В наших реках в самом деле нет рыбы. Или почти нет. Волга, Москва-река… Да и в других тоже. Подожди, лет через тридцать построят на Тунгуске заводы и побольше электростанций – ив ней рыбы не будет!
Слушая меня, он одевался и только качал головой. Потом взял ружье, нахлобучил шапку и, не сказав ни слова, вышел.
Подбитые шкурами лыжи бесшумно скользнули с пригорка. Посыпался кураж с ветки кедра, задетой стволом ружья, а когда белая завеса прояснилась, Унаи уже не было видно.
* * *
За дальней падью сухо треснул выстрел. Накинув телогрейку, я выскочил из землянки. Начинало смеркаться. В такое время она обычно и приезжает, оповестив свое появление выстрелом из дробовика.
А может, это треснула от мороза лиственница? Я внимательно вслушиваюсь в морозную тишину, втягиваю ноздрями колкий воздух. Нет, сегодня не такой мороз, чтобы трещать деревьям. Градусов сорок, не больше. Похоже, что в самом деле кто-то стрелял. Я стою, не шевелясь, еще с полминуты. Выстрелов не слышно. Мороз моментально пробирается к самому телу. Я снова ныряю в душное тепло землянки и растягиваюсь на узком топчане, покрытом оленьей шкурой.
Арачи снова овладела моими мыслями.
Среди множества поверий у эвенков есть одно, которое мне кажется заслуживающим внимания. По их убеждению, сила любого талисмана зависит от того, как часто человек прибегает к его помощи. Чем реже это происходит, тем сильнее его действие.
Мой талисман – это память о встрече с Арачи. Я нашел его, продираясь сквозь немыслимые нагромождения прошлого и настоящего, настоящего и будущего, в котором бродил, спотыкаясь и падая. В прошлое возвращаться не хотелось, но оно тянуло старыми связями, узами дружбы, манило призрачной «легкой жизнью», к которой я давно привык. Оно было понятно, знакомо, не в пример будущему, которого я не знал и боялся.
Настоящее было странным и неестественным, как сон. До «звонка» оставалось еще два года неразменяных, а передо мной неожиданно открылись лагерные ворота, и не стало высоких стен с колючей проволокой, охраны и страшных «законов» воровской жизни. Был светлый просторный кабинет, большой стол посередине, покрытый стареньким застиранным кумачом с обрывком лозунга «…помни: только честный, добросовестный труд вернет тебя семье и обществу!». И было несколько человек в военной форме с красными околышами фуражек и непривычно доброжелательными взглядами.
И еще был грузный, краснолицый, неповоротливый в своем негнущемся брезентовом плаще человек с голубыми, как у младенца, глазами и колючей густой бородой. Сидевшие за столом офицеры говорили ему «ты», но величали уважительно, по имени и отечеству – Димитрий Иванович.
Фамилия его была Моргунов.
Это и было мое настоящее. В таком виде оно казалось мне особенно непонятным, и поэтому ему я долго сопротивлялся.
А потом была дорога сквозь тайгу. И были тропы, гораздо более трудные, чем те, по которым я шел раньше, и тяжелый груз за плечами. Где-то рядом, может быть, за ближайшими сопками пролегала она, моя прежняя дорожка. Не раз глядя в покачивающуюся впереди сутуловатую спину Моргунова, у меня возникало желание бросить все, нырнуть в кусты – и поминай как звали! И пускай после этого пишут, что «С. Карцев не оправдал доверия. С. Карцев не поддается перевоспитанию». Когда я буду далеко, мне все это будет до лампочки. Я бредил даже товарным вагоном. Красным товарным «пульманом», набитым ящиками с продуктами, который отвезет меня на Большую Землю…
Чем дальше уходил я от лагеря и от привычной жизни, чем труднее мне приходилось в этом моем первом, как назло, самом длинном переходе, тем сильнее одолевали мысли о побеге.
И может быть, все именно так и случилось, если бы не Арачи.
Мы встретили ее на одном из привалов. Измученный непривычной работой, я лежал на еловом лапнике, безразлично глядя в чужое холодное небо, и не мог найти в себе силы поднять руку и вытереть лицо, залепленное гнусом. Над стойбищем тучей стояли комары, глаза слезились от дыма костров, а из чумов несло запахом жареной оленины. Сквозь дремоту я вдруг увидел скуластое девичье лицо с черными, как агат, глазами и обнаженные в улыбке снежно-белые зубы.
Звякнув монистами, девушка присела на корточки и протянула мне большой кусок оленины:
– Ешь! Много ешь!
– Спасибо.
– Не надо «спасибо». Моргунов велел.
Кусок мяса застрял у меня в горле. Опять Моргунов! Положительно, без этого имени здесь нельзя ступить ни шагу! На краю земли, почти в восьмистах километрах от железной дороги, не было для людей лучше, надежнее и умнее человека, чем он. Если в стойбище заболевал эвенк или долго не могла разродиться женщина, шли, ехали, мчались к Моргунову. У него рация. Он разговаривает с летчиками, и летчики его слушают: в стойбище прилетает самолет и привозит доктора. В Моргунова верили, на него молились, как раньше молились деревянным эвенкийским божкам. Моргунова призывали, как раньше призывали доброго духа.
После я узнал, что наша остановка в стойбище Энмачи была неслучайной. Как бы там ни было, спустя полгода дорога к прошлому закрылась для меня навсегда.
В нашу первую встречу я вряд ли произвел на Арачи впечатление. В нашей партии были лучше, сильнее и красивее меня. Да и я, признаться, больше был занят куском оленины, чем разглядыванием ее длинных кос с привешенными к ним побрякушками. Однако кое-что я все-таки успел заметить…
Когда, дня через три, на другой стоянке Моргунов передал мне изящно сделанный из кусочков разноцветной кожи кисет, мне было приятно.
Моргунов, явно играя простачка, говорил:
– А я, понимаешь, сначала не понял, чего она мне в руку сует. Потом разглядел. «Спасибо», – говорю. А она рукой машет и в твою спину пальцем тычет. Так что получай. Извини, что сразу не отдал. Забыл. Не те годы…
Отдохнувшие и немного осоловевшие от обильной еды, ехали мы вверх по Туре, которая в нижнем течении называется почему-то совсем по-другому – Кочечум. Ехали к своей призрачной мечте. Там, возле отметки 240, которую Моргунов поставил еще два года назад, и должна была начаться моя новая жизнь. Посылать или не посылать меня в экспедицию – было решено положительно перевесом только в один голос. И это был голос Моргунова. Он поручился за меня там, в комнате с красным столом, обещая сделать из меня человека. В это слово Димитрий Иванович вкладывал свое понятие.
Помнится, я сильно нагрубил ему. Совсем недавно это слово имело для меня другое значение. Кроме того, я думал, что Моргунов хлопочет потому, что не знает меня. Другое дело те, с красными околышами… Они-то знали, с кем имеют дело! Лихая слава Белого Волка докатилась и сюда, за шесть тысяч километров от Москвы. Ей не помешало даже убийство, совершенное мной восемь лет назад. Убийство, жертвой которого стал старый и авторитетный вор – гроза всех московских домушников, майданщиков, щипачей, краснушников и прочей мелюзги. Казалось бы, я совершил двойное преступление, ведь «законы» преступного мира запрещают вору поднимать руку на своего собрата! Однако кары не последовало. Пресловутые «законы», которыми нас запугивали авторитетные воры, оказались мифом. Вместо этого мне пришлось оправдываться перед другим законом – обыкновенным правосудием. И бывшие товарищи бежали от меня, как от огня, вовсе не из-за того, что я совершил. Они боялись стать моими подельниками. Они лгали следователю, рассказывая обо мне небылицы. И я возненавидел их так же, как их пресловутые «законы». В обществе, где вместо анархии все подчинено единым правилам и порядку, где даже за большие деньги нельзя купить полной независимости от общества, где нет частных капиталов и почти нет частной собственности и где каждый месяц жизни даже обыкновенного человека отражается в различных документах, мир профессиональных воров обречен на вымирание. Уже сейчас в этом мире остаются лишь законченные подонки, дегенераты, садисты и пропойцы. Остальные уходят.
Когда я впервые взял в руки деньги, заработанные честным трудом, когда купил себе одежду не надоевшего черного цвета, а ту, что понравилась, – красивую, теплую и удобную, а потом отметил это событие с рабочими, которые разрешили мне называть их друзьями, мне показалось, что я впервые по-настоящему счастлив. Это чувство еще долго не покидало меня. С ним я шел на работу, стоял в очереди за получкой, устраивался на ночлег в общежитии, играл в домино, смотрел кинофильмы в Туре. Это было счастье обновления. Одно время мне казалось, что ему не будет конца. Но потом пришло еще одно, оказавшееся сильнее прежнего. Ее звали Любовью. И тогда все, что было до этого, отошло на задний план.
Может быть, именно тогда я впервые взглянул на Моргунова с благодарностью…
Арачи
В нашу первую встречу мы не сказали друг другу и двух слов. Я не знал, что она придет.
Но она пришла.
За единственным окном моей землянки сгущались сумерки – время, когда одиночество кажется особенно скверным, когда нестерпимо хочется к людям. Все равно к каким, но только к людям! Так, наверное, тоскует одинокий олень, случайно отбившийся от стада.
Она без стука, словно в свой чум, вошла и остановилась на пороге.
– Здравствуй, Иргичи!
И свершилось чудо: в ее устах даже такая кличка прозвучала музыкой. Может, и прав Унаи: кличка – тоже имя, нельзя ненавидеть имя.
– Ты один?
В ее глазах растерянность.
– А я к тебе за солью. У нас в стойбище нет. У тебя ее, говорят, много. Целый мешок. Это правда? – не снимая парки, она нерешительно садится к огню. – А вот дед Павел сердится. Говорит: «Нельзя лизать камень!» Старенький дедушка!
Павел Панкагир – родной дедушка Арачи. Недавно ему перевалило за сто. Он единственный в стойбище не признает ничего современного. Старики говорят, давным-давно у него было оленей вдвое больше, чем сейчас во всем Энмачи…
Хотя Энмачи по старой памяти все еще именуют стойбищем, фактически, это давно уже поселок. Деревянные дома выстроены в ряд, магазин, баня – тоже, зато чумы стоят где попало. Дом и чум принадлежат одному хозяину. В домах живут зимой, в чумах – летом. Однако не все. Некоторые постоянно живут в домах, а в чуме готовят пищу.
Павел Панкагир живет только в чуме, а к дому, который ему подарил колхоз, не подходит и близко. Денег он не признает, за товары расплачивается шкурками соболей. Продавцы посмеиваются, но товары отпускают. Они от этого не в убытке. Все видят, что старика надувают, многие говорят ему об этом, но он не понимает. Докторов он тоже не признает, хотя и шамана Ярхве презирает, считая шарлатаном.
В прошлом году дед Павел заболел. Случилось такое впервые. Казалось бы, пустяковая болезнь – фурункулез – едва не стоила ему жизни. В организме не хватало соли. Но «лизать камень» Панкагир отказался наотрез, принимать у себя в чуме доктора – тоже. Усыпанный чириями, лежал на ложе из шкур и стонал. Время от времени приходила Арачи, поворачивала его с боку на бок, обмывала фурункулы теплой водой. Ей-то и поручил доктор ввести Павлу в вену соляной раствор. Трое сыновей держали его за руки и за ноги. Старик едва вынес такое насилие, но после этого стал быстро поправляться.
– Старенький он, – повторила Арачи и погладила оленью шкуру, лежащую на топчане. – Значит, ты здесь спишь?
Я все молчу, замирая от звука ее голоса. При свете огня ее пунцовые губы кажутся бледными, а черные глаза – еще глубже и таинственнее.
– А твои скоро придут? – спрашивает она, но ей отвечает только треск поленьев в печке. И она замолкает. У меня пересыхает в горле, как от сильной жажды. Она сидит, сжавшись в комок, такая маленькая, вся кругом меховая, в огромной пушистой шапке с длинными ушами, парке, унтах.
Я набираюсь храбрости и смотрю в ее глаза долго-долго. Мне начинает казаться, что я читаю ее мысли. Нет ничего легче читать мысли человека, который хочет того же, чего и ты. Кроме того, я вижу, что ей так же страшно, как и мне. Да, ей очень страшно. Она даже встает и смотрит на окно. Но за окном уже ночь.
Я молчу. Я очень не хочу, чтобы она уходила, но должен молчать. Так надо…
Она долго надевает парку, потом еще дольше натягивает рукавички. Лицо ее сосредоточенно и серьезно.
– Скоро твои друзья придут, – говорит она и поворачивается ко мне. – Тогда тебе не будет так скучно.
В ее глазах стоят слезы.
И тогда я встаю от огня.
Я только встаю, но она тотчас бросается ко мне. Мы оба молчим. Она не целует. Она только прижимается ко мне всем телом, и с каждой секундой все крепче.
– Скоро твои вернутся, – в который раз повторяет она, и голос ее становится хриплым, как у человека, который болен горячкой…
А за окном воет пурга. На стеклах мороз уже закончил рисовать новый, еще невиданный узор и сейчас покрывает его для прочности плотной снежной занавеской.
В моей землянке тепло, пахнет мокрой шерстью и печной глиной.
Если положить оленью шкуру на землю мехом наружу, можно не опасаться ни простуды, ни сырости…
…Потом мы долго сидим, прижавшись друг к другу, и опять молчим. Потом Арачи вскакивает, бежит к двери и начинает энергично развязывать, привезенные с собой потакуи[11]11
Потакуй – переметная сума.
[Закрыть].
В слабом свете затухающего огня ее обнаженное тело кажется отлитым из бронзы. Боже мой, как же она невероятно, сказочно хороша! Розовые, оранжевые, красные блики бесшумно скользят по ее коже, переливаются на маленькой, по-девичьи упругой груди, на сильных мышцах живота, округлостях ног.
Арачи замечает, что ею любуются, но вместо того, чтобы смутиться, неожиданно выпрямляется и подходит ко мне:
– Иргичи, тебе, правда, нравится Арачи?
И опять мы словно погружаемся в глубокое и прекрасное сказочное море, и теплые волны ласкают и нежат наши обнаженные тела…
Мы не скоро приходим в себя. Я бросаюсь разжигать давно потухшую печь, а Арачи снова принимается за свои потакуи. Она тащит их волоком через всю землянку ко мне и высыпает на оленью шкуру все свое богатство. Тут и куски мороженой оленины, и сырая печенка – лучшее лакомство эвенков, и вяленая рыба, и поколотые по краям круги замороженного молока, и морошка в деревянном туеске, и даже бутыль дешевого вина с ягодами клюквы на этикетке.
У Арачи узкий разрез глаз и широкие, как у Ивана Унаи, скулы. Вообще, они даже немного похожи. В Энмачи почти все жители находятся в дальнем или ближнем родстве.
– Говорят, что у моего прадеда было три жены и много-много детей…
Когда Арачи смеется, ее глаза становятся еле видными сквозь узкие разрезы.
– И еще он был маленького роста. Вот такой. Поэтому все Панкагиры такие маленькие.
Она лежит на шкуре, вытянувшись во всю длину, болтает ногами и грызет лепешку.
– А у тебя был прадед?
– Был. Наверное, был.
– Почему, наверное? Разве люди тебе ничего не рассказывали о нем?
– Какие люди?
– Жители твоего селения.
– Их было очень много. Я не успел всех расспросить…
– Сколько их было?
– Кого?
– Жителей.
– В три таких дома, как наш, уместилось бы все население вашего Илимпийского района.
Она тихо охнула.
– В нем было много этажей?
– Восемь. И шесть подъездов. Два подъезда почти целиком занимали военные с семьями.
– Твой отец был военный?
– Да.
– Говорят, твой отец погиб на фронте, а сам ты был вором. Это правда?
– Правда.
Она задумалась.
– Значит, то, что ты убил человека…
– Тоже правда.
Она замирает, сжавшись в комок, как от удара кнутом.
– А я думала, он врет. Нарочно говорит о тебе плохо.
– Кто «он»?
– Подожди… Ведь ты хороший, добрый… Моргунов говорил – честный.
– Врет Моргунов. Честных воров не бывает.
– Он сказал, ты справедливый.
– Не знаю…
Она мучительно искала какое-то оправдание преступлению, которое я совершил. Любовь в ее душе боролась с чувством презрения и негодования и постепенно изнемогала в этой борьбе. Если бы я принялся объяснять, как это случилось, начал бы оправдывать свой поступок, ее любви стало бы намного легче бороться. Но я не сделал этого. Не имел права да и не хотел. Жалости и снисхождения к себе я еще не заслужил.
Неожиданно лицо ее прояснилось, в глазах заблестели искры надежды.
– Я знаю… Нет, я думаю… Если ты убил человека, значит, это был плохой человек. Правда?
Она ищет мои глаза, стараясь хотя бы в них прочитать ответ, но все напрасно. Я сам себе судья, и я себя еще не простил.
И тогда она со страхом задает мне тот вопрос, который должен окончательно решить нашу судьбу:
– Скажи… когда ты вернешься домой… к себе в Москву… ты снова станешь вором?
– Никогда! – почти кричу я.
– Правду скажи. Не обманывай.
– Никогда! Слышишь? Никогда!
Она плачет. Она счастлива. Она прячет в моих ладонях залитое слезами лицо и повторяет: «Никогда, никогда, никогда…» Потом поднимает голову и зло смотрит в окно.
– Зачем он врет?
– Кто?
Она не отвечает, но я знаю, о ком она думает.
– Твой муж… Он куда-нибудь уехал сегодня?
Она вздрагивает и с минуту сидит неподвижно, нахмурив брови, закусив губу.
Сказка кончилась. В зале вспыхнул свет, и стали видны трещины на потолке, старые декорации, вылинявший задник из мешковины, зеленые грязные кулисы и чей-то раздавленный окурок у самой рампы…
С трудом удерживая слезы, Арачи перебирает пальцами свои косы, машинально отрывает одну за другой медные побрякушки и задумчиво бросает их в огонь. То, что было сегодня, вернее, вчера вечером и еще сегодняшней ночью, не повторится никогда. Будут встречи, будет еще много поздних вечеров и таких ночей, но сказки больше не будет. И не потому, что я вспомнил о Василии – рано или поздно о нем надо было заговорить, – просто обыкновенные сказки повторяются, а волшебные – никогда.
Арачи медленно одевается. Я молча подаю ей одежду и почему-то очень внимательно смотрю, что и как она надевает…
Сначала она надела меховые штаны и мужскую рубашку из грубого полотна, потом поверх рубашки – шелковую сорочку. На ноги – мягкие меховые чулки из шкуры молодого оленя, поверх которых – унты. Здесь, где морозы иногда достигают шестидесяти с лишним градусов, не выдерживает ни один материал. Даже романовская овчина деревенеет и лопается, и только верный олень даже после своей смерти продолжает служить человеку.
Когда надеты парка и шапка, и даже рукавички, она говорит:
– Василий уехал. Долго не вернется. В Туру за спиртом поехал. Еще сказал, что новое ружье купит. Прощай.
Значит, я напрасно разрушил нашу сказку. Но бесполезно теперь пытаться удерживать Арачи, бесполезно вставать у нее на пути, загораживать дверь. Она все равно уйдет.
– Я приду, – говорит она, – не бойся. Скоро приду. А сейчас пусти. Мне пора. Ты прав: нельзя забывать все на свете…
Я помогаю вытащить потакуи, приторочить их на спине оленя, помогаю ей сесть в седло, подаю в руки ружье. Через минуту они оба, олень и она, скрываются в темноте. Но долго еще в морозном воздухе слышится постепенно замирающий скрип снега под копытами Доя…
* * *
Сегодня мне особенно хочется видеть Арачи. Во время нашего последнего свидания она сказала, что Василий знает обо всех наших тайных встречах, и знает давно, с самого начала. Наша любовь больше ни для кого не секрет. В Энмачи поговаривают о скорой свадьбе, и при этом поглядывают на Арачи… Ничего не знает один Колька. Отца он боится, особенно когда тот пьян, но по-своему любит его. К «дяде Станиславу» относится по-прежнему дружески и очень ждет его прихода в поселок. Василий ненавидит всех и вся, но особенно люто – Белого Волка.
– Может, нам лучше уехать? – каждый раз спрашивает Арачи и с надеждой заглядывает мне в глаза. Я снова и снова начинаю объяснять ей, что такое контракт, но она снова не понимает и, опечаленная, уходит.
Сегодня впервые я могу сказать ей «да». Моргунов согласен отпустить меня «на все четыре стороны». Завтра или послезавтра, когда прилетит самолет, мы заберем Кольку, и через три часа будем в Туре. Оттуда по пятницам летает самолет в Норильск. Можно летать и к югу до Енисейска, но самолет туда ходит редко, особенно в такое время года.
Нужно только, чтобы Арачи с Колькой завтра были здесь. Для этого мне ее нужно увидеть сегодня. Обязательно сегодня!
Я надеваю телогрейку и снова выхожу на мороз.
В тайге почти совсем темно. На западе, там, где Москва, загораются звезды. Сегодня они особенно яркие и к тому же не мерцают. Значит, завтра метели не будет. Завтра может прилететь самолет. Только вот еще Млечный Путь… Он появляется перед ясной погодой. Мне очень-очень нужно, чтобы он появился сегодня!
От мороза схватывает дыхание. Градусов сорок пять уже есть. Что-то будет завтра?!
Я возвращаюсь в землянку, по дороге захватываю охапку дров и бросаю их в печь. К приходу Арачи здесь должно быть тепло и уютно. В ожидании пока разгорятся дрова, я снова забираюсь под теплые шкуры. Однако что-то тревожит меня, не дает успокоиться. Ах да, Василий!..
До сих пор мне так и не удавалось поговорить с ним по-человечески. Однажды я попытался это сделать и уже сообщил ему, что приду, но к моему приходу он напился, и разговора не получилось. Вместо этого мне пришлось обезоруживать его, а потом связывать. Защищаясь, я случайно слегка поранил ему руку его же собственным ножом. Тогда он стал кричать, что я хотел его зарезать.
Василий – сволочь, но у него «чистый» паспорт. Ему верят больше…
…И вторично Моргунову пришлось отстаивать меня перед людьми в фуражках с красными околышами…
А что если сейчас Моргунов согласился отпустить меня вовсе не из человечности, а потому, что ему надоело терпеть из-за меня неприятности? Что если ему дали понять, что против груза моего прошлого его красноречие и его авторитет могут оказаться бессильными?
Мое прошлое… Когда, случается, я вижу во сне отдельные отрывки из него, то просыпаюсь в холодном поту. Однако, если он исчезает после пробуждения, то воспоминания не исчезают никогда. Они всегда со мной: на работе, за обеденным столом, здесь, в землянке, около рации, на постели, на окне, у двери, в каждом углу. С ними я ложусь, с ними и встаю.
Они исчезают только с приходом Арачи, но стоит ей уйти, как они появляются вновь.
То место, где я однажды сбился с пути, находится слишком далеко. Я был тогда мал ростом, носил длинные, не по росту, солдатские штаны и огромные солдатские ботинки, подвязанные вместо шнурков веревочками.
Тогда я впервые украл, потому что был голоден.
* * *
Я не помню своей матери. Единственным близким человеком для меня был отец. Почему мы столько лет жили вдвоем? Наверное, на этот вопрос мог бы ответить только он сам. В нашем доме не было даже портрета родившей меня женщины. Когда я однажды уже не попросил, а потребовал ответа, он понял, что я имею на это право, и сказал: «Если хочешь и дальше оставаться мне другом, не спрашивай меня больше о ней». В тот день впервые выяснилось, что мы с отцом имеем одинаково упрямые характеры. «Ну хорошо, – сказал он. – Если ты настаиваешь, я скажу, но это – в последний раз. Она бросила нас с тобой, когда тебе было восемь месяцев от роду. Ты знаешь, родных у меня нет, ее родные виновником развода считали меня… Я порвал с ними и стал воспитывать тебя один. Если тебе надоело со мной – поезжай к матери. Для этого я разыщу ее адрес». Но я не поехал. В бумагах отца я нашел письмо… Ее письмо, в котором она отказывалась от меня и советовала отцу поскорее жениться… На письме стоял штамп города Ленинграда. Больше я никогда не заговаривал о ней.
Отец был не совсем точен, говоря, что воспитывал меня один… В этом нелегком труде участвовал весь полк. Большую часть своей жизни, начиная с младенчества, я проводил либо в казарме, либо на плацу или поблизости от него. Моими первыми игрушками были пустые ружейные масленки, гильзы, портсигары, деревянные безделушки, которые мне мастерили красноармейцы.
Питался я тоже, чаще всего, в казарменной столовой, сидя за отдельным столиком в углу. Отца видел редко, он был все время страшно занят, и со мной возились все, кто был более или менее свободен. Самыми свободными в армии бывают сапожники, конюхи и ординарцы.
Кажется, это все происходило в Средней Азии, где в то время стоял полк. По крайней мере, в моих ранних воспоминаниях песчаные барханы, верблюды и симпатичные маленькие суслики занимают не так уж мало места…
Следующее наиболее яркое воспоминание – это большой шумный город, улицы, полные народа, высокие многоэтажные дома, железные прутья балкона, с которого виден весь город и чудесная белая ванна с блестящими кранами, в которых отражается сильно вытянутое лицо какого-то мальчика…
Вероятно, мне было года три, когда отца перевели служить в Минск.
Когда я пошел в детский сад, отец начал преподавать мне первые уроки бокса. Он не хотел, чтобы его сын приходил домой с разбитым носом. А когда я учился в третьем классе, он сам отхлестал меня ремнем за то, что я не заступился за товарища, который был слабее меня и которого на моих глазах отлупили ни за что, ни про что. При этом он не захотел слушать моих объяснений, касающихся того, что мальчики были старше меня.
В другой раз я, разумеется, поступил иначе. Помогая мне справиться с кровью, хлеставшей из носа, отец довольно говорил:
– Человек в своей жизни должен непременно познать истинную цену трем вещам – хлебу, крови и… любви.
Тогда я думал, что это относится только к моему разбитому носу…
Когда началась война, я находился в пионерском лагере к юго-востоку от Минска. В тот день в нашем лагере не было ни подъема, ни линейки, ни даже завтрака. Часов с шести начали прибывать мамаши и бабушки, и даже папы с глазами, расширенными от страха. К полудню стали приходить военные машины. Они сажали детей и увозили.
Когда пришла очередь нашей палаты, я спрятался в кустах. А когда все машины ушли, вылез оттуда и поспешил в Минск.
Я еще надеялся застать отца дома. И конечно, опоздал. Наш город бомбили в четыре утра, а моего отца вызвали в полк с вечера. Об этом мне рассказали соседи. Понятно, ему не пришло в голову оставить записку.





